Текст книги "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века"
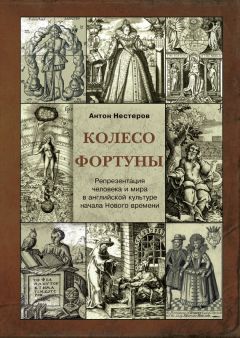
Автор книги: Антон Нестеров
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Акцентуация амбивалентности королевской власти в портрете, написанном по заказу Генри Ли, отнюдь не случайна. Судя по всему, этот портрет был своего рода «прошением о помиловании», адресованным вассалом своей владычице. Дело в том, что с 1590 г., когда умерла его жена, сэр Генри открыто жил в поместье со своей любовницей Анной Вавасур, и это могло навлечь на него высочайший гнев королевы. Видимо, именно с этим связана инскрипта «Может, но не наказывает», о которой говорилось выше.
Тем самым перед нами портрет, написанный «по поводу», однако повод этот весьма своеобразен.
Насколько такой портрет отличается от репрезентативного портрета мы увидим, если сравним полотно Маркуса Гирартса с анонимным портретом Елизаветы, также выполненным в 90-е гг., где Елизавета представлена в платье с вышитыми на нем зверями и травами, характерными для Англии. Репрезентируя Елизавету как богиню плодородия, от которой одной зависит процветание страны, портрет возвещает, что королева есть персонификация Англии (ил. 19).
Еще ярче об этом свидетельствует атлас Англии, изданный в 1579 г. Кристофером Секстоном[201]201
Saxton C. An atlas of England and Wales: the maps of Christopher Saxton; engraved 1574–1578 / Introduction by R. V. Tooley. Maps are engr. by Augustine Ryther, Remigius Hogenberg, Leonard Terwoort, Nicholas Reynolds, Cornelius Hogius, and Francis Scatter. L., 1979. Faximile edition.
[Закрыть] под патронажем Томаса Сэкфорда, чиновника по особым поручениям Ее Величества, с высочайшего одобрения королевы. Издание этого труда под высочайшим надзором королевы, освященное ее именем, имело важный идеологический эффект: атлас задавал единое поле для местной, национальной и династической идентификации населения Англии.[202]202
Helgerson R The Land Speaks: Cartography, Chorography, and Subversion in Renaissance England // Representing the English Renaissance / Ed. by Stephen Greenblatt. Berkley; Los Angeles; L., 1988. P. 327–361.
[Закрыть] На фронтисписе атласа мы видим королеву, восседающую на троне со скипетром и державой. Фигуру Елизаветы фланкируют две аллегорические фигуры, олицетворяющие географию и астрономию (тем самым заявлялась и связь картографии и навигации,[203]203
Отметим, что издание этого атласа было частью широкой программы, во многом инициированной близким к королеве астрологом и математиком Джоном Ди. (В частности, именно Ди, путем составления гороскопа, определял день коронации Елизаветы.) В 1577 г. он публикует «Всеобщее и подробнейшее изложение совершенного искусства навигации», где навигационные таблицы соседствуют с подробными планами морской экспансии Англии, призванными послужить к «вящей славе Ее Величества Государыни нашей Императрицы Елизаветы».
[Закрыть] а Англия «вписывалась» в широкий контекст obris habitatum). Изображение на фронтисписе доминирует над текстом: сами сведения о книге – «что это такое» – набраны чрезвычайно мелко. Читателю зримо дают понять, что Елизавета есть само воплощение Англии, более того – такая композиция фронтисписа исходит из того, что такое понимание у читателя уже присутствует, и он безошибочно идентифицирует нужный ему атлас с фигурой государыни, на нем изображенной.
Здесь любопытно сравнить фронтиспис Секстоновского атласа с фронтисписом первого издания хорографической поэмы Майкла Драйтона «Поли-Альбион» (1612) (ил. 20).

Кристофер Секстон. Атлас Англии и Уэлльса. Фронтиспис. Лондон, 1579
Поэма, насчитывающая тридцать песен, была попыткой изложения истории Англии, неразрывно слившейся с географией: описания природы и достопримечательностей отдельных городков и графств перетекали в повествование о событиях прошлого, образуя своеобразный национальный эпос, опирающийся на локальную память. При этом важно, что Драйтон, чей поэтический расцвет приходится на времена правления короля Иакова, куда больше – поэт елизаветинской эпохи, чувствующий с ней глубочайшее родство и находящийся в сложной оппозиции к духу времени. Фронтиспис является своеобразной парафразой на изображение, открывающее атлас Секстона. В центре у Драйтона изображена сидящая на троне аллегорическая фигура Великобритании, одеяние ее воспроизводит карту страны, а поза явственно повторяет позу королевы у Секстона, причем жезл и рог изобилия в руках подчеркивает это сходство, напоминая о скипетре и державе. По углам мы видим мужские фигуры, олицетворяющие четырех «парадигматических» правителей острова: мифического племянника троянца Энея Брута, римлянина Цезаря, сакса Хенгиста и Вильгельма Завоевателя.[204]204
Helgerson R. Op.cit. P. 336–340.
[Закрыть] Это изображение маркирует важный сдвиг, произошедший в восприятии за два десятилетия, которые отделяют портрет Елизаветы при ее посещении Дитчли и работу анонимного художника, изобразившего королеву в платье с флорой и фауной Англии, от «Поли-Альбиона» Драйтона. Во времена Елизаветы национальная идентификация жителей Англии была связана для них с фигурой королевы, выступавшей как персонификация и страны, и власти. Во времена же короля Иакова единый комплекс страна-властитель начинает подвергаться серьезной эрозии, что позже приведет к революции и процессу над Карлом I.
Но в елизаветинскую эпоху Власть и ее носитель априорно рассчитывали на доверие со стороны подданных – и на этом выстраивали свою риторику.
Весьма характерен в этом отношении «Портрет королевы Елизаветы с горностаем», написанный Уильямом Сигаром в 1585 г. Королева изображена в темном платье, богато украшенном золотой вышивкой и драгоценными камнями, среди которых преобладают красные рубины, отсылающие к геральдической розе Тюдоров (белый центр – цвет Йорков, алые края – цвет Ланкастеров). Левый локоть королевы покоится на столике, где лежит королевский меч. О кисть королевы опирается лапками горностай в золотом ошейнике, по форме напоминающем корону (ил. 21).

Леонардо да Винчи. Дата с горностаем. 1489–1490. Музей Чарторыйских, Краков
Для современного зрителя зверек на этом портрете предстанет, скорей всего, либо неким декоративным элементом, либо – экзотическим любимцем королевы.
На подобную мысль наводит и написанный Леонардо да Винчи портрет Чечилии Галлерани, известный как «Дама с горностаем» (1489–1490).
Молодая женщина на этом портрете держит на руках крупного горностая, вполне миролюбивого, явно к этому привыкшего… На основании портрета историки быта порой говорят о том, что носить с собой этих зверьков было в ту эпоху модным поветрием, особенно в Италии. Объяснялось это якобы гигиеническими соображениями: и простолюдины, и знать в ту эпоху страдали от вшей и блох, а эти паразиты реагируют на тепло – и так как у горностаев температура тела выше, чем у человека, то насекомые переползали на зверьков, что избавляло их хозяев от укусов и зуда.
Однако если посмотреть на эти два портрета в ряду других живописных полотен, на которых представлен горностай, мы увидим – раз за разом это оказывается связано с определенными символическими смыслами.
В XV в. в Италии становятся популярными картины, вдохновленные поэмой Петрарки «Триумфы» (1370).[205]205
Особой популярностью эти сюжеты пользовался при расписывании свадебных сундуков-кассоне – укажем на работы Франческо Пезеллино (ок. 1450, музей Стюарта Гарднера, Бостон), Франческо ди Джорджиа (ок 1475, Фонд Маркванда). К петрарковским «Триумфам» обращались Лука Синьорелли (фреска из Палаццо Магнифицо в Сиене (ок. 1509), ныне в Национальной галерее, Лондон), Лоренцо Коста, Ло Скеджа, Пьетро Перуджино, и др.
[Закрыть] Шесть частей этой поэмы, описывающей сон, привидевшийся Петрарке в Воклюзе, последовательно повествовали о победе любви над человеком, целомудрия над любовью, смерти над целомудрием, славы над смертью, времени над славой и вечности над временем. На картине Франческо Песселино «Триумф Целомудрия» (1450) процессию невинности, восторжествовавшей над Амуром, который пленен ей и заключенный в оковы, сгорбившись, сидит на краю колесницы, предваряют девы со знаменем на котором изображен белоснежный горностай.
Подобное же знамя с горностаем мы видим и на картине Якопо дель Селлайо, написанной на аналогичный сюжет (ок. 1470 г.).
В средневековом и ренессансном сознании горностай ассоциировался с чистотой и невинностью: считалось, что горностай умирает, если запачкает свою белую шкурку. Это представление восходит еще к античности и раз за разом повторяется в средневековых бестиариях, берущих начало от «Физиолога». Петрарка прекрасно знал эти тексты, они же предопределяли символику средневековой геральдики, так называемый «соболиный» или «горностаевый» цвет гербового щита, указывающий на чистоту помыслов владельца герба. Отсюда – появление горностая на знамени, которое несут девы перед триумфальной процессией Невинности на картинах Песселино и Селлайо.[206]206
Bernardo Aldo S.Petrarch, Laura, and the Triumphs. Albany, 1974. P. 118–120.
[Закрыть]

Франческа Песеллино. Триумф Любви, Целомудрия и Смерти. Ок. 1450. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон.
Но если на этих двух полотнах итальянских художников изображение горностая является своеобразным геральдическим значком и, существуя внутри аллегории, подразумевает вполне однозначное толкование, то на портрете королевы Елизаветы работы Сигара и леонардовской «Даме с горностаем» все обстоит гораздо сложнее. У Сигара горностай наделен двойственным смыслом: с одной стороны, он призван подчеркнуть целомудрие королевы-девственницы, а с другой – он выступает как атрибут власти, указывающий на ее беспорочность.

Якопо де Силайо. Триумф Целомудрия. Ок. 1470. Музей Балъдини, Фьезоле
Что касается портрета Чечилии Галлерани кисти Леонардо, для его понимания важно учитывать целый ряд фактов. С одной стороны, Зверек, чье греческое название, γαλη, созвучно фамилии Галлерани, является отсылкой к родовому имени модели. С другой стороны, в момент написания портрета Чечилия была любовницей герцога Людовика Сфорца и вынашивала его ребенка. Горностай, которого держит на руках молодая женщина, как бы указывает: связь с герцогом вовсе не пятнает ее. (Подтверждением тому, что Леонардо прекрасно знал легенду о горностае, служит его рисунок «Аллегория горностая», хранящийся в музее Фитцуильяма, в Кембридже.[207]207
Zollner Frank. Leonardo. Koln, 2000. S. 45.
[Закрыть]) Кроме того, важно, что Людовико Сфорца был членом Ордена Горностая, основанного Фердинандом I, и это наделяло портрет еще одной аллюзией: Чечилия как бы сжимала в объятиях своего любовника.[208]208
Hall James. The Sinister Side. How left-right Symbolism shaped the Western Art. Oxford, 2008. P. 255.
[Закрыть] Мы видим, что символ здесь вмещает в себя амбивалентные значения, одновременно акцентируя целомудрие и эротичность, не претерпевая при этом никакого ущерба.
Именно это свойство символов – текучесть их наполнения, зависящая и от контекста, и от воображения того, кто их созерцает, порождает проблемы интерпретации. Символ всегда – пульсация смыслов, часто – весьма разнородных. Характерно, что одно из английских наставлений в помощь проповеднику XIV в. давало 16 истолкований образа павлина, а средневековый богослов Петр из Поитеры (ок. 1130–1215) подчеркивал, что символ может совмещать противоположные значения – так, лев олицетворяет Христа, ибо ему неведом страх, но ярящийся лев указывает на дьявола.[209]209
Cage, John. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkley, Los Angeles, 1993. P. 83.
[Закрыть]
Ренессансу в принципе свойственно стремление к умножению смыслов и сопряжению достаточно далеких уровней восприятия. Вкус к символике Возрождение унаследовало от позднего Средневековья, но при этом произошла определенная трансформация: Средневековье стремилось выстроить иерархию смыслов, восходя от буквального значения через аллегорию к моральному, а потом анагогическому истолкованию, которое, пользуясь формулой Данте, «через вещи означенные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе»,[210]210
Данте, А. Собр. соч. В 5 т. Малые произведения: Пир. О народном красноречии. Монархия. Т. 5. М., 1996. Пир. II, 1.
[Закрыть] тогда как Возрождение предпочитало соположение смыслов. Средневековое восприятие стремилось организоваться как храм, ренессансное – как кунсткамера, где объекты взаимодействуют друг с другом, друг на друга «кивают», но при том остаются достаточно автономны.
Характерно, что именно на пике Возрождения возникает мода на эмблемы. Сборники emblemata аккумулировали в себе некоторые сущностные черты ренессансного мышления, превратившись в своеобразные компендиумы образов той эпохи, к которым обращались многие живописцы.[211]211
Нестеров А. Иконография и поэзия, или Комментарий к некоторым текстам Мандельштама, написанный на основе emblemata/ Новое литературное обозрение. 2004, № 67 (3 2004). С. 138–139.
[Закрыть] По всей видимости, именно один из этих сборников, а именно – «Иллюстрированные девизы»[212]212
Le imprese illustri del signor Jeronimo Ruscelli: aggiuntovi nuovam il quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo… Reprod. de l'ed. de Venetia: appresso Francesci de Fracescri, 1584. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k592659.r=.langEN. Дата обращения 1507.2014.
[Закрыть] (1584), составленный Иеронимом Рускели, послужил толчком, заставившим Уильяма Сигара изобразить на портрете королевы Елизаветы горностая в качестве одного из атрибутов власти.[213]213
Strong Roy. The English Icon: Elizabethan & Jacobean Portraiture. London, 1969. P. 34–35.
[Закрыть] Среди прочих у Рускели упоминается эмблема Федерико де Монтефельтро, герцога Урбинского (1422–1482), изображавшая горностая, с девизом «non mali» (т. е. – никогда не запятнаюсь).[214]214
С другой стороны, о том, что легенда о горностае была хорошо известна в Англии, свидетельствует упоминании ее в Первой книги «Аркадии» (1590) Филипа Сидни, где рассказывается о рыцаре Клитофоне, вставшем на защиту королевы Елены и избравшем своим девизом тот, что был начертан на портрете Елены: «It was the Ermion, with a speach that signified, Rather dead then spotted»(«To был горностай, слова же гласили: „Скорее умру, чем испачкаюсь“) – The Complete Works of Sir Philip Sydney. Ed. By A. Feuillerat. Cambridge 1912–1926. Vol. 1. P. 65.
[Закрыть] Мог это быть и более ранний сборник другого итальянца – Паоло Джиово – «Диалог об импрессах», впервые изданный в 1556 г. и потом неоднократно перепечатывавшийся, причем не только в Италии, но и за ее пределами, где помещена эмблема, обыгрывающая легендарную практику охоты на горностая, когда норку зверька обкладывают грязью и тот, боясь испачкать шкурку, не решается спрятаться от охотников, в силу чего становится легкой добычей.[215]215
Giovio Paolo. Dialogo dell'imprese militare et amorose. Lyon, 1574. P. 36.
[Закрыть] На эмблеме с девизом «Malo mori quam foredari» (Лучше умереть, чем запятнаться) изображен горностай в кольце грязи, которое он не может переступить – в воздухе над зверьком парит корона.
Этот же девиз мы встречаем на картине Витторе Карпаччо «Молодой рыцарь на фоне пейзажа» (1510) (собрание Тиссена-Борнемиса), рядом с изображением горностая в зарослях травы в левом нижнем углу (ил. 22).
Как полагает большинство исследователей, изображен Франческо Мария делла Ровере (1490–1538).
Атрибутация персонажа портрета сделана на основе геральдического одеяния всадника на заднем плане картины и фамильного девиза герцогов делла Ровере.[216]216
См. об этом также: Giovio P., Symeoni G. Le Sententiose Impresse. Lyons, 1561.
[Закрыть] Выдвигается предположение,[217]217
См., в частности: Strong R. The English Icon: Elizabethan & Jacobean Portraiture. L., 1969. P. 34–35.
[Закрыть] что при создании портрета Сигар мог также опираться на описания эмблем из книги «Иллюстрированные девизы» (1584), составленной Иеронимом Рускелли,[218]218
Ruscelli J. Le impresse illustri del signor Jeronimo Ruscelli: aggiuntovi nuovam il quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo… Reprod. de led. de Venetia: appresso Francesco de Fracescri, 1584.
[Закрыть] где среди прочих присутствует эмблема Федерико де Монтефельтро, герцога Урбинского (1422–1482), изображавшая горностая, с девизом «поп mai» («никогда»).

Иероним Рускелли. Иллюстрированные девизы. Венеция 1584
Характерно, что горностай упоминается и Филипом Сидни в Первой книге «Аркадии» (1590), где рассказывается о рыцаре Клитофоне, вставшем на защиту королевы Елены и избравшем своим девизом тот, что был начертан на портрете Елены: «It was the Ermion, with a speach that signified, Rather dead then spotted» («To был горностай, слова же гласили: „Скорее умру, чем испачкаюсь“»).[219]219
The Complete Works of Sir Philip Sydney / Ed. by A. Feuillerat. Cambridge, 1912. Vol. 1. P. 65.
[Закрыть]
Заметим, что у Карпаччо и Сигара горностай на портретах выполняет несколько различные функции. У Карпаччо горностай не сразу обращает на себя внимание зрителя – затерянный в траве, он свидетельствует о качествах, присущих глубинам натуры портретируемого рыцаря. У Сигара же горностай вынесен на передний план и подчеркнуто изображен рядом с королевским мечом, вручаемым во время коронации и олицетворяющим обязанность суверена защищать право и карать несправедливость.[220]220
Укажем на еще одну «политически акцентированную» деталь, представленную на портрете Сигара: на груди у Елизаветы зритель видит подвеску со знаменитыми рубинами «Три брата», в свое время принадлежавшую Бургундскому дому, а позже, через базельских банкиров выкупленную Английской короной. (См., в частности: Strong R. Three Royal Jewels: The Three Brothers, The Mirror of Great Britain and The Feather // Idem. The Tudor and Stuart Monarchy. Pageantry, Painting and Iconography. Woodbridge, 1998. P. 69–74; Norris H. Costumes and Fashion. The Tudors. L., 1938. Vol. П.). Подвеска эта была призвана подчеркнуть амбиции Елизаветы, связанные с влиянием Англии на континенте, в частности – во Франции.
[Закрыть] Тем самым горностай выступает атрибутом власти, в котором явлена ее непорочность.
Несколько иначе непорочность помыслов королевы обыгрывает так называемый «Портрет Елизаветы с ситом» работы Федерико Цуккари 1580 г. (ил. 23). Согласно легенде, широко известной по поэтической переработке Петрарки, римская весталка Туккия доказала, что она чиста и непорочна, принеся воду в сите – при этом ни капли воды не упало на землю. Тем самым сито в руке королевы на портрете является атрибутом чистоты. Впервые эту аллегорию использовал Джордж Гувер в портрете Елизаветы, написанном годом раньше. Цуккари усложнил композицию Гувера, где королева была изображена на темном фоне, а над ее правым плечом из темноты проступало что-то вроде портретного «окна», в котором располагался темный шар, ассоциируемый с глобусом – и с державой римских императоров. Над ним шла надпись: «TVTTO VEDO & / MOLTO MANCHA» («Я вижу все и / многого недостает»).
У Цуккари королева стоит на фоне дворцовой колоннады, в которой разворачивается какое-то празднество, – видно развлекающихся придворных – но на лице королевы царит отрешенность, она чужда этой суете. За плечом Елизаветы – колонна, а на ней в медальонах изображены сцены благочестивой жизни и атрибуты власти. Внимание зрителя при этом привлекает корона римских императоров в медальоне, находящемся точно над локтем Елизаветы.[221]221
Strong, Roy. Coronation. Fron the 8th to the 21st Century. London, New York, Toronto and Sydney, 2005. P. 228–229.
[Закрыть] Имперские амбиции королевы подчеркнуты и находящимся слева за ее спиной глобусом, где Англия особо выделена падающим прямо на нее лучом света – остров как бы окружен сиянием славы, предназначенной самим Провидением, что дополнительно акцентируется идущей по экватору глобуса надписью «TVTTO VEDO & / MOLTO MANCHA» («Я вижу все и / многого недостает»). Жемчужное ожерелье подчеркивает возвышенность помыслов королевы – жемчуг всегда был символом чистоты.

Джордж Гувер. Елизавета I с ситом. 1579. Частная коллекция
В чем-то близок этой работе Цуккари «Портрет Елизаветы I с семью добродетелями», написанный неизвестным художником по заказу магистрата города Дувра в 1598 г. Портрет особо акцентирует непорочность помыслов королевы (ил. 24).
Елизавета представлена на портрете именно как глава государства, облаченная в мантию, в которой монарху надлежит являться перед Парламентом. На аллегорической колонне за правым плечом королевы изображены в медальонах три богословских (Вера, Надежда, Любовь) и четыре кардинальных (Справедливость, Благоразумие, Умеренность и Мужество) добродетели. Вера в верхнем медальоне держит в рука книгу; Надежда чуть ниже, слева, опирается на якорь; Любовь в правом верхнем медальоне кормит грудью детей; Справедливость в центре держит в руках меч и весы; справа от нее Умеренность наливает чашу из кувшина; слева – Благоразумие с устремленным в небо взором; внизу – Мужество, несущее столп истины.
Символическая нагруженность украшений на портретах Елизаветы представляет для нас особый интерес.
На так называемом «Портрете из собрания Дарнли» работы неизвестного художника на правой руке Елизаветы мы видим драгоценную розетку, с рубином и изумрудом в центре, окруженную искусно сделанными фигурками Юпитера, Миневры, Марса, Венеры и Купидона – этот аксессуар призван напомнить зрителю о классической образованности королевы, гордившейся своей латынью (ил. 27).
Заметим, что украшения на парадных портретах всегда носят репрезентативный характер. Механизм такого рода репрезентации обнажают камеи или медальоны с изображениями Елизаветы I, присутствующие на портретах ее придворных. Такую камею мы можем видеть на портрете лорда-канцлера сэра Кристофера Хэттона работы неизвестного художника (полное воспроизведение см. стр. 208), портрете сэра Фрэнсиса Уолсингама и др.
Украшения с изображениями Елизаветы (ил. 28) подчеркивали верность владельца королеве, что после папской буллы 1570 г., отлучавшей Елизавету от лона церкви, приобрело особую актуальность. Порой такие украшения дарились самой королевой тем, кто имел особые заслуги перед короной: в 1588 г. сэру Фрэнсису Дрейку за разгром испанского флота было преподнесено так называемое «Ожерелье Армады» работы Николаса Хилльярда. На медальоне в центре этого ожерелья был изображен портрет Елизаветы, а на внутренней стороне крышки медальона – Феникс, восстающий из огня. Эти украшения подчеркивали не только лояльность их владельца английской короне, но и его особое положение при дворе.[222]222
Dalton K. C. C. Art for the Sake of Dynasty. The Black Emperator in the Drake Jewel and Elizabethan Imperial Imagery // Early Modern Visual Culture. Representation, Race and Empire in Renaissance England / Ed. P. Erickson, С. Hulse. Philadelphia, 2000. P. 178–179.
[Закрыть]

Неизвестный художник. Сэр Кристофер Хэттон. (Деталь). Собрание Национальной портретной галереи, Лондон. Экспонируется в музее Лондона

Джон де Криц Старший (?). Сэр Фрэнсис Уолсингам. Ок. 1585
II. «…нет нужды говорить, что птицы Феникс не существует в мире сем…»
Зимой 1623 г. настоятель лондонского собора Св. Павла и капеллан Его Величества короля Иакова I Джон Донн слег в постель с приступом тяжелейшей «лихорадки». Современные медики утверждают, что, судя по всему, то был возвратный тиф, среди симптомов которого – бессонница, бред, полный упадок сил и сильные боли во всем теле. На пятый или седьмой день наступает кризис, но даже если он миновал, сохраняется опасность последующего рецидива, приводящего, как правило, к смертельному исходу. Фактически чудом Донн выжил. А опыт своей болезни описал в «Обращениях к Господу в час нужды и бедствий, подразделенных на медитации о жребии человеческом, увещевания и тяжбы с Богом и молитвы, взывающие к Нему из пучины бедствий моих». Этот текст, написанный на грани смерти, в полубреду, когда высокая температура и близость конца заставляют сознание работать с невиданной скоростью, стал одним из ярчайших документов эпохи, объединив под своей обложкой личный дневник, медицинский бюллетень, философский труд, богословский трактат и молитвенник.
«Пороговая ситуация», в которой создавались «Обращения к Господу…», с одной стороны, диктовала чрезвычайную плотность и насыщенность текста; с другой – автор не мог не отдавать себе отчета, что сознание, работающее в «пограничном режиме», обладает известной центробежностью – любая ассоциация стремится разрастись до бесконечности, а потому нужно ограничить себя рамками жесткой структуры.[223]223
В связи с этой «структурностью» донновских «Обращений к Господу…» вспомним и слова АВ. Михайлова об общих свойствах поэтики барокко (несомненно, присущей Донну): «Репрезентируя мир в его тайне, произведение эпохи барокко тяготеет к тому, чтобы создавать второе дно – такой свой слой, который принадлежит, как непременный элемент, его бытию; так, в основу произведения может быть положен либо известный числовой расчет, либо некоторый содержательный принцип, который никак не может быть уловлен читателем и в некоторых случаях может быть доступен лишь научному анализу…» – Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи/ Михайлов АВ. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. С.121.
[Закрыть] Донн разбил текст «Обращений к Господу…» на 23 триады,[224]224
О символике самого числа «23» – внутри донновского трактата см.: А. Нестеров. Джон Донн и его «ars moriendi»/Джои Доим. По ком звонит колокол. М: Aenigma, 2004. С. 5–20.
[Закрыть] соответствующих стадиям его болезни; каждая из триад состояла из медитации, увещевания и молитвы. В «увещеваниях» в полной мере проявился дар Донна-священника – в них читатель сталкивается с блестящей экзегетикой, проникнутой глубочайшей страстью; «молитвы» – вопль Донна-верующего о спасении; что до «медитаций», то здесь нашло отражение все пестроцветие мира, волнующее Донна: написанные в той же свободной философской манере, что и «Опыты» Паскаля, эти медитации, каждый раз отталкиваясь от ситуации, связанной с болезнью Донна, «развертываются» в размышления о структурах мироздания, границах мира, «месте человека во Вселенной»…
В «Медитации V» мы встречаемся со следующим рассуждением:
«Пусть болезнь – сама величайшее из несчастий, но величайшее несчастье, выпадающее нам в болезни, – одиночество; – ибо те, кто мог бы нас поддержать, нас избегают, опасаясь заразы: даже врач, и тот идет к больному с трепетом, перемогая себя. Одиночество – мука, которой не грозят нам и глубины Преисподней. <…> что ближе к пребыванию в абсолютной пустоте, чем одиночество, когда ты – один, совершенно один; разве любезно это Природе или Господу? <…> я болен, и при том заразен: единственное избавление для окружающих – удалиться и оставить меня в одиночестве. Великие мира сего – у них есть оправдание: они притворствуют, что милосердны, – но сама мысль о посещении больного им отвратительна; есть оправдание и для тех, кто в чистоте сердца хотел бы придти, но их сдерживает запрет: ведь придя, они могут стать переносчиками заразы, превратиться в орудия болезни. Так больного объявляют вне закона, он отлучен, изгнан; он не только оказывается вне общества с его законами вежества – даже права деятельного милосердия не распространяются на него. <…> Помыслите только – сам Господь есть прообраз Общества: Он един, но в Нем – три Лика; разве все проявления Его не свидетельствуют о любви к Обществу и общине? В Небесах есть Ангельские Легионы и Сонмы мучеников – в Доме Том много обителей[225]225
Ср.: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам» (Ин. 14, 2).
[Закрыть]; на земле же – семьи и города, церкви и коллегии: все они существуют как множества <…>. Ангелы же, которые сотворены так, что не умножают и не преумножают род свой, изначально были созданы изобильны числом; то же верно и в отношении звезд; однако все создания, принадлежащие миру дольнему, получили в благословение слова: плодитесь и размножайтесь;[226]226
Ср.: «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Быт. 1, 22).
[Закрыть] ибо, полагаю, нет нужды говорить, что птицы Феникс не существует в мире сем: нет ничего, что существовало бы само по себе, только в своей единичности. Человек, верный Природе, далек от того, чтобы думать, будто есть в мире что-то, существующее как единичное<…>, ибо и Бог, и Природа, и Разум сообща восстают против этого».[227]227
Донн Джон. Обращения к Господу в час нужды и бедствий/ Донн Джон. По ком звонит колокол. М: Aenigma, 2004. С. 76–77. Курсивные выделения принадлежат самому Донну.
[Закрыть]
Внимательный читатель этого пассажа не может не почувствовать, что в какой-то момент здесь происходит своего рода сбой, «разрыв непрерывности». Казалось бы, логика, согласно которой образы этой медитации выстраиваются один за другим, достаточно ясна: начиная с одиночества, на которое обрекает болезнь (в подтексте здесь отсылка к ветхозаветным законам об изгнании прокаженных из стана – см. Левит, гл. 13 и 14), Донн переходит к ритуалу посещения страждущих королем, в основе которого – вера в исцеляющую силу королевского прикосновения, но вновь возвращается к тому, что одиночество противоестественно для человека, и само мироздание сотворено так, чтобы человеку был помощник. И после этого рассуждения почему-то упоминается птица Феникс…
Сама лапидарность этого упоминания свидетельствует: Донн касается здесь чего-то очевидного, не нуждающегося в детализации, и на первый взгляд, вводная формула «нет нужды говорить, что…», подтверждает это. Но иногда такого рода «скачок» через «ступеньку доказательства» указывает: автор не очень-то в этой ступеньке уверен и подозревает, что, наступи он на нее всей тяжестью, она рухнет, а вместе с ней рухнет в пропасть и повествователь. И лапидарность такого аргумента – своего рода кивок sapienti sat.
Возникает вопрос: краткость донновского упоминания продиктована очевидностью аргумента, или же автор из осторожности избегает того, чтобы его развивать?
Двадцать с лишним лет спустя после появления «Обращений к Господу» младший современник Донна, умница, эрудит, энциклопедист сэр Томас Браун в своем трактате «заблуждения заразные» («Pseudodoxia Epidemica», 1646) посвятит «очевидной» проблеме Феникса целую главу:
«Представление о том, что в мире существует лишь один единственный Феникс, который, прожив несколько веков, сжигает сам себя, из пепла же восстает новый Феникс, – не оригинально, но при том весьма популярно, и восходит к великой древности; оно дошло до нас не только через авторов той эпохи, но часто встречается и у тех, кто толковал священное писание: у Кирилла, Епифания и других, у Амвросия в его «Гексамероне», у Тертуллиана в стихотворном «De Judicio Domini»;[228]228
«О Господнем суде» (Лат.). Имеется в виду сочинение «Carmen ad Flavium Felicem de ressurrectione mortuorum et de judicio Domini» («Песнь к Флавию Феликсу о воскресении мертвых и о Господнем Суде»), чье авторство приписывалось Тертуллиану однако ныне этот текст считается ему не принадлежащим. См.: Фокин А. Р. Латинская патрология. Т. I. М., 2005. С. 61.
[Закрыть] однако еще важнее в этом отношении его замечательный трактат «De Resurrectione carnis»[229]229
«О воскресении плоти».
[Закрыть]. «Illum dico alitem orientis peculiarem, de singularitate famosum, de posteritate monstrosum; qui semetipsum libenter funerans renovat, natali fine decedens, atque succedens iterum Phoenix. Ubi jam nemo, iterum ipse; quia поп jam, alius idem».[230]230
«Я разумею птицу, обитающую на Востоке, замечательную своей редкостью и удивительною способностью к жизни: умирая по своей воле, она обновляется; умирая и возвращаясь в день своего рождения, Феникс является там, где уже никого не было, вновь та, которой уже не было, иная и та же самая». Пер. Н. Шабурова и А. Столярова, см.: Тертуллиан. О воскресении плоти/ Тертуллиан Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. М., 1999. С. 198.
[Закрыть] Упоминается о Фениксе и в Писании, особенно в 29 главе «Книги Иова». Так, в переложении Беды говорится: «Dicebam in nidulo тео moriar, & sicut Phoenix multiplicabo dies»;[231]231
«Я говорил – умру в гнезде моем и, точно Феникс, дни мои умножу» (Лат.).
[Закрыть] а в 92 Псалме сказано: «δικαιος ωσπερ φοινιξ αωθησε», что Тертуллиан в вышеупомянутом сочинении передает как «vir Justus ut Phoenix florebit»[232]232
«Муж справедливый, точно Феникс, процветет» (Лат.). В синодальной версии этому стиху соответствует: «Праведник цветет, как пальма» (Пс. 91, 13). Сам Томас Браун поясняет: «Что до этого стиха в Псалтире, Vir Justus ut Phoenix florebit, как передают его Епифаний и Тертулиан, то это ошибка, связанная с омонимией греческого слова «Феникс», которое означало также и пальмовое древо».
[Закрыть]<…> И однако древние авторы, от которых исходит этот рассказ, выражаются весьма и весьма двусмысленно. Так, Геродот в «эвтерпе», сообщая историю о Фениксе, при том замечает: «εμοι μεν ου λεγοωτες», – «рассказ этот не кажется достоверным». <…> Рассказ Плиния еще баснословней: будто Феникс прилетел в Египет во времена консульства Квинта Плавтия, а когда цензором был Клавдий, птицу привезли в Рим, случилось же это в 800-й год от основания города, и тому есть письменные подтверждения, – но и Плиний оканчивает свое повествование словами: «Sed quæ falsa пето dubitabit»[233]233
«Но никто не усомнится в том, что все эти рассказы – вымысел» (Лат.).
[Закрыть]…».[234]234
Brown Thomas.Pseudodoxia epidemica: or, Enquiries into very many received tenents, and commonly presumed truths. London: printed by T[homas]. Щагрег]. for Edward Dod, and are to be sold in Ivie Lane, 1646. III, xii.
[Закрыть]
Томас Браун рассматривает свидетельства Овидия, Вергилия, лактанция, Клавдиана, сравнивает, по септуагинте и Вульгате, переводы тех мест Писания, где говорится о Фениксе, касается упоминаний о Фениксе у Парацельса и других алхимиков, – чтобы прийти к заключению:
«Что до уникальности Феникса и представления о том, будто в природе существует в единственном числе, то это несовместно не только с Философией, но и со Священным Писанием, где ясно сказано, что в Ноев Ковчег входило по паре каждой твари: "Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут" (Быт. 6, 19). Это представление посягает на благословение Бога, данное Его твари: "И благословил их Бог говоря: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле" (Быт. 1, 22) И еще: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" (Быт. 1, 28); все это неприменимо к Фениксу, о котором полагают, будто он существует в мире в единственном числе, – но ныне существует он не более, чем при произнесении первого благословения Господня, ибо порождение одного Феникса есть уничтожение другого, – пусть даже Феникс порождает Феникса, это не значит «плодиться", а о том, кто существует лишь в единственном числе, нельзя сказать, что он "размножается"».[235]235
Ibid.
[Закрыть]
Вот он, аргумент Донна, но – в развернутом виде. Чтобы его привести, Томасу Брауну не жалко нескольких страниц текста – то есть, по его мнению, эти наблюдения стоят того, чтобы ими поделиться, – сказанное не является общим местом, известным всем и каждому.
Тем самым мы вправе предположить: причина лапидарности Донна вовсе не в том, что его аргумент так уж самоочевиден. Скорее, Донн едва касается некой интеллектуальной проблемы потому, что под ней сокрыта иная проблема, которую лучше лишь наметить… и промолчать. Собеседник и так поймет, о чем речь.
К моменту восшествия Иакова на английский престол Донн был серьезнейшим образом скомпрометирован состоявшимся незадолго до того, в начале 1602 г., судебным процессом из-за своего тайного венчания с Анной Мор. Формально такого рода судебные разбирательства затевались во имя охраны нравственности подданных английской короны, но на самом деле были тесно связаны с политикой: в силу того, что браки могли служить созданию и укреплению нежелательных политических альянсов, дворянам и придворным запрещалось вступать в брак без разрешения королевы. И хотя по делу Донна суд вынес оправдательный вердикт, поэт лишился места секретаря у лорда Хранителя Печати Томаса Эджертона (по сути – министра иностранных дел) и фактически был вышвырнут на обочину социальной жизни. Общество подозревало в нем человека политически неблагонадежного – и уж, конечно, несдержанного. Эта репутация закрепилась за поэтом столь надолго, что когда в 1608 г. через одного из фаворитов короля Иакова, лорда Хэя, он просил о месте секретаря при дворе, «Его Величество, – по словам самого Донна, – вспомнил меня, но воспоминание это было связано с самой худшей частью моей истории, – опрометчивым проступком, совершенным тому семь лет назад, по юношескому незнанию».[236]236
Donne John. Selected letters. Ed. By P. M. Oliver. Manchester, 2002. P. 40–41.
[Закрыть]
Все это важно помнить, пытаясь восстановить тот контекст, в котором развертываются «Обращения к Господу…». Донн – капеллан короля и его личный собеседник, претендующий на участие в политике, – адресует свой труд наследному принцу, упоминая в посвящении, сколь многим он обязан царствующему королю, и выражая надежду, что «продлит жизнь во времена, отмеченные благоденствием под скипетром» уже не Иакова, но – Карла. В отличие от своего венценосного отца, принц не слишком интересовался теологией. Политика волновала его больше – и представлял он ее себе несколько иначе, чем отец. И тут мы можем предположить, что посвящение «Обращений…» принцу, кроме всего прочего, подчеркивает и политические акценты размышлений Донна. И если посмотреть на интересующую нас медитацию под этим углом зрения, мы увидим, что упоминание Феникса влечет за собой целый шлейф подтекстов и ассоциаций.
Дело в том, что в политической риторике и символике второй половины елизаветинского царствования образ Феникса стал одним из главных атрибутов королевы.
* * *
В ту эпоху изображениям на монетах придавалось значение гораздо большее, чем сейчас, и то, что во время правления Елизаветы чеканились монеты, где на аверсе был помещен портрет королевы, а на реверсе – птица, восстающая из огня, и надпись «SOLAPHOENIX» (ЕДИНСТВЕННАЯ ФЕНИКС),[237]237
Kantorowicz EH. The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, 1995. R 413; Axton M. The queen's two bodies: drama and Elizabethan succession. L., 1977. P. 69.
[Закрыть] свидетельствует об особом статусе этого образа.
На титульном листе «Гимна к Елизавете» Жоржа де ла Мота (1584) мы видим сидящую на троне Елизавету, окруженную атрибутируемыми ей символами, среди которых анаграмма ER – Elizabetha Regina; алые и белые розы семейств Йорков и Ланкастеров, чья кровь соединилась в жилах Елизаветы; королевские львы и грифоны; вензель из букв «альфа» и «омега» и повторенные в обоих верхних углах Фениксы.[238]238
Воспроизведение: Strong R. The cult of Elizabeth. L., 1999. P. 73.
[Закрыть] Фениксы эти соотнесены с девизом Елизаветы, начертанным справа и слева от трона, на котором восседает королева: «Sempereadem» – «Всегда та же». У подножия трона начертаны стихотворные строки:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































