Читать книгу "Собаки на Сене"
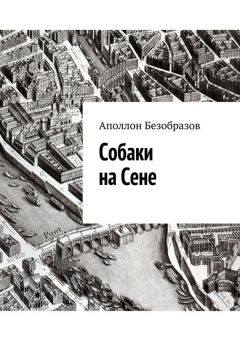
Автор книги: Аполлон Безобразов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Собаки на Сене
Печальное путешествие
Аполлон Безобразов
© Аполлон Безобразов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Из тех месяцев, что мы жили на барже, я лучше всего запомнил бесконечный дождь, миазмы Сены, затхлый запашок отсыревшей древесины и несвежих носков. Дождь шел сутки напролет. Сколько это продолжалось? Вечность. Так не свойственно Парижу и так естественно для нас с тобой. Дождь баюкал, дождь раздражал, заставлял кутаться в свитера и шали, делал все призрачным и сюрреальным. Постоянный насморк и боль в горле, холодные влажные ноги, посиневшие губы и парок изо рта – это то, что я помню лучше всего из того мгновения вечности. Приходилось экономить на топливе: не так уж много дров и угля оставила нам хозяйка этой развалины. Мы дрейфовали от причала к причалу, не останавливались подолгу на одном месте. Нехитрую снедь и вино мы покупали у береговых торговок, реже – выходили на набережные. Еда – не всегда свежая, коньяк (а уж тем более вино!) – часто разбавлен. Но это был наш с тобой рай. То время, где мы остались навсегда. Те месяцы длятся до сих пор. Осколки тех моих розовых очков я храню в конверте из плотной бумаги.
Абсолютно голые, свежевымытые и выбритые мы лежали на своем матрасе под всем этим тряпьем, которое досталось нам в наследство от прежних обитателей баржи. В изголовье – три огромных белых свечи. Ты – на спине – что-то мурлыкал под аккомпанемент своего mp3-плеера. Я – на животе, на локтях – в который раз перечитывал Миллера (единственная книга на русском, которую я соизволил взять с собой – увесистый второй том «Розы распятия», с шестой главы «Плексуса»). Фоном – бесконечная влага, висящая в уже прохладном воздухе, хлюпающая по реке, стучащая по жестяной крыше, просачивающаяся кое-где, но влага здешняя, только наша, ничья больше.
Часам к двум ночи ты избавлялся от наушников и почти сразу же начинал сопеть. Твой, по-детски скорый и глубокий, сон окутывал тебя всего, успокаивал и примирял. Периодически – вздохи, какие-то почти всхлипы и стоны, невнятные возражения и забавные позы. В этой тесноте нашего незамысловатого ложа мы раскалялись друг на друге, становились влажными и липкими. Хотелось отстраниться друг от друга, но, наоборот, объятия становились еще крепче, ноги сплетались в узлы, носы и рты (невинная струйка слюны!) утыкались в шеи, уши и подмышки. Мы пропитывались друг другом. И, конечно, дождем, унылыми сигналами проходящих суденышек, шумом с берега, гнилостными запахами Сены и палой листвы.
Свечи я обычно задувал, когда занимался рассвет. Даже не рассвет, а эта необыкновенная серая, полупрозрачная, мутноватая пора. Часто все становилось белым от поднимающегося с реки пара и тумана. Три-четыре моих выдоха и помещение заполнялось таким сладким запахом потухших свечей и остывающего воска. Это напоминало детство и новогодние каникулы. Все пропитывалось волшебством и сказкой. Даже чудился запах елки и шоколада. Хотя… какой уж тут шоколад!
Растревоженный этим ароматом, ты на мгновение просыпался и сгребал меня в охапку, буквально подминая меня под себя. Мою шею щекотало твое горячее, кисловатое со сна дыхание. Я тихонько начинал выпрашивать:
– Саша… Саша… (ударение, конечно же, на последнем слоге)
Ты мычал и, наверное, начинал сердиться. Впрочем, ты никогда не говорил мне, что этот предрассветный ритуал раздражает тебя.
– Саша, Аполлинер…
Ты с шумом выдыхал и говорил:
– Спи, – и крепче прижимался к моей спине (горячий пах у ноги, птичка сердца в правой руке), так и не прочитав мне на сон грядущий. Этого и не требовалось – просто сонный ритуал, чтобы скрепить объятия. А когда мы проснемся, будут и Аполлинер, и Верлен, и Бодлер. И все в оригинале, с твоим нарочитым грассированием, почти неуместным здесь, но так забавляющим меня.
А пока я засыпаю под нестройную музыку дождя и сладкий аромат остывающих свечей. И мне уже сниться совсем другая реальность, которую я сочиняю для нас:
«Теоретик любви. Не практик, не отчаянный экспериментатор. Просто погрязший в своих размышлениях, принявший мысли за реальность, проживающий радужные дни в воображении, как в компьютерной игре. Делающий правильные ходы, получающий призы и бонусы. Но… не на самом деле, только в мечтах. Во снах. В видениях. На бумаге. На мониторе. Сотни текстовых документов, архивов, записных книжек, обрывков бумажных… На самом деле, в реальности – ни движения рукой, ни вздоха настоящего, ни слезиночки… Весь этот выдуманный любовный трепет, ночной сбивчивый шепот, дрожь в руках, во всем теле… Всего этого нет в действительности, но оно настолько мне дорого, настолько оно мое, мое самое настоящее, мое драгоценное, мое единственное, что есть у меня… Все мои многоточия… Мои запятые, восклицания. Ненавижу точки! В жизни все может закончиться, может закончиться сама жизнь. На бумаге же, в мыслях моих – все вечно. Ты не предашь меня, не обидишь ничем. Там мы всегда будем вместе… Там никто до нас не доберется, не сможет помешать нам любить друг друга. Не покажет нам, что за окном уже весна со всем ее сифилитическим разложением, гнилью ее оттаявшей. Мы вечно будем верить в зиму, кутаться в одеяло, обнимать друг друга, дышать друг другу в спину, на ухо, чувствовать руки, холодные ноги… Нам так хорошо вдвоем в этой вечной зиме, в этой бесконечной спячке. В мертвой тишине натопленного дома (только треск дров в печи да капли из умывальника). Нет этой пошлой красочности, ядовитой зелени, теплых дождей, такого синего неба, что глаз не поднять… Нет внешнего. Только я и ты. И наше дыхание… И глаза еще сонные. Улыбающиеся. Кривящиеся уголки рта. Сухие утренние поцелуи.
Моя теория – дороже мне моей практики. Мечта милее мне действительности. Мои фантазии реальней моей реальности! Мои слова непроизнесенные емче слов ежедневных, постылых, бессмысленных. Троекратно прокричать вслух «я люблю тебя» – ничто рядом с внутренним шепотом «я люблю тебя»… Это всегда будет звенеть в моей голове, не лопнет в воздухе мыльным пузырем. Любой жест приятней, правдивей, когда он сделан мысленно. Мне смешны движения рук наяву. Мне смешны взгляды кроткие, нелепо повисшие или застывшие в воздухе, не нашедшие себе места руки… Все это так бессмысленно. Жутко бессмысленно. Жестоко бессмысленно. Мне страшно без смысла… а его не передать вслух, не облечь в текст… Он во мне. Как и ты. Ты и есть мой смысл. В реальности тебя нет, внутри меня же… только ты. И немного, совсем чуть-чуть меня…»
***
Было около четырех часов дня, когда мы проснулись, разлепили склеенные похмельным потом тела, продрали зенки. Голова моя была пустой как чугунок, и такой же тяжелой. Тошнота, смрад, отекшая рожа. Я покосился в угол на почти пятилитровую бутыль с адским пойлом, которое мы пили полночи – не то бренди, не то ром, впрочем, эффект совершенно невероятный, так что ни на что этот напиток не похож – и вспомнил, что мы снова подрались. С чего все началось-то? Помню лишь, что в самом начале попойки, разговор был натянутым, с нотками-ноготками взаимных обид и упреков. Полное непонимание друг друга. Мы говорим на разных языках.
– Parle français! – настаиваешь ты каждый день, после каждого моего к тебе обращения, перед каждым моим ответом на твой вопрос. Обижаешься, если молчу или отвечаю на русском. Зачем? Я не знаю языка. Мне не интересен французский. Не нахожу никакого очарования в разговорах с тобой на иностранном языке. Мы на русском-то изъясняемся по-разному. К чему строить абракадабру на французском? Подбирать чужой эквивалент к неподобранному русскому. Ни одного дня между нами не было покоя и идиллии. Это выматывает. И эти экзерсисы ни к чему.
– Принеси водички… – твой стон. Плетусь к чайнику, по пути заглядываю в осколок зеркала. Так вот оно что! Левый глаз затек фиолетовым синяком. Трогаю. Тело откликается болью. Сначала начинаю сердиться, почти прихожу в ярость. Сразу же остываю. Улыбаюсь. Мне даже в кайф. А что? я всегда любил синяки. Чем больше синяк, тем лучше. Особенно палитра, которая с каждым днем меняется: от бордового к фиолетовому, затем к зеленому и постепенно – к желтому. Давишь пальцем – приятная боль. Почти нежность.
– Ну, ты даешь…
– Ммм…
– Посмотри на мою рожу.
Разворачиваешься лицом ко мне… И мне становится стыдно. Обида мешается с раскаянием. Твой левый глаз тоже разукрашен. Только если меня мой фонарь веселит, то твое искаженное синяком и отеком лицо причиняет боль.
– Прости меня! – почти со слезами.
– У меня тоже? Дай зеркало.
Иду с чайником и осколком, в который мы смотримся при бритье.
– Merde! Черт! Ну, ни хуя себе!
Ты на одном конце матраса, я – на другом. У тебя – осколок зеркала и подушки под задницей, у меня – закопченный чайник. Смотрим друг на друга. Совсем растерялись. Расстрелялись взглядами, искрами из глаз. И вдруг, одновременно… Смех! Гогот до судорог. Со стоном и иканием. Со слезами из глаз. Долго, по-ребячески неостановимо. Пальцами друг на друга. Волосы взъерошены, члены трясутся, животы дрожат.
Потом упали, улеглись валетом. Ты все еще хихикал, вспоминал нашу ссору, нашу пьяную драку, проклинал сомнительный алкоголь… А я был горд за тебя. Действительно, это же впервые ты ответил мне, дал мне сдачу (считайте у кассы!), собрал свои силенки в кулачок (детский, мальчишеский в твои тридцать два) и шандарахнул мне в рожу. Я как-то по-другому зауважал тебя. Мне стало приятно оттого, что ты способен на это. Я курил в потолок и улыбался. И уже не слышал, о чем ты лепетал на том краю матраса. Мое похмелье улетучивалось так же легко, как легко и незаметно вчера пришло опьянение.
Правой рукой я подносил ко рту сигарету, стряхивал куда-то там пепел, левой ощупывал отекший глаз. Я чувствовал боль, щурился и улыбался. Мне было хорошо. У меня появился новый ты.
Mon Charenton. Я перелистал свой словарик, я искал в разговорнике… Я не нашел, что такое Шарантон. Я просто глупо улыбался, когда ты говорил мне эти слова. Делал вид, что мне приятно. Если б тогда я знал о Шарантоне, если б тогда Верлен, Малларме, Сартр, Фуко и прочая-прочая оказались под рукой не в подлиннике… Мне было б намного приятней. Вся эта готическая романтика Парижа, парижские живодеры, могильщики и палачи, селившиеся поблизости друг от друга… Все это дарило мне такое болезненное восприятие жизни. Болезненное, но яркое. Красота безобразного, упадничество, отвратительное и прекрасное неотделимые друг от друга, затуманенность сознания… Из этого болота я черпал жизненные силы, этим питался, этим дышал, это заставляло творить, бороть сон и опьянение, прорываться-просовываться наружу, в реальный мир, видеть всю его зыбкость и нереальность, окончательно запутываться в своих мыслях-видениях и… в конечном итоге тупо пялиться на серую, серную, сонную, слепую воду Сены и плакать… ни о чем… неостановимо… до самого утра… до момента, когда можно задуть свечи, вдохнуть их таящий аромат и уснуть, избавиться от всей тяжести открывшегося мне…
Mon Charenton, mon Bedlam. Когда я дурачи
...
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































