Текст книги "Чук и Гек (сборник)"
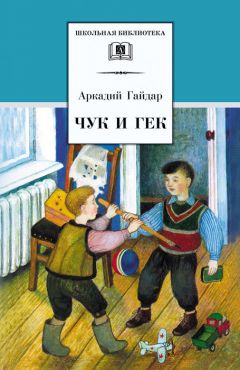
Автор книги: Аркадий Гайдар
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Я вскочил на ноги.
Уже светало. Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменившийся за ночь ветер пригнал на поляну струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит, впереди были люди, и, следовательно, бояться мне было нечего.
В овраге, по дну которого бежал ручей, я напился. Вода была совсем тёплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе огня. За оврагом начинался невысокий лиственный лес, из которого всё живое при первом же запахе дыма убралось прочь, и только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек да серые лягушки, которым всё равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зелёного болота.
Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалёку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведёрка.
Осторожно двинулся я вперёд. Мимо деревьев со сломанными, точно срезанными верхушками, мимо свежих ветвей, листвы и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел на крохотную полянку. И здесь как-то боком, задрав нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолёт. Внизу, под самолётом, сидел человек. Стальным гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора. И этот человек был Фенин отец – лётчик Федосеев.
* * *
Ломая ветви, я продрался к нему и его окликнул.
Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно оглядев меня, удивлённо спросил:

– Гей, чудное виденье! Из каких небес по мою душу?
– Это вы? – не зная, как начать, сказал я.
– Да, это я. А это… – он ткнул пальцем в опрокинутый самолёт, – это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?
– Спичек у меня нет, Василий Семёнович, а народу никакого нет тоже.
– Как нет? О, чёрт! – И лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу. – А где же народ, люди?
– Людей нет, Василий Семёнович. Я один, да вот… моя собака.
– Один? Гм… Собака?.. Ну у тебя и собака!.. Так что же, скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?
– Я ничего не делаю, Василий Семёнович. Я мчался, вдруг слышу – брякает. Я и сам думал, что тут люди. А это вы, оказывается. А вас все ищут, ищут…
– Та-ак, люди… А я, значит, уже не «люди». Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь йодом да кати-ка ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковей, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? – И он потянул ноздрями, принюхиваясь к сладковато-угарному порыву ветра.
– Это я слышу, Василий Семёнович, только я никуда дороги не знаю. Я, видите ли, и сам заблудился.
– Фью, фью! – присвистнул лётчик Федосеев. – Ну, тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в Бога веруешь?
– Что вы, что вы! – удивился я. – Да вы меня, Василий Семёнович, наверное, не узнали? Я же Володька, в вашем дворе живу, в сто двадцать четвёртой квартире.
– Ну вот, Володька: ты нет и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего. Залезь-ка ты на то дерево и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.
Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трёх сторон я увидел только лес, лес… А с четвёртой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.
Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.
Я слез и рассказал обо всём этом лётчику Федосееву.
Он взглянул на небо: небо было спокойно. Лётчик Федосеев задумался.
– Послушай, – спросил он, – ты карту знаешь?
– Знаю, – ответил я. – Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис…
– Эх ты, хватил в каком масштабе! Ты бы ещё начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю: если я тебе по карте начерчу дорогу, ты разберёшься?
Я замялся.
– Не знаю, Василий Семёнович. У нас это по географии проходили, да я что-то плохо…
– Эх, голова! То-то «плохо»… Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо. Вот, смотри. – Он вытянул руку. – Отойди на поляну дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твоё направление. Подойди и сядь.
Я подошёл и сел.
– Ну, говори, что понял?
– Чтоб солнце сверкало в край левого глаза, – неуверенно начал я.
– Не сверкало, а светило. От сверкания глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати всё прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упрёшься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну а на Кальве, у Четвёртого яра, там всегда народ: там рыбаки, косари, охотники… Кого первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать…
Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолёт, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой:
– А что сказать им… ты и сам, я думаю, знаешь.
Я вскочил.
– Постой! – сказал Федосеев. Он вынул из бокового кармана бумажник и протянул его мне. – Возьмёшь с собой.
– Зачем? – не понял я.
– Возьми, – повторил он. – Я могу заболеть, потеряю. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.
Это мне совсем не понравилось, и я почувствовал, что к глазам моим подкатываются слёзы, а губы у меня вздрагивают.
Но лётчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его ослушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.
– Постой! – опять задержал меня Федосеев. – Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвёртом участке, позавчера, в девятнадцать тридцать, я видел трёх человек. Думал – охотники. Когда я снизился, то с земли они ударили по самолёту из винтовок, и одна пуля пробила мне бензиновый бак. Остальное всё будет понятно. А теперь, герой, ну, вперёд двигай!
* * *
Тяжёлое дело – спасая человека, бежать через чужой угрюмый лес к далёкой реке Кальве, без дорог, без тропинок, а выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в край левого глаза.
Часто по пути мне приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. Если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу уже назад, прямо к месту моей вчерашней ночёвки.
Но так упорно продвигался я вперёд и вперёд, изредка останавливаясь, вытирал мокрый лоб и гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной не отставая и, высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.
Через час подул резкий ветер, серая мгла наглухо затянула небо. Некоторое время солнце ещё слабо обозначалось пятном, туманным и расплывчатым, потом и это пятно совсем растаяло.
Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что я начинаю плутать.
Небо надо мной сомкнулось, хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нём ни малейшего просвета.
Прошло ещё часа два. Солнца не было, Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только сильная жажда, усталость, и я наконец повалился в тень под кустом ольхи.
«И вот она, жизнь! – закрыв глаза, думал я. – Живёшь, ждёшь: вот, мол, придёт какой-нибудь случай, приключение, тогда я… я… А что я? Там разбит самолет. Туда ползёт огонь. Там раненый лётчик ждёт помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах».
Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! – послышалось сверху. Открыв глаза, почти у себя над головой, на стволе толстого ясеня, я увидел дятла.
Тут только я заметил, что лес этот уже не глухой и не мёртвый. Здесь кружились над поляной жёлтые и синие бабочки, блистали стрекозы и неумолчно трещали кузнечики.
И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги, – он где-то выкупался.
Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые волны широкая река Кальва.
* * *
Я подошёл к берегу и огляделся. Ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того Четвёртого яра, на который я должен был выйти по указу лётчика Федосеева. Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок, и там, возле маленького шалаша, стояла запряжённая в телегу лошадь.
Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи передёрнулись, как в лихорадке, потому что я понял, что мне нужно будет переплывать Кальву. Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал в посёлке позади кирпичных сараев. Больше того, я мог переплыть его даже туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком месте вода доставала мне не выше подбородка.
Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья пухлой пены. И я знал, что, раз нужно, я переплыву Кальву, – она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды, и я пойду ко дну, как это со мной было год тому назад на совсем неширокой речонке Лугарке.
Я подошёл к берегу, вынул из кармана тяжёлый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.
Браунинг – это игрушка, а теперь мне было не до игры.
Ещё раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И чтобы не тратить даром сил, по отлогому песчаному скату шёл я до тех пор, пока вода не достигла мне до подбородка.
Дикий вой раздался за моей спиной. Это как сумасшедший скакал по берегу Брутик.
Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.
* * *
Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег показался мне очень далёким, и, чтобы не пугаться, я опустил глаза на воду.
Так, полегоньку, уговаривая себя не волноваться, а главное, не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперёд.
Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо – это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Моё дело спокойней, раз, раз… вперёд и вперёд… Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника, и вода стремительно несла меня к песчаному повороту.
Ничего плохого в этом пока не было.
Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.
Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлёпая лапами, выбиваясь из последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.
«Ты смотри, брат! – с тревогой подумал я. – Ты ко мне не лезь, а то потонем оба».
Я рванулся в сторону, но течение столкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапаясь когтями, полез ко мне прямо на шею.
«Теперь пропал! – окунувшись с головой в воду, подумал я. – Теперь дело кончено!»
Фыркая и отплёвываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.
Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот и в нос мне ударила волна.
Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал на оставленном мною берегу голоса, шум и лай.
Тут налетела ещё волна, опрокинула меня с живота на спину, и последнее, что я помню, – это луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.
* * *
Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушёл от лётчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к лётчику. И прежде чем попросить чего-либо для себя, лётчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догонять меня.
В тот же вечер другая собака, по прозванию Ветер, настигла в лесу трёх вооружённых людей. Тех, что перешли границу, чтобы сжечь леса, а с ними и наш новый большой завод. Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им – мы знали – пощады не будет.
* * *
Я лежал дома в постели.
Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдёрнула с меня одеяло.
– Вставай, хвастунишка! – сказала она, нетерпеливо расчёсывая гребешком свои густые чёрные волосы. – Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошёлся: «я вскочил», «я кинулся», «я рванулся». А ребятишки, глупые, сидят, уши развесили. Думают – и правда.
Но я хладнокровен.
– Да, – с гордостью говорю я, – а ты попробуй-ка переплыви в одёже Кальву.
– Хорошо – «переплыви», когда тебя самого из воды собака Лютта за рубашку вытащила! Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. «Прибежал, – говорит, – в а ш Володька ко мне, бледный, трясётся… У меня, – говорит, – по географии „плохо“. Насилу– насилу уговорил я его бежать к реке Кальве».
– Ложь! – Лицо моё вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.
Но тут я вижу, что это она просто смеётся, что под глазами у неё ещё не растаяла бледно-синеватая дымка. Значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала и только не хочет в этом сознаться. Такой уж у неё, в меня, характер!
Она ерошит мне волосы и говорит:
– Вставай, Володька! За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.
Она берёт свои чертежи, готовальню, линейки и идёт готовиться к зачёту.
* * *
Я бегу за ботинками, но во дворе, увидев меня с балкона, отчаянно визжит Феня.
– Иди! – кричит она. – Да иди же скорей, тебя зовёт папа!
«Ладно, – думаю я, – за ботинками успею», – и поднимаюсь наверх.
Наверху Фенька с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он лежит в постели забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике лежат острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здоровается со мной и расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашёл реку Кальву.
Потом он суёт руку под подушку и протягивает мне похожий на часы, блестящий, никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой[2]2
Картушка – диск компаса с нанесёнными на него делениями на градусы или румбы.
[Закрыть].
– Возьми, – говорит он, – учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.
Я беру. На крышке аккуратно обозначен год, месяц и число. То самое, когда я встретил Федосеева в лесу у самолёта. Внизу надпись: «Владимиру Курнакову от лётчика Федосеева».
Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаления, нет пощады!
Я жму лётчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.
Наконец она дёргает меня за рукав и говорит:
– Всё хорошо, жаль только, что утонул бедняга Брутик!
Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.
– Если бы мы тогда не запихали ему в рот конфету, он бы к нам не привязался, – печально говорит Феня.
– Кто знает, – утешаю её я, – а может быть, тогда пришли бы собачники, поддели бы его крюком, посадили в ящик, а потом содрали с него шкуру. Вот тебе и другая гибель. И разве она лучше?
Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где поднимается дымок. Но и там заканчивают своё дело последние бригады.
Через окно виден наш огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый посёлок.
Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам под деревянными щитами день и ночь стоят часовые.
Даже отсюда нам с Феней слышно бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжёлые удары парового молота. Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного товарища Ворошилова.
1939
Чук и Гек

Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.
Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости.
Ребятишек у него было двое – Чук и Гек.
А жили они с матерью в далёком огромном городе, лучше которого и нет на свете.
Днём и ночью сверкали над башнями этого города красные звёзды.
И конечно, этот город назывался Москва.
Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.
Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.
Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном часе – тик да так – целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.
Вот почему оба брата мигом вытерли слёзы и бросились открывать дверь.
Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принёс письмо.
Тогда они закричали:
– Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.
Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинистому дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год не был дома, то и в Москве может стать скучно.
И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мама. Она очень удивилась, увидав, что оба её прекрасных сына, лёжа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.
Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана.
Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над её тёмными бровями.
Всем известно, что письма бывают весёлые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за её лицом.
Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо весёлое.
– Отец не приедет, – откладывая письмо, сказала мать, – у него ещё много работы, и его в Москву не отпускают.
Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.
Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовёт нас всех к себе в гости.
Чук и Гек спрыгнули с дивана.
– Он чудак-человек, – вздохнула мать. – Хорошо сказать – в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал…
– Да, да, – быстро подхватил Чук, – раз он зовёт, так мы сядем и поедем.
– Ты глупый, – сказала мать. – Туда ехать тысячу и ещё тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнёшься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!
– Гей-гей! – Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.
И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, всё их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.
Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что весёлый у неё был характер.
Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже.
Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в неё гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.
Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.
Но тут без неё у Чука с Геком получилась ссора.
Ах, если бы только знали они, до какой беды доведёт их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!
У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обёртки (если там был нарисован танк, самолёт или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и ещё всякие очень нужные вещи.
У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.
И вот как раз в то время, когда Чук шёл доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошёл почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.
Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошёл узнать, почему это Гек уже не поёт песни, а кричит:
Р-ра! Р-ра! Ура!
Эй! Бей! Турумбей!
Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.
Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в жёлтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги – сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберёг в дальнюю дорогу.
И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил её о колено и швырнул на пол.
Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.
Громко завопил оскорблённый Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!», в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понёсся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала ещё никем не прочитанная телеграмма.
То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и её утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.
Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадёт им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:
– Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь – телеграмма! Нам и без телеграммы весело.
– Врать нельзя… – вздохнул Гек. – Мама за враньё всегда ещё хуже сердится.
– А мы не будем врать! – радостно воскликнул Чук. – Если она спросит, где телеграмма, – мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперёд выскакивать? Мы не выскочки.
– Ладно, – согласился Гек. – Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но всё же она сразу заметила, что у её дорогих сыновей лица печальные, а глаза заплаканы.
– Отвечайте, граждане, – отряхиваясь от снега, спросила мать, – из-за чего без меня была драка?
– Драки не было, – отказался Чук.
– Не было, – подтвердил Гек. – Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.
– Очень я люблю такое раздумье, – сказала мать.
Она разделась, села на диван и показала им твёрдые зелёные билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.
А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.
Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь чёрные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.
Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако всё вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и жёлтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.
Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.
Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука – не проснётся ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.
Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило ещё десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с жёлтыми золочёными ручками.
Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на треть ей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошёл проводник с фонарём и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.
Проводник ушёл, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.
А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.
Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
– Это кто же здесь толкается?
Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в своё купе, а в чужое, Гек заорал ещё громче. Но все люди быстро поняли, в чём дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастёрку и отвёл Гека на место.
Гек проскользнул под своё одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.
Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с её сыном.
Наконец заснул и Гек.
…И снился Геку странный сон:
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышны голоса
От колеса до колеса.
Бегут вагоны – длинный ряд —
И с паровозом говорят.
Первый. Вперёд, товарищ! Путь далёк
Перед тобой во мраке лёг.
Второй. Светите ярче, фонари,
До самой утренней зари!
Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутись, колёса, на восток!
Четвёртый. Тогда закончим разговор,
Когда домчим до Синих гор.
Когда Гек проснулся, колёса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из жёлтого патрона, который он получил в подарок от военного.
Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того что он ночью забрался в чужое купе, – вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.
Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.
И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду – кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок кручёной бечёвки, – Гек за это время увидел через окно немало.
Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! – кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он её бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.
Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки – стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым чёрный, а свет жёлтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка сунься!
Потом пошёл танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.
Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.
Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные, – ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.
Проносились навстречу поезда, гружённые углем и громадными, толщиной в полвагона, брёвнами.
Нагнали эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: «Му-у!..» Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.
А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом.
Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.
Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придёт ли приказ Ворошилова открыть против врагов бой.
Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.
И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.
Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.
Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.
Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































