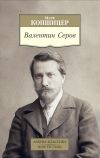Текст книги "Валентин Серов"

Автор книги: Аркадий Кудря
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Хорошему приему у зрителей спектаклей немало способствовали декорации. Еще с постановки «Аиды» Мамонтов заметил и оценил рекомендованного Поленовым выпускника Московского училища живописи, ваяния и зодчества Константина Коровина. Постепенно Коровин выдвинулся в ведущие оформители Частной оперы. Черноглазый, с пышной шевелюрой темных волос, отличавшийся живым и общительным нравом, Костя Коровин быстро влюбил в себя и хористок оперы, и самого Мамонтова, имевшего особый нюх на художественно одаренных людей. Коровин умудрялся даже неприятные для него ситуации обернуть на пользу себе и окружить атмосферой веселого анекдота. В опере был популярен его рассказ о том, как неожиданно увенчали его лаврами при постановке «Лакме» за то, что он тонко и стильно отразил индийский колорит «в своих фантастических цветах». А дело-то, невозмутимо повествовал Коровин восторженно слушавшим его хористкам, с этими цветами случайно вышло. Умаялся, работая над декорацией, прилег соснуть и, потянувшись во сне, нечаянно толкнул ногой открытую банку с белой краской. Проснулся – батюшки, что же натворил! Краска-то на холст пролилась! Схватил кисть, подмалевал кое-что, будто бы цветы. Ну, словом, пропал, взбучки не избежать. А публика-то, едва декорацию открыли, – в восторге: как ново, необычно! Савва Иванович на радостях обниматься полез. Что мне оставалось делать? Потупившись, скромно говорю: «Да, пожалуй, картина с цветами мне удалась».
Встречаясь с ним в опере и в доме Мамонтова, где Коровин частенько оставался на ночлег, Серов испытывал растущее желание ближе сойтись с бесшабашным и талантливым коллегой. Но у Кости, кажется, и без него хватало друзей, он уже испытал сладкий вкус успеха, в то время как Серов с горечью думал, что еще ничем не отличился и, возможно, не достоин дружбы такого шармера и всеобщего любимца, как Костя Коровин.
К счастью, рядом был Илья Остроухов. Вместе с ним, – да еще присоединились любители живописи Михаил Мамонтов, племянник Саввы Ивановича, и Николай Третьяков, сын С. М. Третьякова, – сняли просторную мастерскую на Ленивке, которую ранее занимал известный художникпередвижник Владимир Маковский.
Товарищ Серова по Академии Н. А. Бруни в декабре писал Павлу Петровичу Чистякову, что повстречал на концерте в консерватории, где исполнялась Девятая симфония Бетховена, компанию художников, Поленова, Серова, Остроухова, Мамонтова и других, и что Серов с приятелями устраивают в мастерской вечернее рисование с натуры и у них бывают Поленов и Суриков. Об этой мастерской Серов в начале нового, 1887 года упоминает в письме Ольге Трубниковой, что они там не только пишут с натуры, но и завтракают, и занимаются с учителем фехтования, – словом, проводят почти целый день. И он работает там над портретом племянницы Мамонтова, Марии Федоровны Якунчиковой, той самой Марии, которую как-то нарисовал в Абрамцеве в костюме амазонки верхом на лошади.
В этих письмах невесте Серов выговаривает ей за невеселый тон ее посланий, призывает: «Будь бодра и весела. Скучны ноющие люди». Везде кругом, напоминает он, тяжело и грустно, но надо находить и другую, радостную сторону жизни.
Источник собственной «бодрости» Серов видит (и пишет об этом Трубниковой) в том, что его художественные дела складываются вполне успешно. Получил хороший заказ – на роспись плафона в доме одного тульского помещика. На четырехаршинном холсте будут изображены бог солнца Гелиос, взлетающий на золотой колеснице, и прислужник бога, сдерживающий четверку белых коней. Эскиз уже готов и одобрен заказчиком, а сам большой холст он будет писать в мастерской. За эту работу обещаны тысяча рублей(!) и аванс.
Упоминает также, что сильно болели уши, что случалось и прежде. Еще о своем житье-бытье: «Если спросишь, как живу – отвечу: живу я у Мамонтовых, положение мое, если хочешь, если сразу посмотреть – некрасивое. Почему? На каком основании я живу у них? Нахлебничаю? Но это не совсем так – я пишу Савву Ивановича, оканчиваю, и сей портрет будет, так сказать, оплатой за мое житье… Второе, я их так люблю, да и они меня, это я знаю, что живется мне у них легко сравнительно… что я прямо почувствовал, что я и принадлежу к их семье. Ты ведь знаешь, как я люблю Елизавету Григорьевну, то есть я влюблен в нее, ну, как можно быть влюбленным в мать. Право, у меня две матери…»
О родной матери, Валентине Семеновне, Серов упоминает, что в этот приезд она ближе сошлась с Елизаветой Григорьевной, вновь полна энергии и усиленно работает над новой оперой «Мария д'Орваль».
Часть гонорара, полученного за роспись плафона, Серов решил потратить на поездку в Италию. Инициатором ее выступил Илья Остроухов, уже успевший в прошлом году побывать в Испании, где писал эскизы декораций для постановки в Частной опере «Кармен», и по пути заехавший в Венецию. К ним пожелали присоединиться племянники Саввы Ивановича, Михаил Мамонтов и его младший брат Юрий. В дорогу двинулись в начале мая.
Тщательно составленный маршрут путешествия предусматривал и осмотр Вены. И тут довелось испытать первое приключение. По прибытии в город, после устройства в гостинице «Гранд-отель», молодые художники отправились на прогулку, и ноги почти сами собой привели их к величественному собору Святого Стефана. Зачарованно постояли, глядя на собор. Как бы хотелось написать его! Но на площади слишком людно, будут мешать. Кто-то заприметил объявление на окнах бельэтажа выходящего на площадь здания: «Сдается внаем». Зашли внутрь и разыскали портье, уполномоченного вести финансовые дела. Договорились с ним, что придут поработать к обеду, и оставили задаток.
С утра – в музей, к полотнам Тициана, Питера Брейгеля, Тинторетто, Веласкеса… А затем – в дом, из окон которого и намечалось рисовать собор. Тот же портье встречает радушно: «Не хотите ли кофе, пиво?» Все идет отлично, но за один день такую работу не завершить. Договорились с портье, что на следующий день придут поработать опять, а карандаши, кисти, краски, мольберты оставляют здесь, в помещении, чтобы не таскать с собой.
Но поработать больше не удалось. На следующий день, едва подошли к дому, из которого писали собор, вдруг, «словно из щелей», вспоминал об инциденте Остроухов, появились полицейские в штатском и после короткого разговора предложили проследовать с ними в участок. Там пришлось подробно отвечать: кто такие, откуда, с какой целью прибыли в Вену, для чего понадобилось рисовать собор Святого Стефана?
Серов кипятится, требует вызвать российского посла в Вене. Остроухов же, лучше товарищей говорящий по-немецки и избранный старшим группы, берет объяснения на себя. Поначалу ему не верят, но когда он достает записную книжку, где расписан весь их туристический маршрут и сделаны записи о том, что следует осмотреть в каждом городе, в том числе и в Вене, подозрения полицейских рассеиваются, следуют извинения, сопровождаемые просьбой не обращаться с жалобой в посольство.
Но у туристов настроение уже безнадежно испорчено, и утром они садятся на поезд, следующий в Венецию. Мучает вопрос: в чем же их вина, почему, испортив весь день, их доставили в полицию? За ответом обращаются к попутчикам – студентам из Вены. И один из них дает вполне правдоподобное объяснение:
– На днях, господа, на соседней с собором улице был обворован ювелирный магазин. Злоумышленники, то ли поляки, то ли англичане, проникли внутрь магазина со второго этажа, разобрав пол. Видимо, этот портье заподозрил, что вы из одной банды и тоже что-то замышляете… Но, поверьте, господа, такие подозрения просто возмутительны! Нельзя же, право, выставлять нас перед иностранцами в таком невыгодном свете!
В Венецию поезд прибыл вечером. Темнело. У крытого дебаркадера путешественников поджидают, и один из гондольеров приглашает их в свое суденышко. С того момента, как кормчий, тихо взмахивая длинным веслом, направил мрачную, как гроб, остроносую лодку по Большому каналу, мимо стоящих по берегам разностильных палаццо, Серов начал чувствовать, как этот дивный город, воздвигнутый на островах посреди моря, властно и неотступно берет его в свой плен. Не доезжая до моста Риальто, углом перекинутого через водную гладь, свернули в другой канал, узкий и темный, с мерцающими по его поверхности отблесками фонарных огней. И вот искомая гостиница, намеченная Остроуховым еще в Москве, по рекомендации Поленовых. Устроились в двух комнатах и, наскоро поужинав, поспешили в город, на площадь Святого Марка, благо она рядом (в чем и достоинство гостиницы!), стоит лишь пройти под аркой Прокураций.
Как здесь весело, многолюдно, откуда-то доносятся сладкозвучные песни, легендарный собор темнеет на фоне неба, и бронзовые стражники наверху поочередно бьют молотом по огромному колоколу, отбивая вечерний час.
Обратно вернулись усталые, но счастливые. Остроухов, пользуясь положением демократически избранного старшего группы, напомнил, что в его прошлый приезд сюда, год назад, он застал в городе холерную эпидемию, везде пахло карболкой, и не исключено, что источник инфекции кое-где сохранился. И потому он настоятельно советует всем не пить сырую воду, воздержаться от употребления фруктов и всяких там даров моря. Этот его совет встречен коллегами недовольным ропотом, а Серов с вызовом говорит: «Ты, Семеныч, как хочешь, но устрицы в Венеции я непременно попробую».
Приготовления ко сну вновь дают повод высказать Остроухову свое недовольство.
– Семеныч, – забравшись в кровать, задумчиво сказал Серов, – я вдруг вспомнил Абрамцево, купание в нижнем пруду: в моей постели так же сыро и пахнет лягушками и тиной. А ты как, доволен?
– Еще как! – буркнул Остроухов. – Простыни влажные, будто залез в болото.
– Так и будем в этом болоте жить?
– Еще чего! Завтра подыщем что-нибудь получше. Утром, выяснив, что и у братьев Мамонтовых ночлег не вызвал восторга, отправились на поиски и вскоре облюбовали другой отель, где было сухо, а из окон второго этажа открывался вид на набережную. Теперь со спокойным сердцем можно было вновь бродить по площади Святого Марка и по Дворцу дожей, постоять в церкви Сан-Дзакария возле «Мадонны» Беллини, которая, как помнил Серов, так пленила Врубеля.
За обедом в гостинице Серов попросил хозяина, пожилого тирольца, подать устриц. Но тот, потупив глаза, смущенно пробормотал, что он бы и рад услужить гостям, но с устрицами в городе проблема. Упоминание о какой-то «проблеме» лишь раздразнило аппетит Серова и поддержавших его братьев Мамонтовых. Сообща разыскали на следующий день ресторанчик, рекомендованный еще в Москве одним из приятелей. Расселись, заказали устриц, и вот счастье! – можно наконец отведать их.
– Не стесняйся, Семеныч, – весело подбадривал Серов, – великолепные устрицы, и они совсем не пахнут карболкой.
Поддавшись дружным уговорам, Остроухов тоже, хотя и не без опаски, съел несколько штук.
Однако вечером, на пути к отелю, сначала один, потом другой путешественник стали жаловаться на боли в желудке.
– Я вас предупреждал! – хмуро говорил Остроухов.
В фойе гостиницы он обратился к восседавшему за стойкой тирольцу:
– У нас неприятности, съели что-то не то.
– Свежие фрукты, устрицы?
– Устрицы.
Всерьез обеспокоенный тиролец, понизив голос, сообщил, что с эпидемией холеры еще не совсем покончено и по распоряжению местной власти в городе категорически запрещено торговать устрицами. На днях скончался один из туристов, австрийский офицер – по слухам, от последствий эпидемии. Вот беда так беда! Надо немедленно принять хорошую дозу коньяку, это помогает, и он сейчас же распорядится, чтобы им в номер прислали пару бутылок. Может, и обойдется.
В тот вечер путешественники улеглись спать изрядно пьяными, с тревогой на душе, и Серов повинился перед Остроуховым, что пренебрег его советами. Однако все обошлось. То ли устрицы были доброкачественными, то ли подействовал выпитый на ночь коньяк, но утром никто на живот уже не жаловался, и можно было вновь, отбросив тревожные мысли, спокойно бродить по Венеции. В этом приключении была своя прелесть: мелькнувший кое у кого страх позднее, когда тревоги миновали, способствовал обострению чувства красоты жизни.
Гондола вновь плавно и бесшумно несла их по темным водам каналов – и к палаццо Лабиа, где осмотрели фрески Тьеполо на тему истории Антония и Клеопатры, и к церкви Санта-Мария дель Орто, украшенной полотнами Тинторетто, и к возвышающемуся с горделивой статью на высоком постаменте отлитому из бронзы кондотьеру Коллеони.
По вечерам, после захода солнца, на черной глади каналов плясали огни, зажженные в кабинах гондол, луна преображала белый мрамор дворцов в декорации к романтическому спектаклю, а центр города – в театр под открытым небом. Но не каждый же вечер бродить по площадям, улицам и палаццо, можно пойти и в местную оперу, послушать неподражаемого Таманьо, певшего партию Отелло в новой опере Верди.
Устыдившись однажды своего счастья, которым он, лентяй, не удосужился до сих пор поделиться с тоскующей в Одессе Лелей, Серов сел за письмо к ней, упомянул историю с устрицами, поделился впечатлением от Венеции и от услышанной здесь новой оперы Верди, «страстной и кровавой», и закончил письмо важным умозаключением по поводу творивших в Венеции живописцев: «Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть – беззаботным; в нашем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу, – как заклинание повторил он, – отрадного и буду писать только отрадное…»
Венеция была так хороша, что хотелось сохранить ее облик на полотнах. Из окна гостиницы Серов написал этюд маслом с видом набережной Скьявони. На другом этюде изобразил площадь Святого Марка.
После Венеции путешественники переехали во Флоренцию, и этот город также потряс сердца русских ценителей прекрасного – прежде всего живописью и скульптурой. В галерее Питти один шедевр сменяется другим. Вот «Юдифь» Аллори – сюжет известный, думал Серов, который увлек и его отца. Но на это полотно итальянского мастера смотришь совсем иначе, когда знаешь, что в образе прелестной Юдифи Аллори изобразил свою возлюбленную, причинявшую ему немало мук. А отрубленная ею бородатая голова Олоферна, которую Юдифь небрежно держит за волосы, – это голова самого Аллори. Вот так, в аллегорических образах, художник обессмертил горестную историю своей любви.
Два полотна великого Рафаэля. Автопортрет – на нем гений живописи выглядит мечтательным, погруженным в грезы. И «Донья Велата», пышнотелая, цветущая, с влажными темными глазами. Знатоки искусства считают, что Рафаэль запечатлел свою возлюбленную, булочницу Форнарину, подарившую ему счастье взаимной любви.
«Портрет молодого патриция» кисти Тициана исполнен психологической глубины, это человек, знавший и тревоги, и опасные приключения, умудренный выпавшими на его долю испытаниями. И рядом – другой портрет, тоже работы Тициана, изображающий циничного поэта Пьетро Аретино, с грубым сластолюбивым лицом, с мясистыми губами, уверенным взглядом человека, перед которым трепетали монархи, – таков этот сын куртизанки, ставший олицетворением роскоши и пороков венецианской знати.
Неужели и в скульптуре можно создать что-то равное этим шедеврам? Тогда пора в капеллу Медичи, к статуям «Дня», «Ночи», к «Мадонне с младенцем», изваянным Микеланджело. Как же все-таки многолик итальянский гений!
В гостинице друзья рассуждали о том, на какую высоту было вознесено в те времена искусство, каким почетом окружало общество творцов прекрасного, какую поддержку оказывали им меценаты.
– Да и у нас, в России, такие есть, – напомнил Остроухову Серов. – И искать их долго не надо. Мало ли помощи оказывает нам Савва Иванович?
– Святой человек, – согласился Остроухов, – мы все ему обязаны.
Из Флоренции Серов отправил письмо Елизавете Григорьевне Мамонтовой. Вспомнил, что из всех итальянских городов этот город она особенно любила. Признался, что такого богатства, какое встретил здесь, и не мечтал найти. Высказал и еще одно признание, которое не мог сделать ей с глазу на глаз: «Крепко люблю я вас».
Перед отъездом друзья поднялись к Пьяцца Микеланджело, чтобы в последний раз окинуть взглядом панораму Флоренции. Оттуда были видны увенчанный огромным куполом собор с колокольней, и палаццо Веккио с его башней, и церковь Санта-Мария Новелла. Река Арно с перекинутыми через нее мостами сверкала прозрачно-голубыми водами. Кое-где в воде желтовато просвечивали извилистые полоски речных отмелей.
Глава одиннадцатая
СОЛНЦЕ В ЖИЗНИ И НА ХОЛСТЕ
Непривычно тихо было этим летом в абрамцевском доме Мамонтовых. По утрам в открытое окно комнаты, где спал Серов, проникали запахи отцветающих лип, луговых трав и цветов, слышались бодрящие птичьи трели. Издалека, от Хотьковского монастыря, доносился приглушенный расстоянием колокольный звон.
После общего завтрака все расходились по своим делам. Савва Иванович уезжал на приготовленной для него бричке к железнодорожной станции, а оттуда, поездом, – в Москву. Двенадцатилетняя Верушка с младшей сестрой Шурой играли в парке. А Елизавета Григорьевна шла в мастерские посмотреть на своих подопечных: мальчики учились столярному ремеслу, а девочки – вышиванию. Однажды пригласила и Серова пойти вместе с ней.
В светлой избе, где еще не выветрился смоляной запах, сосредоточенно работали десятка два подростков. Одни обстругивали рубанками доски для изготовления мебели, другие старательно наносили на них затейливую резьбу.
Приучая деревенских подростков к полезным ремеслам, считала Елизавета Григорьевна, она воспитывала в них любовь к труду, к украшению своего быта. А впоследствии такая работа могла дать им источник заработка в деревне, уберечь многих от желания уехать в поисках работы в город, действующий, по убеждению Мамонтовой, на сельских парней и девушек тлетворным образом.
Вместе со своей подругой Еленой Дмитриевной Поленовой, сестрой художника Василия Поленова и тоже художницей, иллюстратором детских сказок, Елизавета Григорьевна увлеклась собиранием в деревнях и на ярмарках старинной утвари крестьянских хозяйств, и здесь, в Абрамцеве, они создали музей кустарного искусства, где были представлены и доски, украшающие задки телег, и подвесные кухонные шкафчики, и расписанные цветами, фигурами животных и птиц резные наличники. Собранные в музее кустарных промыслов предметы быта служили подросткам образцами для собственного творчества.
– И эти ваши изделия покупают? – спросил Серов, когда они осмотрели мастерские и музей.
– Очень даже покупают! – с энтузиазмом ответила Мамонтова. – И не только среди соседей, хозяев окрестных усадеб, но и в Москве. Мы собственный склад устроили, на Поварской, и продаем, помимо мебели, всякие бабьи рукоделия: вышивки, кружева, пестрядь, набойки… Спрос хороший. Даже не ожидали, что может быть такой интерес к исконно русским изделиям.
В гостиной усадебного дома висели на стенах картины и эскизы, подаренные хозяевам работавшими здесь художниками: портреты Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны, выполненные Репиным, лесной пейзаж с желтыми цветами-купавницами работы Елены Дмитриевны Поленовой, вид лесной абрамцевской речки со склоненными над нею деревьями – этюд ее брата, Василия Дмитриевича, пейзаж Виктора Васнецова и осенний этюд Остроухова.
Рассматривая эту коллекцию, Серов испытал укол творческой ревности: сам он представлен лишь небольшим рисунком. А ведь прошлой зимой выполнил портрет маслом Саввы Ивановича и подарил его Мамонтову. Должно быть, хозяева посчитали нескромным повесить в одной комнате два портрета одного и того же лица. И когда же он сможет наконец достойно заявить о себе в творчестве, показать, на что он способен?
Тренируя руку, Серов сделал два рисунка: на одном изобразил семейство Мамонтовых за обедом в столовой, а второй – портрет Елизаветы Григорьевны, в котором удалось схватить присущее ей выражение внутренней самоуглубленности. Но разве это те вещи, которыми можно гордиться? Как бы хотелось ему найти сюжет, который позволит выразить в живописи то, о чем он писал Лёле из Венеции, – «отрадное».
И вот однажды, в предвечерний час, когда солнце озаряло комнаты дома мягким и теплым светом, Серов мимоходом, собираясь на прогулку, вдруг увидел, как в столовую вбежала запыхавшаяся Верушка Мамонтова и, быстро схватив со стола один из оставленных для нее персиков, с удовольствием откусила сочную мякоть плода.
– Заигралась, – смущенно, словно стесняясь своего аппетита, сказала она.
– Во что играли? – задержавшись у двери, спросил Серов.
– В казаков-разбойников, – ответила Вера.
– С Шурой? – поинтересовался Серов.
– Да с целой ватагой деревенских, – словоохотливо пояснила Вера. – С одной Шурой разве интересно? Она еще маленькая.
Серов не мог оторвать от нее глаз. Право, странно, знает ее с детских лет, а как Верушка уже выросла, как пленительно смотрится в розовой блузе с пышным черным бантом у ворота, с коротко стриженными, чуть растрепавшимися темными волосами! Как разрумянилась от бега, как удачно падает на ее лицо свет из обрамленного зеленью окна. Еще не сознавая всей своей прелести, она уже чувствует себя взрослой по сравнению с младшей сестренкой. Да если б можно было запечатлеть ее за этим столом, в комнате, залитой солнцем, с устремленным на него доверчивым и чуть смущенным взглядом! Что же с большей полнотой может выразить «отрадное», как не эта упоенная радостью жизни Верушка Мамонтова? Только бы уговорить ее, только бы эта непоседа согласилась.
Уговорить Верушку помогли давно сложившиеся между ними дружеские отношения. Серов работал над полотном с упоением, но и безжалостно к себе, и, когда видел, что получается не то, что надо, счищал уже написанное и начинал вновь, стараясь передать на холсте свежесть первого впечатления, безмятежность и скрытое счастье во всем облике Верушки, игру солнечного света на стенах комнаты и на ее лице.
За работой он даже забыл, что давно не писал Лёле, и вот получил от нее еще одно письмо, в котором проступали обида невесты за его молчание, ревность, опасение, как бы он не увлекся другой.
«Полюбить, – писал в ответ Серов, – я никого не полюбил (ты ведь мне веришь, ты должна мне верить). Есть здесь девушки и женщины, к которым я привязан, ты их знаешь, но той любви, о которой ты говоришь или думаешь, здесь нет.
Дорогая моя, прости меня, я чувствую себя очень виноватым перед тобой за свое молчание. Оно возмутительно. Я тебе всегда говорил, что я жестокий негодяй, который кроме своей живописи ничего знать не желает, которого любить так, как ты любишь, не следует и тревожиться о нем так, право, не стоит…» Снижая серьезность тона, уже веселее добавил: «Когда ты меня возьмешь в руки и сделаешь порядочным человеком? Я рад – вижу, что ты меня любишь. Крепко, крепко целую тебя за это».
К осени портрет «девочки с персиками» был завершен, и Серов подарил его Елизавете Григорьевне Мамонтовой к дню ее рождения. Верушкин портрет ей очень понравился, и это было самой большой наградой автору. Он испытывал редкое чувство творческой победы. Ему все же удалось написать картину, которая украсит дом Мамонтовых.
Казавшаяся когда-то очень большой сумма в тысячу рублей, полученная за роспись плафона «Феб лучезарный», к осени превратилась в ничто. Пора было подумать о другом заработке. И тут помог Савва Иванович: предложил написать два заказных портрета – инженера Семена Петровича Чоколова и его супруги. Серов без особых раздумий согласился и в начале ноября уехал в Ярославль.
Инженера в городе он не застал. Тот уехал на Север, где участвовал в строительстве железной дороги от Вологды до Архангельска. И потому Серов начал работу с портрета Екатерины Николаевны Чоколовой. Она и сама оказалась любительницей художеств, делала рисунки ковров и вышивок, которые изготовлялись в ее кустарной мастерской. Серов предложил написать ее на фоне одного из таких ковров. Профессионального художественного образования Екатерина Николаевна не имела, и она попросила, если возможно, одновременно давать ей уроки рисования и живописи. И против этого Серов не возражал.
Работа над первым портретом растянулась почти на месяц. «Каждый портрет для меня целая болезнь», – пишет Серов в это время Лёле. В Ярославле ему скучно, тянет в Абрамцево. И он с подкупающей непосредственностью признается в письме Е. Г. Мамонтовой, что каждую ночь видит ее во сне и о многом собирается поговорить, когда «будет иметь счастье» видеть ее наяву.
Вырвавшись в Абрамцево на выходные дни, с удовольствием находит там, что исполненный им Верушкин портрет заключен в симпатичную дубовую раму и висит в усадебном доме на почетном месте, а потому, пишет Трубниковой, и сам он теперь в Абрамцеве встречает «почет и уважение».
Портрет Е. Н. Чоколовой наконец-то завершен. А тут и муж ее вернулся с Севера и готов позировать художнику. На досуге Серов с упоением читает одолженный ему Елизаветой Григорьевной томик С. Т. Аксакова, «Семейную хронику», и упоминает в письме, что теперь готов «прочитать все, что написал Аксаков, от доски до доски».
В то же время он работает над другим заказом, полученным от брата Саввы Ивановича, книгоиздателя Анатолия Ивановича, предложившего проиллюстрировать некоторые сюжеты Библии. И вот, не чувствуя в себе настоящего призвания для этой работы, Серов мучается то над фигурой Каина, то над композицией «Каин и Авель», рисует змея-искусителя, а потом «трудящегося Адама». И с досадой сознает, что все это не то, совсем не то, что надо. В письме Илье Остроухову высказывает спасительную для себя мысль: отчего бы не пригласить для иллюстрирования Врубеля? «Насколько я его знаю и знаю его способности, больше чем кого другого, – мне кажется, он мог бы сделать прекраснейшие рисунки и, думаю, участвовать в этом не отказался бы».
К семейным новостям Серова в это время, о чем он сообщал Ольге Трубниковой, относилась предстоящая постановка оперы «Уриэль Акоста» в Киеве. Премьера, на которой присутствовала автор Валентина Семеновна, состоялась в начале декабря. Местные рецензенты отмечали, что прослушать оперу до конца довольно утомительно, но «сама постановка приличная».
Зимой Серов работал в Москве, заканчивал начатый ранее портрет Марии Федоровны Якунчиковой. Увы, теперь он отнюдь не испытывал той вдохновенной легкости, которая когда-то, в Абрамцеве, позволила ему сделать удачный рисунок той же Маши Якунчиковой верхом на лошади. Впрочем, портрет получился вполне «светским», и его могли бы принять на какую-нибудь выставку. Заказчиками он оплачен, а значит, и на хлеб насущный заработано.
К лету, по приглашению Владимира Дервиза, Серов приехал в его имение Домотканово. Погостить в большое поместье, где открылась уже и школа для крестьянских детей, съехались сестры Симановичи, кузины Серова. Всем хотелось поглядеть на появившуюся на свет девочку, названную Марусей. Когда из Одессы приехали наконец Маша Симанович с Олей Трубниковой, Серову пришла в голову идея нарисовать шуточный проект «Семейного портрета Симановичей и Дервизов». В большой группе он запечатлел и Дервизов с малюткой на руках мамы Нади, и трех ее сестер, и Аделаиду Семеновну, и себя с Олей Трубниковой.
К огорчению Серова, Лёля пробыла в Домотканове недолго и, посетовав на дела, вновь уехала в Одессу. Но Маша Симанович осталась, и однажды, когда они вместе прогуливались по парку, он нашел простой и естественный сюжет для новой картины. А сюжет такой. Присела девушка на скамейку под дубом, прислонясь спиной к дереву, и спокойно смотрит перед собой, словно приглашает и нас в этот славный летний день, с шаловливой игрой света и тени на лесных лужайках, на белой блузе и руках отдыхающей девушки, – в тот мир, где человек и природа так органично слиты друг с другом.
Впоследствии Маша Симанович вспоминала, что, сознавая важность этой работы для двоюродного брата, терпеливо позировала ему в течение трех месяцев, а затем, объявив автору, что, на ее взгляд, картина завершена и дальше позировать смысла нет, стала собираться в Петербург, где она занималась скульптурой в школе Штиглица. В благодарность за совместную работу Серов подарил ей 3 рубля на дорогу, и эти деньги, вспоминала Маша, ей очень пригодились. Она знала, что «эта сумма представляла для него нечто… Он, как и многие художники того времени, страдал вечным безденежьем».
Работа над полотном, получившим название «Девушка, освещенная солнцем», прерывалась лишь в пасмурную погоду, и тогда Серов переключался на писание пейзажа, изображавшего один из домоткановских прудов, с деревьями, отраженными в воде, затянутой кое-где ряской и плавающими листьями. Год назад подобный же сюжет – «Заросший пруд» – написал Левитан. Впрочем, оба они имели в этом сюжете маститого предшественника, Василия Поленова. Он десять лет назад открыл в русском пейзаже печальную красоту и поэзию старинных, заброшенных прудов.
Тем же летом Серов написал в Домотканове этюд, изображающий стоящую на холме меж деревьев старую баню, и начал работать над портретом Надежды Дервиз с ребенком на руках.
В конце июля он уехал в Абрамцево, где его тут же уговорили сыграть Жевакина в комедии Гоголя «Женитьба». После этого спектакля в абрамцевском кружке окончательно утвердилась репутация Серова как актера преимущественно комического дара. О пребывании тем летом в Абрамцеве сохранилась фотография, на которой Серов запечатлен вместе с Саввой Ивановичем, Ильей Остроуховым, М. М. Антокольским, П. А. Спиро и В. Д. Поленовым.
В тот день, когда в усадьбе ставилась «Женитьба», 6 августа, Серов пишет Лёле, признается, что сильно тоскует по ней, просит ее приехать либо сюда, в Абрамцево, где ее «все хотят видеть», либо в Домотканово, к Дервизам, где она бы зимой могла преподавать в земской школе для сельских ребятишек. Серов добавляет, что и сам выехал бы на свидание с ней, но нет денег, а «должать боится». Немного – и о настроении: «Я опять прочел твое письмо, ты говоришь о счастье: поди, разбери, где счастье, где несчастье. Все мне говорят, что я счастливец, очень может быть, охотно верю, но сам себя счастливым не называю и никогда не назову, точно так же как и несчастным, хотя и об одном ухе и с вечной тяжестью на сердце».
В этих словах проскользнул намек на одну из причин обычной молчаливости и угрюмости Серова, которые многие отмечали в нем в более поздние годы. Мучившая его в детстве и юности болезнь ушей в конце концов вызвала глухоту на одно ухо, что затрудняло полноценное общение.
Уже из Москвы, получив очередное, довольно грустное и даже «ругательное» письмо от Лёли, и понимая, что ее тревожит вопрос об их будущей жизни, Серов вновь пишет ей, пытаясь рассеять все ее сомнения и беспочвенные подозрения: «…Лёля, милая, я помню тебя и думаю о тебе более чем часто. Лёля, мне хочется, чтобы ты была скорее моей. Мама, конечно, все знает и, конечно, довольна очень, она говорит, что если бы я полюбил и женился на другой, ей было бы это совершенно непонятно. Все вообще очень мило относятся к нашей затее. Даже девицы Мамонтовские, и Маша Якунчикова в особенности, встретили меня так радушно и ласково, давным-давно зная всё; вначале они, оказывается, были огорчены – кричали и вопили, но потом решили, что это собственно эгоизм с их стороны и что, пожалуй, будет для меня лучше».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!