Читать книгу "Виткевич. Бунтарь. Солдат империи"
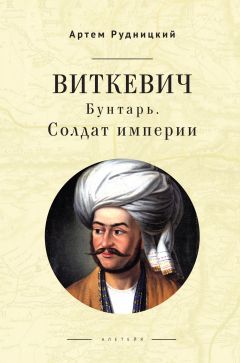
Автор книги: Артем Рудницкий
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Поляк, татарин, москаль
Естественно, Перовский не обошел вниманием Виткевича, чьи разнообразные достоинства бросались в глаза. Уже через год после своего приезда губернатор представил его к офицерскому званию прапорщика, и это представление было удовлетворено высочайшим указом. Из письма Зана Ходкевичу: «Виткевич имел счастье обратить на себя внимание и заслужить расположение нового начальника, генерал-адъютанта Перовского, который, пользуясь царским доверием и благоволением, сумел ему помочь и произвести в офицеры. Нужно ли говорить, как он был доволен, ведь присвоение звания стало итогом десяти лет ушедшего детства и юности, трудов и забот. Известие об этом он получил в день своего рождения. Его обыкновенное настроение и мысли скрасило чувство благодарности и надежда на лучшее. Пока еще мы не видели его в мундире, портные портят сукно и ругаются»[140]140
W Jewsiewicki. „Batyr”. S. 108.
[Закрыть].
Ян выделялся своей надежностью, военной подготовкой, верностью профессиональному долгу. Бросались в глаза его порядочность, всегдашняя готовность прийти на выручку товарищам, доброе отношение к людям. Если персонаж, выведенный Далем в «Бикее и Мауляне», не являлся точной копией Виткевича, то наверняка был навеян его образом.
Фрагмент повести:
«У меня есть в Оренбурге товарищ, знакомец, близкий человек, которого я крайне люблю и уважаю. Он из числа тех людей, коих большею частью называют чудаками, и это поделом: они всегда пекутся только о благе и добре чужом, а сами вечно ни при чём; кричат и надрываются, коли честный человек, который взял место для того, чтобы оно его кормило, – коли этот честный человек, из скудного жалованья своего, высиживает небольшие векселишки да кой-какие каменные домишки; приятель мой человек, который, не взирая ни на чин, ни на место, ни на звание, кричит вслух, по улицам и на базаре, что такой-то вор, а такой-то плут, а такой-то мошенник; оно иному, знаете, и неприятно. Он вообще всё делает по-своему; люди ездят по линии, по большой битой дороге, да водят за собою целый поезд конвойных; а он всю степь насквозь, вдоль и поперёк, прошёл один, припевая: “А и первый мой товарищ мой добрый конь, а другой мой товарищ калена стрела…” Он много занимается, читает, особенно путешествия, любит сам быть вечно в разгоне; чем дальше и глубже в новую и не известную ему страну, тем лучше. Он выучился азиатским языкам, знается и братается со всеми нехристями, так что мы его зовём татарином, хотя и мусульмане иногда ещё его бранят кяфыром[141]141
То есть неверный.
[Закрыть], Я слышал сам, как русские называют его поляком, и слышал, как поляки честили его москалём. Как тут быть? Чему верить, чего держаться? Я полагаю, что он должен быть – как бишь земля, где эти люди родятся?»[142]142
В. И. Даль. Бикей и Мауляна. С. 159–160.
[Закрыть].
Описал Виткевича польский писатель и поэт Максимилиан Ятовт (тоже побывавший в солдатах), печатавшийся под псевдонимом Якуб Гордон:
«Поистине, история Оренбургского корпуса богата достойными восхищения деяниями земляков наших. Без сомнения, одним из самых известных был Виткевич. Сосланный в Оренбург юноша из состоятельной семьи… с вдохновением отдался изучению татарского языка и в итоге своих трудов сделал из себя настоящего татарина, как по владению языком, так и по знанию Корана. Власти, использовавшие большие способности молодого человека, доверяли ему разные задания, связанные с поездками в соседние восточные племена. Виткевич добивался все больших успехов, особенно с назначением Перовского, любимцем которого он стал. В итоге ему было предоставлено широкое поле деятельности. Наголо обритый, в татарском халате, верхом на верблюде, он носился по степи с караванами бухарцев, составлял карты, исследовал места проживания независимых киргизов, рисовал портреты их вождей, и, глядя в книгу Великого пророка, разъяснял им ее содержание»[143]143
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 124.
К. А. Бух. Воспоминания, л. 906.
[Закрыть].
Десять лет прошло с тех пор, как гимназист, мечтавший о свободе Польши, бросил вызов властям. Десять суровых лет, наполненных нелегкими испытаниями. Теперь Польша отдалилась, а вблизи находилась дикая степь, дарившая ощущение свободы и независимости. Если для этого нужно было выглядеть казахом или киргизом-кочевником, вести себя, как вели они, что ж, он так и поступал и не тяготился этой ролью. Его прозвали татарином? Ладно, он этим даже гордился.
Но порой в адрес Виткевича кое-кто из товарищей-поляков бросал обидное слово «москаль». Не исключено, что одним из них был Сузин, о котором оставил нелестную характеристику Бух: «косный в своих крайних убеждениях… враждовал со всем, что было русское»[144]144
W Jewsiewicki. „Batyr”. S. 108.
[Закрыть].
Имелось в виду, что служить российскому государству можно только по необходимости, вынужденно, по-настоящему не проникаясь его интересами, а когда поляк делал это по-иному, то становился предателем и превращался в «москаля». Но Виткевич не видел ничего зазорного в том, чтобы быть русским офицером, который несет полную опасностей службу в дальнем приграничье. Вот что теперь наполняло смыслом его жизнь, вот ради чего он теперь жил. Наверняка не забывал о своей родине, но ему делалось все яснее, что в борьбе за ее освобождение он уже участия принимать не станет. Наступала другая жизнь, с другими правилами и задачами.
В 1834 году Перовский назначил Яна своим личным адъютантом. Губернатор не просто к нему благоволил, но опекал, испытывая к молодому поляку почти отеческие чувства. Между ними возникли своего рода дружеские отношения, конечно, с поправкой на возраст и социальное положение. Это придавало Яну дополнительный вес в оренбургском обществе.
Его приглашали в лучшие дома, без него не обходились светские рауты, перед ним открывались многообещающие горизонты. Но был ли он счастлив? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Переменив ценой огромных усилий свою участь, он должен был испытывать огромное удовлетворение, считать себя победителем в поединке с властью. Или все-таки победила она, сделав его своим верным слугой? Возможно, его точили сомнения, которые наряду с психологическими травмами прошлого усиливали присущие ему замкнутость и чувство одиночества.
Это не могло не сказаться на отношениях с друзьями.
Если прежде Виткевич делил квартиру с Заном, то теперь средства позволили арендовать собственное жилище. Жил один, с собакой по кличке «Арджент». Из письма Зана от u сентября 1834 года: «Батыр пользуется уважением и любовью, он – предмет всеобщей зависти и обожания. Арджент, который, бывает, бросается на каждого, охраняет его дом. Это единственное, что не позволяет мне навещать его чаще, чем я хотел бы, тем более что он, случается, надолго уезжает вглубь Азии. Ко мне он относится внимательно и хорошо»[145]145
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 138.
[Закрыть].
Сказано с симпатией, но чувствуются в этих словах смутные признаки какого-то отчуждения, ревности, что ли… Иначе зачем было писать о «зависти» и так настойчиво подчеркивать, что Виткевич относится к Зану «внимательно и хорошо»? Будто он самого себя в этом убеждал. Будто речь шла о «большом человеке», который мог одарить своим расположением, а мог и лишить его.
Виткевич действительно стал влиятельной персоной, при необходимости к нему обращались за помощью. «Батыр здоровый телом и духом, является доброй опорой для нас, страждущих» (письмо Зана от 21 марта)[146]146
Ibid.
[Закрыть]. С одной стороны, «здоровый телом и духом» Батыр, с другой – «мы, страждущие».
Напрашивается вывод об определенном отчуждении Виткевича от друзей. Оно не приводило, да, наверное, и не могло привести к разрыву, но, бесспорно, отдаляло от них Яна. Вечерами он по-прежнему чаевничал с Заном, Ходкевичем и Сузиным, но случалось это все реже[147]147
Ibid. S. 136.
[Закрыть].
Виткевич стал единственным из «черных братьев» и ссыльных поляков, кто в то время не просто получил офицерский чин, но выдвинулся как разведчик, почувствовав в этом свое признание, да еще высоко вознесся в оренбургской военной и социальной иерархии. Остальные довольствовались скромными и спокойными «штабными» должностями, трудились в гуманитарной и научной областях. Однажды Виткевич, находясь в походе вместе с Заном, не сумел скрыть своего раздражения обилием инструментов, использовавшихся заведующим музеем для сбора образцов минералов и местной флоры: склянок, мотков проволоки, разных приборов и т. д. Сам Ян был обвешан «винтовками и ятаганами»[148]148
Ibid. S. 147.
[Закрыть].
Отчего он так часто подвергал свою жизнь опасности, с энтузиазмом вызывался участвовать в рейдах, из которых можно было не вернуться, не боялся сложить голову в далеких краях? В конце концов, имелась возможность бесхлопотно нести службу в Оренбурге, так поступали многие. Или ему не терпелось выступить в роли имперского агента, действуя в интересах государства, которое искалечило его юность, едва не лишило жизни, которое продолжало угнетать Литву и Польшу? Впрочем, как уже говорилось, в усиливавшейся мощи этого государства была своя притягательность.
Наверное, имелись и другие мотивы, побуждавшие Виткевича ступить на стезю первопроходца-разведчи-ка. Он намеренно шел навстречу опасности, ставил на карту свою жизнь – это было у него в крови, безмятежное, сытое существование ему претило. Не будь крожской драмы, Ян наверняка примкнул бы к повстанцам 1830 года и сражался с царскими войсками. Лишенный такого шанса, он по-своему спорил с судьбой, играл с ней в орлянку.
Возможно, в какие-то моменты молодой офицер сознательно искал смерти. Разочарований в его жизни хватало. Тосковал по родине и переживал из-за того, что поляки, продолжавшие бороться за свободу, могли счесть его отступником. Оттого, что утратил близость с членами родной семьи, на сердце становилось еще горше. Сказывались годы разлуки, да и история с Яновским не прошла бесследно.
Какое-то время ни писем, ни денег из Пошавше Виткевич не получал. Об этом стало известно Зану. Когда они на паях снимали квартиру, Яну часто было нечем платить, а если у него появлялись средства, то расходовал он их быстро, с легкостью. Томаш ругал его за житейскую неопытность, бесхозяйственность и переживал из-за трудностей, с которыми сталкивался Ян. В письме Ходкевичу от 7 июня 1832 года Зан отмечал, что из дому Виткевичу не отвечают, денег не присылают, и это сказывается на бюджете приятелей. В письме Петрашкевичу он также упоминал о финансовых трудностях Виткевича, который «напрасно ждал посылок из дома»[149]149
Ibid. S. 97–98.
[Закрыть].
Игнаций, теперь управлявший Пошавше, не раз обещал прислать пять тысяч рублей и даже потребовал от Яна расписку в том, что эти деньги он получил. Расписку Ян отослал, а денег все не было. В конце концов пришли, вероятно, после упрашиваний и длительного ожидания. Вряд ли это способствовало потеплению в семейных отношениях.
Но не будем преувеличивать степень разлада, ведь Яна не вычеркнули из фамильного списка, а со временем, когда он стал легендарной личностью даже стали им гордиться. Особенно после его смерти. Но то, что разлад существовал, не подлежит сомнению. Это была одна из причин, которые заставляли Яна мрачнеть и замыкаться в себе. Конечно, хандра не была каждодневной. Он не чурался хорошей компании, выпивал с друзьями, играл в карты…. Но не был беззаботным весельчаком и всякий раз норовил быстрее покинуть Оренбург, пускаясь в странствия по степям и горам уральским.
На Рождество 1834 года Перовский предоставил своему адъютанту короткий отпуск, чтобы тот навестил родных. Доказательство высочайшего доверия. А ну, как очутившись в Литве, забросит чепец за мельницу, учудит что-нибудь этакое «освободительное»? Но Василий Алексеевич успел достаточно хорошо изучить своего любимца и видел, что тот прикипел душой к оренбургскому фронтиру, дикой Степи, поддавшись непередаваемому очарованию Востока. Да и его отношениям с семьей не хватало прежней сердечности.
В конце декабря Ян прибыл в Вильно, затем явился в Пошавше. Как его встретили мать с новым супругом, братья, сестры? Обняли, расцеловали, но холодок в общении присутствовал.
Сохранилась запись в дневнике племянницы Эльвиры: «В 1835 году Ян Виткевич приехал домой как адъютант Перовского»[150]150
Ibid. S. 144.
[Закрыть]. Не брат отца, родной дядя, а адъютант генерал-губернатора. Так его воспринимали.
Из книги Сафонова:
«…Виткевич на свободе, даже едет в отпуск – наконец домой, в Литву. С ним слуга, невиданно одетый, изумляющий обитателей литовских местечек чудесами джигитовки; пожалуй, тургеневский Муций из “Песни торжествующей любви” произвел на сограждан сходное впечатление, вернувшись с таинственным малайцем»[151]151
В. Сафонов. На горах – свобода // https://knigism.net/view/16443.
[Закрыть].
Азиатский слуга произвел особенное впечатление на обитателей Пошавше, слухи дошли даже до Оренбурга. Виктор Ивашкевич поделился ими с одним из своих подчиненных, тоже ссыльным поляком Адольфом Янушкевичем, и тот записал в дневнике: «Рассказывал мне Виктор о киргизе, которого Виткевич возил с собой в Литву. Так ему понравилась наша страна, а в особенности некая Антося, служившая у родных его пана, что захотел сменить веру, жениться и остаться там, но пан не позволил»[152]152
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 144.
[Закрыть].
Когда Ян гостил в Пошавше, его портрет написал талантливый белорусский художник Валентий-Вильгельм Ванькович. Эльвира пометила в дневнике: «В семье есть портрет Виткевича в мундире адъютанта, с аксельбантами». Сам портрет не сохранился, но уцелела сделанная с него фотография. Эльвира вспоминала: «Стах (брат Станислав – авт.) прислал мне фотографию красивого офицера с грустными глазами – должно быть, это снимок с портрета. Брат мой не знал, откуда это у него…»[153]153
Ibid. S. 144–145.
[Закрыть].
«Грустные глаза» – верно подмечено, «красивый офицер» не был счастлив, и личная жизнь у него, видно, не складывалась.
У Виткевича появлялись романтические увлечения, не век же было горевать после неудачной влюбленности в Анну Яновскую. Их не могло не быть у блестящего офицера, который, как констатировал Зан, «в течение двух лет приобрел всеобщую известность»[154]154
Ibid. S. 137.
[Закрыть].
Виткевич ухаживал за дочерью Ходкевича, Ксавериной. и сентября 1834 года Зан написал ее отцу, что Ян обещал сочинить для нее романс или «башкирскую песенку». Евсевицкий отыскал в личном архиве Зана текст, который, как он допускал, и являлся этой «песенкой» или «романсом»:
«Батыр, Батыр, скажи, неустрашимый муж,
Какое солнце печет тебя сильнее?
То, что кружит над тобой по небу,
Или то, которое обращает на тебя свой взгляд?
Сияют солнца лучи, а душа принадлежит пастушке,
Оно жжет голову, она – жжет сердце»[155]155
Ibid. S. 137. Перевод с польского автора этой книги.
[Закрыть].
Эти строки свидетельствуют не только о нежном чувстве, но и об определенном нарциссизме Яна, изображавшего себя «неустрашимым мужем». Впрочем, он и впрямь был неустрашим, отважен и в то же время одинок. Что-то мешало остепениться, завести семью, заставляло снова и снова искать опасностей в Степи. Он словно проверял на прочность свою удачу, но это не прибавляло ему ни благодушия, ни оптимизма.
Польский заговор
Очередным потрясением для Виткевича стали события осени 1833 года. От нескольких заключенных, томившихся в оренбургском тюремном замке, поступила информация о якобы готовившемся заговоре поляков. Задумали, мол, мятеж – с убийством военных и полицейских чинов и захватом города. Указывалась даже точная дата «возмущения» – в ночь с 27 на 28 октября. Организаторами назвали Зана, Виткевича и Ивашкевича. Над ними нависла огромная опасность – после восстания 1830–1831 года «польские заговоры» раскрывали по всей Сибири и власти не церемонились с бунтовщиками, реальными или мнимыми.
Перовский был вынужден отдать приказ об аресте «зачинщиков» и еще нескольких офицеров и унтер-офицеров польского происхождения. В канцелярии III Отделения завели следственное дело: «О показании арестанта Андрея Старикова и рассказе арестанта Майера о задержанных в Оренбурге поляках Фомазоне, Сюзине и Виткевиче»[156]156
ГА РФ. Ф. 109.1 эксп., 1833, оп. 8, д. 379.
[Закрыть]. Под «Фомазоном» имелся в виду Томаш Зан, под Сюзиным – Сузин, а фамилию Виткевича писарь ухитрился написать без ошибок.
Как видно из названия дела, доносчиками выступили Стариков и Майер (Мейер). Первый – уфимский мещанин, находившийся по какому-то делу в оренбургской тюрьме, второй – ссыльный (по имени Людвиг), поплатившийся за свое участие в ноябрьском восстании. Они поведали городскому коменданту, генерал-майору Роману Григорьевичу Глазенапу, о намерениях заговорщиков расправиться с Перовским, всеми командирами воинских частей, комендантом, полицмейстером и любыми представителями властей, которые попытались бы оказать сопротивление. Цель ставилась простая – захватить власть в городе и во всем крае. Утверждалось, будто мятежники привлекли на свою сторону не только поляков (по всей Оренбургской линии их было разбросано около 1500), но и некоторое количество русских солдат и офицеров. Им-де внушалось, что они выступают за то, чтобы Николая I сменил на троне Великий князь Константин Павлович, слывший в народе чуть ли не либералом. В общем, подразумевалось своеобразное повторение декабрьских событий 1825 года, когда восставшие требовали воцарения того же Константина.
Хотя Великий князь умер в июне 1831 года, злоумышленники, как уверяли Стариков и Майер, пустили слух, что он на самом деле жив, скрывается во Франции и готовится с французским войском и войском прусского короля вторгнуться в Россию и поддержать восстание. Кодовым сигналом к нему должно было послужить слово «Бухара».
Вслед за Стариковым и Майером подал голос еще один доносчик, рядовой Бонифаций Кривицкий, тоже осужденный за участие в ноябрьском восстании. 30 октября он дал показания непосредственно против Виткевича: о том, что тот готовился к побегу в Степь и одновременно подговаривал польских солдат повернуть оружие против своих командиров. Одно противоречило другому, но доносчика это, видимо, не волновало…
Итак, дело принимало скверный оборот. Уже не два доноса, а целых три! Утаить происходящее не представлялось возможным, и Перовский обо всем доложил военному министру Александру Ивановичу Чернышеву. Со своей стороны, находившийся в Тобольске жандармский полковник Маслов, курировавший Оренбургский край, отрапортовал Бенкендорфу.
Были произведены аресты. Виткевича и его друзей поместили в одиночные камеры, их квартиры тщательно обыскали. Все обнаруженные письма и другие бумаги скрупулезно изучались в надежде найти хоть какие-то намеки о готовившемся злодеянии. Но тщетно. Разве что в переписке Виткевича усмотрели некие пассажи, которые можно было истолковать как свидетельства о подготовке побега. Особое внимание привлекло письмо Ходкевича, в котором граф призывал Яна сделать перерыв в изучении арабского языка, хотя бы на год, поскольку «путь этот ненадежен и слишком опасен». Следователи пришли к выводу, что Виткевич изучал арабский, чтобы бежать, а Ходкевич его отговаривал.
Ян парировал это обвинение, указав, что речь не шла об изучении арабского языка, и Ходкевич случайно допустил ошибку, написав “cours d’Arabe” (курс арабского) вместо “courre d’Arabe” (арабский путь). Что же до самого «пути», то, как объяснил Виткевич, это было условным обозначением его вылазок в Степь. То есть Ходкевич призывал не рисковать так часто своей жизнью, взять «тайм-аут» и с годик посидеть на месте[157]157
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 120.
[Закрыть].
В материалы следствия попало и адресованное Зану письмо профессора Московского университета Юзефа Ежовского, в котором, в частности, говорилось: «Ходкевич много рассказывал хорошего о Виткевиче. Если он здоровый, смелый, решительный, смекалистый, если хорошо знает татарский язык, то пусть постарается изучить Бухару, собственно, узбеков, лучше, чем это делали до него…Если узнает этот край, проникнет вглубь его, то познает и себя, поймет, что ему делать». Тут же было выдвинуто предположение, что это свидетельствовало о намерении Виткевича бежать в Бухару, и Зану стоило немалых усилий убедить следователей, что речь шла о сугубо исследовательских планах[158]158
Ibid.
[Закрыть].
«Польский заговор» привел в состояние крайнего возбуждение весь Оренбург. Только про это и говорили. Но, надо сказать, в виновность арестованных мало кто верил, уж слишком фантастическими представлялись приписывавшиеся им преступные прожекты. «Зан, бедный Зан, взят под стражу по какому-то доносу!» – сокрушалась в одном из своих писем самарская дворянка Евгения Захаровна Воронина, проживавшая в Оренбурге в 1833 году[159]159
Письма из Оренбурга. Русский архив. 1902. Т. 8. С. 657.
[Закрыть]. По ее словам, какое-то время «все делалось так таинственно, все об этом только шептались», но ко времени написания письма (6 ноября) обыватели осмелели, поскольку стало ясно: в администрации сомневаются в виновности поляков. «Теперь все громко говорят об этом и уверяют, что донос был ложный и все арестованные поляки освободятся»[160]160
Там же.
[Закрыть].
Расследование окончилось для задержанных благополучно. 26 ноября 1833 года члены следственной комиссии сошлись на том, что обвинения Старикова, Майера и Кривицкого ничем не подтверждаются и поляков оклеветали. По общему мнению, добровольные информаторы рассчитывали доносительством завоевать благодарность властей и добиться освобождения.
Мотив, которым руководствовался Бонифаций Кривицкий, отличался анекдотичностью. По слухам, циркулировавшим в оренбургском обществе, к неблаговидному поступку его толкнула любовь к дочери атамана «какой-то крепости», не желавшего отдавать девицу простому солдату. Вот солдат и понадеялся своими действиями заслужить право на повышение в чине и прочие награды, чтобы умилостивить отца невесты. Об этом рассказывала Воронина[161]161
Там же.
[Закрыть].
Заключенных освободили, они вернулись к своей службе. И все же историки до сих пор спорят, а не было ли в показаниях Старикова, Майера и Кривицкого зерна правды?
Что касается побега, то о нем Виткевич прежде задумывался, это показал эпизод с Гумбольдтом. Но сомнительно, чтобы такие планы он строил в 1832 или 1833 году, когда в его положении произошли ощутимые перемены к лучшему и перед ним открылись недурные карьерные возможности.
Идея с восстанием теоретически также могла им рассматриваться, этого не исключает В. А. Дьяков, посвятивший одну из своих книг «Оренбургскому заговору 1833 года»[162]162
В. А. Дьяков. Оренбургский заговор 1833 года. М., 1977.
[Закрыть]. Такая постановка вопроса импонирует тем исследователям, которым хотелось бы найти доказательства того, что дух освободительной борьбы в сердце Виткевича не угас и спустя 10 лет после крожского инцидента[163]163
W. Jewsiewicki. „Batyr”. S. 123.
[Закрыть]. Но даже если подобная идея как-либо обсуждалась Виткевичем с друзьями, то не в расчете на помощь цесаревича, который, дескать, прискачет вместе с французами и пруссаками спасать поляков. В то, что Великий князь Константин Павлович жив, верили только люди простодушные и невежественные, а у Виткевича, Зана и Сузина такой фантастический сценарий мог вызвать лишь гомерический хохот.
Поэтому Дьяков, а вслед за ним Евсевицкий допускают более реалистичную схему: выступить, чтобы отвлечь внимание царского режима от Польши, где будто бы, как надеялись гипотетические заговорщики, намечалось новое вооруженное восстание, а затем бежать в степи, в Бухару и дальше – в Китай или Индию[164]164
В. А. Дьяков. Оренбургский заговор 1833 года. С. 124.
[Закрыть]. Однако весомых документальных доказательств в пользу этой теории не найдено.
Нам кажется несостоятельным предположение о том, что Перовский догадался об антигосударственных намерениях поляков, но решил закрыть на это глаза[165]165
W. Jewsiewicki. Ibid. S. 123.
[Закрыть]. В этом якобы сыграли свою роль его симпатии к вольнодумцам и другие, прагматические соображения. Осуждение поляков обязательно бросило бы тень на губернатора, проявлявшего к ним благосклонность и осложнило осуществление его амбициозных замыслов. Но, как представляется, правитель Оренбуржья ни под каким видом не стал бы помогать возможным фигурантам заговора, будь он уверен в их вине. При необходимости Перовский беспощадно карал не то, что «покушавшихся на основы», а просто нарушителей дисциплины, неважно, поляки они или русские. Однажды по его указанию засекли насмерть рядового Левандовского, вспылившего из-за самодурства командира и сорвавшего с него эполеты[166]166
Ibid. S. 129–130.
[Закрыть].
Поэтому, если бы Василий Алексеевич хоть в какой-то степени допустил причастность Виткевича и его друзей к «заговору», никаких поблажек с его стороны не последовало бы. Однако, обеспечив максимально объективное расследование, такое допущение он исключил[167]167
См. подробнее: В. А. Шкерин. Ян Виткевич и Оренбургский губернатор Василий Перовский. С. 133.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































