Текст книги "Корсары Леванта"
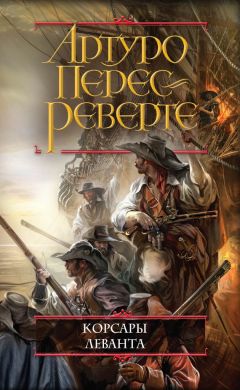
Автор книги: Артуро Перес-Реверте
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Выстрел услышал. Я еще раньше видел, как ты дерешься. Ты показался мне истинным воином – имъяхадом, по-нашему. Истинно так.
– Обычно я не суюсь в чужие дела.
– Я тоже. Но тут вошел и заметил, что ты защищаешь мавританку.
– Не все ли равно – мавританка или нет… Те двое отвечали мне с непростительной дерзостью… Так что не в женщине было дело.
Мавр прищелкнул языком.
– Тидт. Твоя правда… Но ведь ты мог бы отвернуться или сам принять участие в забаве.
– Наверно, и ты мог. Однако же – не стал. А ведь если бы ты попался, за убийство испанца спроворил бы себе, как Бог свят, пеньковый воротник.
– Но – не попался же. Судьба.
Они примолкли, не сводя друг с друга глаз и словно бы решая, кто перед кем в большем долгу: мавр перед капитаном за то, что вступился за женщину его племени, или капитан перед мавром за то, что тот спас ему жизнь. Меж тем мы с Копонсом, удивляясь этой беседе, столь же странной, сколь и неуместной, незаметно переглянулись.
– Саад, – по-арабски, задумчиво и так, будто эхом откликнулся на последнее слово мавра, пробормотал капитан.
Айша одобрительно улыбнулся:
– Мы говорим «элькхадар». На моем наречии это значит разом и удачу, и судьбу.
– Откуда ты?
Мавр сделал какое-то неопределенное движение рукой, указывая в никуда.
– Оттуда… С гор.
– Далеко?
– Уах. Очень далеко и очень высоко.
– Чем тебе помочь? – осведомился Алатристе.
Тот пожал плечами, но потом, будто размышляя вслух, ответил:
– Я – асуаг. – И прозвучало это так, словно должно было разом снять все вопросы. – Из племени бени-баррани.
– Ловко чешешь по-нашему.
– Моя мать – христианка… Испанка из Кадиса. Еще ребенком ее продали в рабство в Арсео – приморский городишко в семи лигах к востоку от Мостагана… И там ее купил мой дед для моего отца.
– Занятный у тебя рисуночек на щеке… Особенно для мавра.
– Это старинная история… Мы, асуаги, происходим от христиан. В те времена, когда здесь еще были готы, а нам не чуждо было слово исбах. Честь, по-вашему. Потому-то мой дед и женил сына на христианке.
– И потому-то, надо полагать, ты сражаешься с нами против других мавров?
Айша пожал плечами, покорствуя судьбе:
– Элькхадар.
После чего замолчал, поглаживая бороду и улыбаясь каким-то своим мыслям.
– «Бени-баррани» – значит «сын чужеземца», понимаешь? Это племя людей без родины.
Вот так оно и вышло, что в 27-м году, в Оране, после набега на становище Уад-Беррух, мы с капитаном Алатристе познакомились с наемником Айшой Бен-Гурриатом – весьма примечательной личностью, чье имя не раз еще встретится на этих страницах. Никто из нас тогда и представить себе не мог, что знакомство, начавшееся в этот вечер, продлится целых семь лет – до кровавого сентябрьского дня 34-го года, когда Гурриат, капитан и я, и еще множество наших товарищей, дрались на окаянном нордлингенском холме. Череда странствий и опасных приключений будет предшествовать тому дню, когда наш неколебимый, как скала, полк выдержит за шесть часов пятнадцать шведских атак, но не сдвинется ни на пядь, могатас погибнет у нас на глазах геройской смертью, что значит – приличествующей солдату испанской пехоты. Защищая чужую веру и чужую отчизну – в чаянии обрести когда-нибудь свои собственные. Подобно многим другим сложит голову за неблагодарную сквалыгу Испанию, никогда никому ничего не дававшую взамен – ибо именно ей по каким-то ему одному ведомым расчетам Айша Бен-Гурриат из племени азуагов Бени-Баррани решил служить с истинно собачьей, свирепой и несокрушимой верностью. И сделал это самым что ни на есть причудливым способом – выбрав себе в сотоварищи капитана Алатристе.
В последующие двое суток, пока оставившая за кормой берберийское побережье «Мулатка» держала курс к северу, на Картахену, Диего Алатристе имел богатую возможность присмотреться к мавру Гурриату получше, благо тот ворочал веслом на пятой банке правого борта, рядом с загребным. Он был без цепей и звался отныне вербото́й: так именуют на наших галерах всякое припортовое отребье, проходимцев не в ладах с законом, людей отчаявшихся и готовых на все – в том числе и на то, чтобы пойти в гребцы не по приговору суда, а своей охотой и за деньги. Замечу кстати, что для таковых молодцов, коих на турецком флоте зовут морлаками [15]15
Морлаки (морские или приморские влахи) – славянские обитатели Далматинских гор.
[Закрыть] или просто шакалами, галеры в море служат убежищем столь же надежным, как церковь – на суше. Именно такой путь оказаться на борту «Мулатки» избрал для себя наш могатас, решивший сопровождать Диего Алатристе и пытать счастья с ним вместе и заодно. После того как уладилось дело с отставкой Себастьяна Копонса – главный сержант Бискарруэс удовлетворился пятью сотнями дукатов в руку вдобавок к тем, что рано или поздно казна выплатит арагонцу, – в кармане у моего бывшего хозяина еще что-то брякало, так что в случае нужды можно было умаслить кого надо. Нужды, однако, не возникло. Мавр, у которого нашлись собственные средства, чье происхождение он объяснять не пожелал, развязал платок, обвязанный жгутом вокруг поясницы, и достал из-под него несколько серебряных монет, которые, хоть и были отчеканены в Алжире, Фесе и Тремесене, произвели обыкновенное свое, то есть чудотворное, действие на комита и судового альгвазила: и, засияв в полнейшем блеске, аргументец вышел веский, вполне убедив обоих в том, что они поступят в высшей степени разумно и хорошо, если возьмут мавра на борт. И, не чиня никаких препятствий, они приняли на веру христианскую веру нашего могатаса, а его самого – в состав экипажа, внеся в судовую роль под именем Гурриато из Орана и положив ему одиннадцать реалов жалованья в месяц. И – быть по сему: с этой минуты новый гребец, нечувствительно восприявший таинство крещения, сделался добрым католиком и лицом, состоящим на службе у короля Испании, против чего возражать нимало не намеревался, а потому, явив предусмотрительность и хитроумие, лишился знака своего воинского достоинства – пряди на макушке, – оставшись с наголо обритой, как у всякого галерника, головой; а чалму, сандалии, шаровары и прочее мавританское платье сменив на штаны, полотняную куртку, красную нижнюю сорочку-альмилью и берет, так что из всей своей прежней амуниции сохранил при себе лишь кинжал, заткнутый, как и раньше, за кушак, да полосатый бурнус, которым укрывался по ночам или в непогоду – вот примерно как сейчас, когда свежий попутный ветер делал усилия гребцов ненужными. Что же касается татуировки и серебряных серег в ушах, то он у нас в команде был не единственный, кто блистал такими особенностями.
– Странный малый этот мавр… – заметил Себастьян Копонс.
Не скрывая радости от того, что Оран давно скрылся позади, арагонец сидел у поскрипывающей фок-мачты под сенью вздутого восточным ветром паруса.
– Не странней, чем ты да я, – отвечал ему Алатристе.
Он целый день наблюдал за могатасом, а тот издали совсем не отличался от прочей гребной братии – каторжан и рабов, насильно усаженных на весла, закованных в кандалы по рукам и ногам. Из двухсот обитателей гребной палубы едва ли набралось больше полудюжины завербовавшихся своей охотой – ну или оттого, что охота шла за ними. Имелось также известное количество и «добровольных галерников» – такой вот чисто испанский оксюморон объяснялся тем, что по причине вечной нехватки людей на королевских галерах и в берберских гарнизонах каторжников, отбывших свой срок, на свободу не отпускали, а заставляли делать то же, что и прежде, но уже за плату. Предполагалось – пока им на смену не прибудет новая партия сосланных на галеры по приговору суда, но поскольку обычно происходило это с большими задержками, то, отмахав веслами по два года, по пять, а иные и по восемь-десять лет, впрочем, до конца десятилетнего срока мало кто дотягивал, – арестанты – даже и не скажешь: волей-неволей, ибо именно что неволей, – оставались здесь еще на несколько месяцев, а то и лет.
– Гляди, – сказал Копонс. – Молятся, а ему хоть бы хны. Будто и впрямь не из них.
Ветер, как я уже говорил, был благоприятным, и гребцы всех перечисленных мною разрядов – и каторжане, и вольные, и задержанные в силу необходимости – предавались блаженной праздности. Вся эта публика разлеглась на скамейках-банках, справляла нужду за борт или в гальюнах на носу, била вшей, починяла одежонку или мастерила что-то по заказу моряков и солдат. Рабам, пользовавшимся доверием начальства, позволялось снять цепи и свободно ходить по всему кораблю, устраивать постирушку в морской воде или помогать нашему коку стряпать: от плиты, помещавшейся по левому борту между грот-мачтой и кормовой надстройкой, валил ароматный пар – там упревали тушеные бобы. Десятка два гребцов – почти половину их у нас на галере составляли турки и мавры – воспользовались затишьем, чтобы сотворить один из пяти ежедневных намазов: обратясь лицом на восток, стали на колени и, то утыкаясь лбом в настил, то выпрямляясь, затянули хором: «Ла-иллях-иль Алла, уа Мухаммад расул Алла», то есть «Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его». Команда и солдаты смотрели на это и молиться не препятствовали, однако и мусульмане, стоило лишь комиту щелкнуть бичом, когда на горизонте показывался парус или ветер стихал и звучал приказ разобрать весла, вмиг прекращали молитву и принимались грести, звоном своих кандалов вторя плеску воды под лопастями. На нашей галере все службу понимали.
– Так оно и есть, – ответил Алатристе. – Я думаю, он и в самом деле – ниоткуда, как сам сказал.
– Полагаешь, врет насчет того, что племя его раньше было христианским?
– Может, и не врет. Ты ж видел – крестик на скуле? А вечером он рассказывал про бронзовый колокол, спрятанный в пещере. У мавров колоколов нет. Меж тем во времена готов, когда пришли сарацины, многие не пожелали отречься от святой веры и бежали в горы. Конечно, за столько веков вера-то повыветрилась, но остались обычаи, воспоминания… Всякая такая штука. Да и борода у него отдает в рыжину.
– Может, мастью в мать удался.
– Может, может… А только ты присмотрись – и увидишь: он себя мавром не считает.
– Ни мавром, ни христианином.
– Мне-то хоть мозги не полощи, Себастьян… Сам-то за последние двадцать лет сколько раз был у мессы?
– Сколько раз не смог отвертеться, столько и был, – рассудительно промолвил арагонец.
– А какие именно Божьи заповеди нарушал с тех пор, как пошел в солдаты?
Копонс сосредоточенно посчитал на пальцах и ответил угрюмо:
– Все до единой.
– И что же – это помешало тебе воевать за короля?
– Еще чего!
– То-то и оно.
Диего Алатристе продолжал наблюдать за Гурриато, а тот, свесив ноги, сидел на борту и созерцал морской простор. По словам могатаса, он впервые оказался на корабле, однако, несмотря на мертвую зыбь, в которую мы попали, едва лишь скрылся из виду крест Масалькивира, от качки и морской болезни, от нее проистекающей – о-о, и сколь еще обильно! – не в пример прочим не страдал. Секрет, как он уверял, был в том, что, по совету одного мавра, положил поближе к сердцу листик шафрана.
– Так или иначе, выносливый малый оказался. Быстро осваивается, – сказал Алатристе.
Копонс издал утробный стон.
– В отличие от меня, – он вымученно улыбнулся. – Я не так давно изверг из утробы все, что там было… Видно, ничего не захотел забирать с собой из Орана…
Алатристе кивнул. В свое время ему самому нелегко далась привычка к тяготам галерной жизни – теснота и скученность, когда люди постоянно трутся боками в замкнутом пространстве и мозолят друг другу глаза, грызут каменной твердости, червивые, со следами мышьих зубов сухари, которые черта с два размочишь, пьют безвкусную и протухшую воду, терпят насмешки матросов, сносят вонь и смрад… И кожа зудит под одеждой, стиранной в соленой воде, и спишь вповалку на голой палубе, со щитом взамен подушки под головой, и нежное тело твое беспрестанно язвят то зной, то ливень, а по ночам в открытом море – холод, сырость, обильная роса, от которой, говорят, тебя удар хватит или глухота постигнет. Не говоря уж о качке, выматывающей душу, выворачивающей нутро, о ярости штормов, об опасностях морских боев, когда дерешься на шаткой, ходуном ходящей палубе, ежеминутно рискуя сверзиться в море. И все это происходит в изысканном обществе самой что ни на есть отборной сволочи, сосланной на галеры, а перед тем подвергнутой телесному наказанию, то бишь – выдранной публично: еретиков, фальшивомонетчиков, верооступников, лжесвидетелей, святотатцев, мошенников, растлителей, прелюбодеев, воров, грабителей и убийц, никогда не расстающихся с засаленной колодой или с костями. Впрочем, не лучше и моряки с солдатами, ибо там, куда они сходят на берег, – в Оране для вразумления остальных одного пришлось даже повесить – не остается курятника, который бы они не распотрошили, огорода, который бы не опустошили, вина, которого бы не выжрали, еды и одежды, которых бы не забрали, женщины, которая сберегла бы честь после встречи с ними, мужчины, которого бы они не зарезали или не избили. Ибо, как говорит старинное присловье, Господу виднее, кому послать холеру, кого – на галеру.
– И ты всерьез полагаешь, из него выйдет солдат?
Копонс снова уставился на мавра. И Алатристе тоже. Потом как-то неопределенно передернул плечами:
– Поглядим. Сейчас он, как сам того хотел, познаёт мир.
Арагонец с пренебрежением ткнул пальцем в сторону гребной палубы и тотчас красноречиво поднес его к носу. Если бы не свежий ветер, надувавший паруса, то от гальюнного смрада, соединенного с витающим над куршеей зловонием немытых тел, скученных среди весел, бухт каната, каких-то тюков, дышать было бы совсем нечем.
– «Познаёт мир»… Это ты, пожалуй, загнул, Диего. – Все еще недоумевая, он приподнялся на локтях и вымолвил: – И чего мы его с собой тащим?
– Никто его не тащит. Своей волей пошел.
– А тебе не странно, что так вот, за здорово живешь, он выбрал нас в товарищи?
– Ну, если вспомнить, с чего все началось, то не за здорово живешь… Сам-то подумай, черт возьми… Товарищи тебя выбирают, а не ты их.
Он еще некоторое время смотрел на могатаса, а потом, слегка сморщившись, добавил задумчиво:
– В любом случае это звание он еще не заслужил.
Копонс погрузился в размышления, осмысляя эти слова. Потом снова утробно простонал и молчал, пока Алатристе не спросил:
– Знаешь ли, Себастьян, о чем я думаю?
– Понятия не имею, чтоб меня громом убило! Черт тебя знает, о чем ты думаешь.
– А думаю я, что ты как-то переменился. Словоохотлив стал.
– Неужто?
– А вот ей-богу.
– Это все Оран. Слишком долго я там проторчал. Намолчался.
– Очень может быть.
Арагонец сморщил лоб. Потом, сдернув платок с головы, обтер взмокшие от пота лицо и шею.
– А это хорошо или плохо? – осведомился он через минуту.
– Почем мне знать? Просто отмечаю перемену.
– Ага…
Копонс устремил взор на свой платок, словно отыскивая в нем ответ на этот сложный вопрос.
– Просто-напросто я старею… – пробормотал он наконец. – Годы берут свое, Диего. Ты ж видал Фермина Малакальсу? Сравни, какой он был и что с ним сталось теперь.
– Да, конечно… Слишком много всякого за плечами… Наверно, и впрямь от этого…
– Наверно.
Я же в то время находился на другом конце корабля, неподалеку от мостика, и наблюдал, как штурман по звездам определяет место. Надо сказать, что к своим семнадцати годам я был юноша смышленый и любознательный и с жадностью усваивал все, что видел. Так продолжалось едва ли не всю мою жизнь, и пытливости своей обязан я до известной степени умению сносить удары судьбы. Помимо весьма полезных зачатков судовождения, коему начал я учиться, едва ступив на борт «Мулатки», в сем затворенном мире открылось мне и немало иных навыков и умений: начиная от лечения ран, которые в море из-за влажного и соленого воздуха затягиваются в совсем иные, нежели на суше, сроки, и кончая той наукой, которую постигал в Мадриде, когда был желторотым школяром, во Фландрии – когда мог почесть себя бакалавром, и на королевских галерах, где ходил уже не менее чем в лиценциатах, ибо Господь Бог или сатана наделили род людской разнообразием столь же богатым, сколь и опасным. И многие здесь с полным правом могли бы отнести к себе строки дона Франсиско де Кеведо:
Хоть далась наука тяжко,
Все ж я стал лиценциатом
В университете клятом
Под названьем «каталажка»,
А теперь учу сардин.
…Издали среди гребцов, моряков и солдат я видел мавра Гурриато, невозмутимо созерцавшего морской простор, а также и Диего Алатристе, вполголоса беседовавшего с Копонсом под фок-мачтой. Должен признаться, что все еще пребывал под сильным впечатлением от гостевания в доме Фермина Малакальсы. Разумеется, то был не первый встреченный мною ветеран, но, увидев, что, столько лет верой и правдой отслужив королю, он, обремененный семейством, намертво завяз в убожестве захолустного Орана, в лютой бедности и взамен надежды на перемену участи получил превосходный выбор – либо по-прежнему гнить, как выброшенное на солнцепек мясо, либо вместе с домашними своими попасть в рабство к маврам, если те, не дай бог, когда-нибудь возьмут город. Ну так вот, встреча с Фермином задала работу моему мозгу, и упражнять его я принялся чаще, чем это было мне свойственно прежде. А упражнения, сиречь размышления, не всегда вяжутся с избранным мною ремеслом. Помню, когда был помоложе, я с упоением декламировал «солдатские октавы» Хуана Баутисты де Вивара, нравившиеся мне до чрезвычайности:
Огнем и сталью вышколив на славу,
Война обучит главному всех нас —
Как жизнь, что нам дарована лишь раз,
Отдать за Бога, короля, державу… —
…но при этом довольно часто замечал, что капитан Алатристе прятал в усы насмешливую ухмылку, и хоть он никогда не позволял себе никаких замечаний или комментариев, однако не от него ли я столько раз слышал, будто словами никого не вразумишь? Прошу вас, господа, учесть одно немаловажное обстоятельство: в бытность мою во Фландрии, при Аудкерке и под Бредой мне, зеленому, а потому и безмерно легкомысленному юнцу, все было в диковинку и в отраду, и то, что для других стало бы тягчайшими мытарствами и трагическими испытаниями, я, как истый испанец, с колыбели привычный к самой черной нищете, воспринимал увлекательным приключением, забавой и игрой. Однако к семнадцати годам, когда сложился нрав, развился ум и прибавилось житейских сведений, беспокойные вопросы полезли ко мне в душу, как хороший кинжал – сквозь створки панциря. Вот тогда мне и открылось, почему Диего Алатристе топорщил в кривой усмешке левый ус, и после памятного помещения Малакальсы я никогда больше стихов этих не читал. Мне уж было довольно лет и хватало разумения, чтобы разглядеть в этой хибаре тень моего отца, тени Алатристе и Копонса, а в отдалении – и свою собственную, которая тоже рано или поздно должна будет там появиться. Впрочем, моих намерений это обстоятельство никак не меняло: я, как и прежде, хотел быть солдатом. Однако после Орана военную службу стал рассматривать не как цель всей жизни, но скорее как средство, действенный и надежный способ, заковав себя в броню уставов и незыблемого воинского порядка, противопоставить враждебному, хоть и совсем еще неведомому мне тогда миру все, что искусство владеть оружием предоставило в мое распоряжение. И, кровью Христовой клянусь, я оказался прав. Все пригодилось потом, когда настали тяжкие времена – тяжкие и для несчастной нашей Испании, и для меня самого, пригодилось и помогло вытерпеть череду разлук, утрат, скорбей, выстоять под ударами судьбы. И ныне, еще пребывая по сю сторону границы бытия, еще что-то сохранив в себе, хоть и потеряв во сто крат больше, я с гордостью могу свести бытие и собственное, и еще нескольких отважных и верных людей к емкому понятию «солдат». И не случайно, не просто так, я, хоть с течением времени получил под свое начало роту и был пожалован сперва лейтенантом, а потом произведен и в капитаны гвардии его величества – для безотцовщины из богом забытого баскского Оньяте недурная, мать ее так, карьера! – под всяким партикулярным письмом подписывался «прапорщик Бальбоа» в память первого офицерского чина, в коем состоя, девятнадцатого мая тысяча шестьсот сорок третьего года вздымал над собою, над капитаном Алатристе и жалкими остатками последнего полка испанской пехоты наше старое и рваное знамя. При Рокруа дело было.
V. Англичане
День за днем по морю, называемому нашими соседями напротив «Бахар эль-Мутауассит», плыли мы на восток – в сторону, обратную той, по которой в древности направлялись к Пиренеям суда финикиян, греков и римлян. Солнце, каждое утро восходя с носа, а вечером садясь в пенный след за кормой, доставляло мне единственное в своем роде удовольствие, и не только потому, что все ближе становился пункт прибытия – Неаполь, земной рай для солдат, неиссякаемый кладезь утех и наслаждений, нет – тихим ли утром, когда в воздухе не ощущалось ни единого дуновения, или вечером, когда галера, повинуясь размеренно-согласным усилиям гребной команды, будто отточенный клинок, вспарывала неподвижную гладь синего, багровеющего на закатном горизонте моря, я чувствовал его таинственную связь с чем-то дремлющим в душе, как смутное воспоминание или ощущение. «Мы – отсюда родом», – слышал я иногда бормотание капитана Алатристе, меж тем как скрывались из виду колонны древнего языческого храма на одном из многих здешних островов, каменистых и голых: ничего общего не было у острова этого ни с гористым Леоном, где прошло детство Алатристе, ни с зеленеющими долинами моего родного Гипускоа, ни с обрывистыми арагонскими кручами, где возрастал в оны дни будущий солдат Себастьян Копонс, который, услышав такое, устремлял на старого друга недоуменный взгляд. И тем не менее я понимал, что мой прежний хозяин имеет в виду тот отдаленный благодетельный толчок, который через книжную латынь, оливы, виноградники, белые паруса, мрамор памятников и память предков дошел до нас, доплеснул к далеким нечаемым берегам иных морей, подобно волне, рожденной падением драгоценного камня в тихий водоем.
Из Орана мы вместе с остальным караваном добрались до Картахены, пополнили припасы в городе, который, если верить Сервантесу, воспевшему его на страницах «Путешествия на Парнас», получил свое название в честь Карфагена, затем подняли якоря и вместе с двумя сицилийскими галерами – как говорят моряки, под конвоем взаимной защиты – обогнули мыс Палос, забрали восточней, чтобы через двое суток выйти к острову Форментера. Вслед за тем, оставив по левому борту Майорку и Менорку, взяли курс на Кальяри, на юге Сардинии, где спустя восемь дней после того, как отчалили от испанского побережья, без приключений ошвартовались у знаменитых тамошних градирен. Потом, снова пополнив запасы продовольствия и пресной воды, подняли паруса, развернулись кормой к мысу Карбонара и, благо левант сменился сирокко, поплыли в сицилийскую Трапану. На этот раз пришлось посадить в бочки на обеих мачтах впередсмотрящих – здесь, на пояснице Средиземного моря, в узкости естественной воронки, образованной побережьями Северной Африки, сиречь Берберии, Европы и Леванта, толклась чертова уйма судов под всеми флагами. Смотреть, стало быть, следовало в оба, чтобы вовремя заметить появление неприятеля – турецких, берберийских, английских и голландских кораблей – и, сообразно обстоятельствам, на одних – ударять, от других – удирать, хоть в последнем случае ни казне прибытку бы не было, ни Иисусу Христу – славы. В Трапане, растянувшейся вдоль неширокого мыса, гавань была вполне пристойная, хоть на подходе к ней имелось множество отмелей и подводных рифов, заставлявших судоводителя одной рукой креститься, приговаривая «Господи, пронеси!» – а другой бросать лот, замеряя глубину. Там мы и распрощались с конвоем и начали одиночное плаванье, причем из-за неблагоприятного ветра шли на веслах до самой Мальты, куда, помимо депеш от вице-короля Сицилии, обязались доставить и четырех рыцарей-иоаннитов, возвращавшихся на свой остров.
Гурриато-мавр продолжал будоражить мое воображение, ибо он вписался в бытие гребной команды так легко и естественно, словно того лишь ради и на свет появился. Бритоголовый, по пояс голый – рубаху полагалось сдергивать по особому приказу комита, – он, будь у него на лодыжках «бискайские башмаки», то бишь ножные кандалы, ничем не отличался бы от остальных каторжан. Ел, что давали, пил ту же, что и все, мутную воду или разбавленное вино. Был послушен и старателен, терпелив и усерден, тяжкую свою работу делал ревностно – стоял ли, чуть не переламываясь в пояснице, когда надо было исполнить команду «весла на валек!», или под свистки и щелканье бича, которым комит охаживал согнутые спины, не разбирая, чьи они, сидел на банке и, откидываясь назад, вплетал свой голос в общий хоровой припев, нужный для согласной и мерной работы всех весел. Не возражал и поблажек себе не требовал, с товарищами ладил, хоть ни с кем особо близко не сошелся, так что соседи его по гребной скамье – испанец-каторжанин и двое рабов-турков – злобы к вольному не питали. И то обстоятельство, что и с христианином-загребным, и с турками умел он найти общий язык, кое-что да значило, ибо всякому было понятно: если, не приведи Господь, попадет наша галера в руки берберов или подданных Блистательной Порты, те двое мусульман немедля выдадут вероотступника, доброй волей пошедшего служить неверным, и по сему свидетельству его без промедления пересадят с гребной скамьи на кол, не озаботившись, чтоб легче шло, смазать острие ни маслицем, ни салом. Гурриато-мавр словно бы не принимал таковую возможность в расчет: бок о бок с ними спал меж скамей, бил вшей в сердечном согласии, а если в непогоду кто-нибудь из моряков или солдат, не желая мокнуть, оправлялся не в гальюне на полубаке, а там же, где и гребцы, то есть раскорячась над фальшбортом, там, где помещалась крайняя, ближайшая к морю часть весла – место это по справедливости считалось самым что ни на есть скверным, – то могатас, пользуясь свободой передвижения, не брезговал зачерпнуть бадьей на длинной веревке забортной воды и окатить палубу. С товарищами держался уважительно, как и со всеми прочими, когда заговаривали с ним – не отмалчивался, но словоохотлив не был. Вскорости открылось, что разумеет он не только по-испански и по-арабски, но и по-турецки – как потом мы узнали, он выучился их языку у алжирских янычар, – а также на той невообразимой смеси разных наречий, что была в ходу по всему Средиземноморью и называлась лингва-франка.
Движимый любопытством, я несколько раз подходил к нему и заводил беседу. Благодаря этому узнал кое-какие подробности его жизни, как и то, что он желает поглядеть мир, причем – непременно в компании с капитаном Алатристе. Добиться, чтобы Гурриато изъяснил причины столь странного тяготения, мне не удалось – он никогда о сем не распространялся, словно удерживаемый какой-то таинственной застенчивостью, однако впоследствии, поступками своими не только не опроверг, но и подтвердил незыблемость этой загадочной верности. Меня, как я уже говорил, восхищало его умение приспособиться к тяготам нового бытия, оттого в особенности, что мне самому, хоть и был я по младости своей духом весьма бодр, обвыкнуться на галере стоило трудов немалых.
…Непросто первые дались мне дни и мили:
я замышлял побег; но нет таких преград,
которых время бы с привычкой не сломили.
Было и такое, с чем справиться не удавалось никак, и называлось это бедствие скукой. Я довольно быстро притерпелся к скученности и смраду, к неудобствам и штормам, но – не к тому, что время на этих плавучих скорлупках тянется бесконечно, а убить его нечем: дело доходило до того, что мы впадали в радостное возбуждение при виде появившегося в отдалении паруса, ибо он сулил погоню и охоту и схватку, ликовали, когда небо хмурилось, ветер в снастях начинал свистать с особенной силой, а вмиг потемневшее море обрушивало на нас удары волн – начинался шторм, в такие минуты заставляя всех, кто был на борту, бормотать молитвы, креститься, давать благочестивые обещания и щедрые обеты, о коих, впрочем, мы забывали, едва лишь вновь оказывались на суше и в безопасности.
Чтобы хоть как-то скоротать время, я вновь поддался похвальной привычке к чтению, в чем капитан Алатристе, некогда преуспевший в намерении приохотить меня к этому душеполезному занятию, и сейчас подавал мне пример: он, если не вел беседы со мной, с Себастьяном Копонсом или еще с кем-то из товарищей, сидел у бойницы и читал одну из тех двух-трех книг, что всегда имел при себе в заплечном солдатском мешке. С благодарностью вспоминается мне, что в этом плавании я читал и перечитывал толстый том «Назидательных новелл» сочинения дона Мигеля де Сервантеса, так хохоча над ученой беседой двух псов или над персонажами «Ринконете и Кортадильо», что вселял изумление в души всего экипажа. С отрадой прочитал я и старинную растрепанную книгу, изданную в Венеции еще в прошлом веке и называвшуюся «Портрет любострастной андалусийки»[16]16
Роман Франсиско Деликадо (Дельгадо) (1485–1535), один из первых образцов плутовского романа.
[Закрыть], хоть и нелегко было продираться через чересчур – на мой тогдашний вкус – витиевато-громоздкие периоды: из-за довольно скабрезных сцен, содержавшихся в ней, капитан опасался давать ее мне в руки и, лишь когда убедился, что я украдкой уже пролистывал ее, скрепя сердце согласился.
– Да и то сказать, – примиряясь с неизбежностью, вздохнул он, – если тебе не рано отнимать чужие жизни и рисковать собственной, то уж, наверно, и читать можно что хочется.
– Аминь, – заключил Себастьян Копонс, который книг сроду не читывал и впредь не собирался.
Лиг шесть-семь не доходя до мыса Пахаро, наша галера легла на другой галс. Со встречного далматинского парусника, шедшего с Керкенны в Рагузу с грузом кож, воска и фиников, нам прокричали, что вчера утром, когда они пополняли запас питьевой воды, стало известно: трехмачтовый корсарский галеон и другой парусник, поменьше, отстаиваются на острове Лампедуза, и что, похоже, они – из тех британских кораблей, что уже примерно с месяц рыщут между мысом Боно и мысом Бланко, грабя всех встречных, и покуда не попались ни мальтийским, ни сицилийским галерам. Купец прошел дальше, а собравшийся на мостике военный совет, приняв в расчет, что ветер установился благоприятный, а два больших латинских паруса позволяют «Мулатке» покрывать никак не менее лиги в час, решил идти юго-восточней, то есть курсом на Лампедузу, ибо есть шанс отличиться и перехватить мерзавцев, если, конечно, те еще не убрались из тамошних вод.
Как я уже говорил, было не в диковинку, что английские и голландские суда все наглее бесчинствуют в Средиземном море, все чаще появляются в портах Берберии и даже во владениях султана, ибо чего не сделаешь, чтобы насолить Испании и другим католическим державам. Сыны туманного Альбиона предавались этому занятию со страстью – и уже давно: с небольшими промежутками так повелось со времен их Елизаветы, королевы-девственницы – в данном случае это устоявшееся выражение, но отнюдь не медицинский факт. Ну да, той рыжей лисе, которую с полным на то основанием злейшим врагом Испании считали все наши поэты, и среди них – кордовец Гонгора:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































