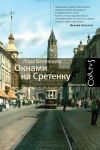Текст книги "Видимо-невидимо"

Автор книги: Аше Гарридо
Жанр: Книги про волшебников, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Черная птица
Мьяфте снова явилась темной тенью из небытия, в котором он тонул. Наклонилась над ним, позвала. Он ее не слышал, но глаза открыл. Увидел ком тьмы, ворох темных платков, яркие глаза.
– Эй, эй, куда же ты? – спросила Мьяфте, а он опять ни звука не услышал, но понял, что она говорит, только не понял, что за смысл в ее словах. Он – никуда. Он лежал на полу в доме мастера Хейно, а мастер лежал рядом, как Хосе уронил его, падая сам. Мьяфте показала вниз между ними. Там по невидимой веревочке тонкой и тугой струей текло синеватое сияние. Один конец веревочки слабо светился вокруг запястья мастера, другой, как жадный корешок, пульсировал на скрюченной старческой руке. Хосе пошарил взглядом вокруг, но не увидел никого кроме мертвого мастера и Мьяфте, стоявшей над ним. Он захотел дотронуться до веревочки – и чужая старческая рука шевельнулась как бы в ответ на его желание. Он захотел взглянуть на свою руку и поднес ее к глазам – но это была всё та же бледная рука с искривленными пальцами, расслоившимися ногтями, сморщенной пятнистой кожей. Уродливые пальцы шевельнулись прямо перед его лицом.
Мьяфте закрыла ему рот ладонью и отвела чужую страшную руку в сторону.
– Тише, тише, дитя, все зверье распугаешь.
Хосе с облегчением выл ей в ладонь и плакал, а она села возле него на пол и гладила редкие седые волосы, намокшие в разлившейся вокруг его головы луже.
– Не бойся, мальчик, уже нечего бояться. Что случилось, то случилось, и я уже здесь. Слушай меня, слушай, душу мне всю доверь, раскрой без остатка, мое дело, моя работа сейчас, а ты только слушай и слушайся меня, нечего бояться, я твое рождение и смерть твоя, я твоя любовь, твоя жизнь – и ты в моих руках, дитя, не бойся, твой срок еще не настал, да и тогда не бойся, дитя. Я мать твоя – роднее родной, через нее ты родился, но от меня, и я знаю твой срок, и еще далеко до него. Пуповиной смерти стала веревочка, в мертвого утекла твоя жизнь – но радуйся, что много тебе отпущено, всё не всё, но вернем обратно, сколько сможем, ты дыши только, слушай меня и ничего не бойся. Я петь стану, а ты слушай, я шить стану, а ты смотри, потом забудешь, а пока можешь смотреть, дитя, худшей беды от этого не будет.
И пела, и медленно, трудно пробиваясь, тёк по веревочке обратно белый свет. Мьяфте осторожно распустила узел на руке мастера, подняла выше тот конец, дала стечь сиянию всему, до последней капельки к запястью Хосе, и только потом отвязала веревочку. Смотала в клубочек, сунула в кошель.
И шила, медным ножиком отхватывала от платков лоскуты, вертела их так и сяк, прикладывала, костяной иглой и жильной нитью сшивала их – выходила неуклюжая птица, черным-черна. Раздвинув на груди платки, вытянула темное ожерелье. Хосе зажмурился от него.
– Всё-всё, дитя, я только два камушка возьму, птице – твоей душе глаза пришью. Смотри на нее, а она будет на тебя смотреть, и вперед будет тебе смотреть, чтобы видел ты, куда идешь и придешь куда. Эта птица – твоя смерть, как я, твоя жизнь, как я. А еще она – жизнь Хейно Кууселы, которую он должен был прожить, да не успел. На тебе теперь его долги, тебе теперь его везение и неудачи, страсть его растить мир и освобождать из небытия – тебе. Любовь его тебе тоже достанется, но не впрок это ни тебе, ни ей, да тут уж ни вы не властны, ни я сама. Ничего. Как-нибудь проживешь и за себя, и за него. Вот видишь, сколько твоей жизни обратно к тебе вернулось? Вставай же, дитя, вставай. Пора хоронить мертвых, пора жить.
Он встал и принялся помогать ей, неловко управляясь с непривычно большим, сильным телом. Черная тряпичная птица прыгала вокруг него по полу, приволакивая крыло, пыталась вспрыгнуть на стол и сердито каркала. Видаль посадил ее на плечо и время от времени поглаживал, чтобы успокоить. Мастера обмыли, обернули тело тонким холстом и уложили на столе. Мьяфте повела Видаля на холм за ручьем. Здесь, сказала, хотел он остаться, пусть здесь спит.
Вырытую яму на ночь накрыл Видаль еловым лапником, как велела Мьяфте, и вернулся в дом. Мьяфте уже развела стряпню.
– Друзьям его извинить меня придется. Не позову прощаться: встречаться со мной им незачем, а я хочу с Хейно до утра посидеть. Нравилось мне смотреть, как он живет – побуду и с мертвым. Ты можешь остаться, а им потом передашь, чтоб не корили меня, еще придет им время со мной спознаться.
– Разве мертвые не к тебе идут? – спросил Видаль.
– Кто знает, в чем больше человека, в душе его, улетающей прочь, или в теле, остающемся лежать сморщенным яблочком печеным? Я так думаю, что пополам. То, что отсюда ушло, то навек со мной. То, что здесь остается… Вот с ним хочу побыть, пока можно. До света. Тогда зови его друзей, похороните и помянете. Я приготовлю всё. Нравился он мне. Вот, – сунула Видалю пустое ведро, – что стоишь? Воды принеси.
Утром Мьяфте ушла, как обещала. Поцеловала мастера в холодный лоб, согбенной вдовой просеменила к двери.
Видаль посидел еще, глядя и не видя, как птица скачет по столу и теребит саван.
– Эй, кыш! – птица подпрыгнула, громко хлопая крыльями, перелетела ему на плечо, стала перебирать волосы, больно ущипывая за ухо. – Ну тебя… пора нам. Эх, птиченька, зачем я на свет-то родился? Одно горе от меня, а? Что матери родной, что отцу, что вот… А? Что молчишь, лоскутница?
Птица мурлыкнула, нахохлилась, припав к плечу. Вдруг закинула голову и защелкала длинным клювом по-аистиному – Видаль дернулся, чуть с лавки не свалился с перепугу. Птица вспрыгнула ему на голову и громко, на весь дом, пронзительно заорала.
– И это вот ты – моя душа? – спросил у нее Видаль, но птица не ответила. Нелепо растопырив крылья, порхнула к двери, ударилась, упала на пол.
– Ну, пошли тогда, – сказал Видаль, поднимаясь. Снял с крючка старую рваную куртку, которую мастер надевал в самые грязные дождливые дни. От той, что носил обычно, остались окровавленные ошметки. Вместе с Мьяфте отрывали их от изорванного камнями тела. Видаль тряхнул головой, зажмурился, отгоняя воспоминание. Вот так теперь есть и будет всегда, и никогда не изменится это. Можно забыть, можно отстраниться. Но на самом деле всегда теперь будет так: мертвый мастер, камнями вколоченные в его тело обрывки замши, едва слышные, монотонные причитания Мьяфте – не рыдания для облегчения собственной боли, а необходимая работа: обмыть остывающее тело руками и водой, обмыть уходящую душу голосом и словом. Того, что случилось, не отменить.
Видаль рывком распахнул дверь и шагнул наружу. Постоял с зажмуренными глазами и осторожно сел на ступеньку, медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Пока Мьяфте была здесь, он невольно сутулился, чтобы рядом с ней оставаться, ближе к ее взгляду и глухому голосу. А теперь – исполнился решимости, выпрямился во весь рост. Вот и отметился лбом о притолоку. Птица пробежала по рукаву вверх, вскочила ему на голову и заурчала озабоченно.
– Всё-всё, идем, – сказал Видаль и поморщился: вороньи когти изрядно оцарапали кожу под волосами.
Одну дорогу к мастерам знал Видаль: через поваленную березу прямиком в Суматоху. Туда и пошел.
– Хейно-то совсем отбился от компании… – Мак-Грегор заглянул в глиняную кружку, примериваясь, звать ли уже подавальщика, или сначала допить остаток.
– Да он всегда был домоседом, – с набитым ртом возразил Кукунтай.
– Он-то? Да где его только не носит! – хмыкнул Хо.
– Он основательный. Каждый листочек выглядывает. Может с каким-нибудь кустиком неделю провозиться, – заступился Гончар. – Вот и сидит дома, всё возится, возится.
– Да брось, у него там уже всё готово, скоро в гости позовет, рождение места отмечать, – возразил Мак-Грегор.
– А мне этот мальчик не нравится, – сказала вдруг Ганна. – Неприятный. Много об себе воображает.
– Да ладно, что он тебе?
– А что Хейно из-за него чуть не погиб – этого что ли мало?
– Как это – чуть не погиб? – всполошился Кукунтай.
– Да вот когда его из дому уводил.
– А, это… ну, дело такое. Бывает. В пути мало ли чего случиться может! Мальчик ни при чем.
– Как ни при чем? Если б не он, Хейно бы с караваном пошел, не стал бы рисковать. Вот уж нашел ученичка, как будто ближе не мог.
Хо неодобрительно покачал головой.
– Мастеру виднее, где и когда. И кого в ученики брать. Это всё не просто так случается. Кто кому мастером приходится, кто кому учеником – не в этой жизни решено. Говорят, учитель и ученик связаны между собой в девяти рождениях. Потому и узнают друг друга с первого взгляда. Потому и доверяют друг другу. Уже виделись. Уже вместе росли.
– Это как еще – вместе росли? – фыркнул в пивную пену Олесь.
– Да не как дети по одной улице бегают, в одной луже полощутся… Растет ученик – и учитель растет. Хотя, с другой стороны, именно как дети в одной луже – да, так и есть. Потому что для вечности что ученик, что учитель – дети малые. Учить их еще и учить. Расти им и расти…
– А мне он все равно не нравится. Хейно с ним, как с писаной торбой, носится. Его дело! А мне-то что? Его ученик, не мой. И мне он – не нравится. Дурачок какой-то. Ой… Хейно! – Ганна вдруг приподнялась, просияла.
– Смотрите, Хейно! Пришел все-таки…
– Где? – обрадовался Мак-Грегор, встал, выглядывая тощий длинный силуэт в толпе, а точнее – над нею.
– Да вон же – высокий, вон!
– Ты что, девушка? – удивился Кукунтай. – Волосы же…
– Брюнет, – покачал головой Мак-Грегор. – Что это ты, Ганнуся?
Ганна перевела на друзей испуганные очи:
– Правда, волос черный. Как это я так? Ой, не к добру это!
– Ну, Ганна, не полоши себя попусту. Мало ли что померещилось. Против солнца смотрела.
Ганна отмахнулась и проводила высокого тощего незнакомца мрачным взглядом. Он давно удалился, скрылся в толпе, а она все никак успокоиться не могла: кружку с места на место переставляла, отламывала куски пирога и оставляла на тарелке, то и дело пыталась встать и идти к прилавку, вместо того чтобы кликнуть подавальщика.
Что такое тревога? Вот ведь – не чувствуешь ни любви, ни страха, просто всё остановится внутри и больше не движется. Не может двигаться, теряет это свойство. Потому и не чувствуешь ничего. И поверх бесчувствия души – мечешься телом, словно оно за двоих пытается двигаться, испугавшись неподвижности души.
– Ладно, ладно тебе! – пытался ее успокоить и Хо. – Ну с чего ты взяла, что это вообще что-то значит?
Ганна вскинула голову – резкие слова едва не сорвались с губ. Но застыла, переменившись в лице, побелела вся. Мастера повернулись в ту сторону. Незнакомец стоял перед ними, слегка сутулясь, как Куусела сутулился обычно. И куртка на нем была – старая куртка мастера Хейно, вся в штопке и заплатах. Он стоял, сунув руки в карманы, и молчал, и мастера молчали, глядя на него. Он был какой-то странный и этим пугал – то ли сумасшедший, то ли просто очень больной: и ежится, и глаза горят бессмысленно, и перекошен обветренный рот. Ганна прижала руки к лицу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса. И тут края куртки зашевелились на груди незнакомца – и на свет вылезла, моргая и широко разевая длинный клюв, встрепанная черная птица, вроде ворона или грача… или поменьше – может быть, скворца или дрозда какого-нибудь. Трудно было ее рассмотреть толком, хотя она вот – вскарабкалась по заношенной замше и уселась на плече незнакомца с важным видом, переводя взгляд блестящих черных глаз с одного мастера на другого.
– Я пришел, – сказал вдруг незнакомец очень хрипло, с трудом, так что почти никто не разобрал его слов. – Я вас позвать пришел, – сказал он уже легче, как будто первые слова проторили дорожку следующим.
– Чего тебе, добрый человек? – ласково спросил его Хо, выходя из-за стола и перемещаясь так, чтобы оказаться между ним и остальными.
– Я Хосеито. Вы меня… Вы помните Хосеито? Мастер умер. Погиб из-за него.
Помолчал, вслушиваясь в глубину чудовищно перемешанных слоев собственного естества, и добавил отчаянно громко:
– Из-за меня.
Ганна Гамаюн
Пили на поминках по Хейно крепко. Уговорились только, чтоб до света уйти в Суматоху – там их косые спьяну очи ничего уже не разворотят, не размажут, не порушат.
Ганна вровень с Хо и Мак-Грегором опрокидывала чарку за чаркой и с ужасом понимала, что злая пенистая горилка льется в горло, что твоя вода. Огонь в груди жег сильнее пьяной отравы. Укрытый еловыми лапами холмик, от которого ее не смогли увести – унесли – мастера, стоял перед глазами, и сквозь него видела теперь Ганна всё: и стол, словно в насмешку уставленный богатой стряпней, и кривое стекло бутылей, и лица друзей, с которыми вот никакой беды не случилось, и мальчика этого злосчастного, погубившего Хейно… и всю свою тоску на сто лет вперед. Чем же горе залить, хоть бы на час какой?
Ганна поднялась – и оказалась опять сидящей на прежнем месте за столом. Снова дернулась вверх, еще раз… Ноги ее не слушались. Не так проста оказалась белая, без всяких прикрас вроде изюма или перца, честная горилка. С ног, выходит, свалила. Но горя-то не утишила!
Так горело в груди, что Ганна решилась во что бы то ни стало выбраться наружу, на воздух, в прохладу ночную. Посидеть на бревенчатом крыльце – как мечтала с Хейно сиживать вечерами, да вот не позвал ни разу – ни замуж, ни просто так. И не позовет уже. Ждала-ждала, да и нечего стало ждать.
Ах, губы крепче закусить – мне против такого горя выстоять еще, неужто против горилки не стою ничего? – так и встала, и вышла из-за лавки, и до двери дошагала. Остальные и не заметили – далеко уже за полночь было и не одна бутыль каталась под столом, досадливо пинаемая ногами.
А за дверью ночь стояла черная, как будто и нездешняя какая-то. Из черноты сыпался и шуршал в листьях и траве угрюмый дождь. Холодная, ясная эта новая часть мира оплакивала своего мастера. Но у Ганны было собственное горе, с этим несоединимое, и плакать вместе с дождем ей было невмоготу. Так и стояла столбом под навесом крыльца, пялясь в темноту внутри себя.
– А вот и ты, а я за тобой, – голос был тихий, внятный, без всякого выражения. По ступенькам к Ганне поднялась закутанная в тряпье старуха.
– А… это ты, Чорна, – равнодушно откликнулась Ганна. – Пришла плакать?
– Некогда мне, – отрезала Мьяфте. – И забыла, что ли? В черном – все цвета, и все цветы выходят из черной земли. Пойдем со мной.
– Что, пора мне уже? – как будто облегчением отдались в душе слова старухи.
– Пора-пора. Нечего тебе здесь делать. Эти… пусть горькую пьют, а нам с тобой не до баловства. Идешь?
Ганна покорилась – крепко пальцами обвила протянутую морщинистую руку, зажмурила глаза… открыла глаза.
Вокруг такая же темень стояла, словно под землей, но на заостренных кольях ограды светились старухины фонари. Ганна было зажмурилась, но вспомнила, как служила старухе службу – ничего, притерпелась, даже поближе к свету подносила то запутавшуюся веревку, то еще какую мелочь с подворья. Ничего, ничего, главное – не бояться, заданный урок на совесть выполнить, а с пустыми руками старуха не отпустит.
А старуха машет уже из приоткрытой калитки: заходи, мол. Зашла, огляделась Ганна – не изменилось ли что с прошлого раза. Нет, не изменилось. Как будто даже не вчера, как будто и вовсе не выходила Ганна за ограду, а так, в загончик заглянула, парного мяса поросятам задала – да и вышла на двор. Всё так и стоит, как стояло, и свет белый сверху льется из пустых глазниц.
– Ты нынче прямо в дом проходи.
Ганна кивнула и полезла по шаткой лесенке. Едва откинула войлок, поняла, что за работа ей на сегодня припасена. Посреди избы дергалась и крутилась деревянная люлька, перекручивая веревки, привязанные ко вбитому в потолок крюку, а в ней заходился нечеловеческим криком младенец.
Ганна бестрепетной рукой выровняла люльку и принялась ее раскачивать, не больно-то приглядываясь к торчащим из-под рогожки темным коленкам, завернутым книзу губищам в тонкой шерстке, короткому тугому хвостику.
Что за приплод может завестись в этом доме, она еще помнила, но нынешнее дитя было чересчур мосластое и зачем-то в колыбели, а не в хлеву. Однако не Ганна тут хозяйка, не ей и указывать, кому какое место подобает. Ее дело – укачать или еще как-нибудь успокоить дитя.
И она взялась качать, толкать и придерживать веревку, ровно, скучно, без затей, отмеряя качанием время, как это делает маятник в кукушечных часах. Поскрипывали веревки, летала туда-сюда по стене огромная тень – в ней колыбель превращалась в летучую лодку со спущенным, обвислым по сторонам парусом. Взад-вперед, туда-сюда… к себе – от себя. Словно то притягивала, то отталкивала что-то, застрявшее в груди, а оно насовсем не отделялось, оставалось корешком внутри, но размеренный ход маятника-колыбели повторением сгладил, усыпил боль.
Странное чувство овладело ею. Горе никуда не ушло и даже не отступило, но оно не было самым важным делом на свете. В люльке отчаянно брыкалось и рыдало дитя, и ни покачивание, ни нежные прикосновения и поглаживания не могли его успокоить. Поправляя сбившиеся рогожки, теплее укутывая чудно́е дитя, Ганна бормотала ему ласково, а потом снова стала колыхать, приговаривая, да и запела, что мать певала младшим братикам.
А-а-а, а-а-а, коточок,
Спи, мій синочок.
Спи сном-дрімотою,
Добром-охотою,
А-а-а.
Дитя выбрыкнуло из-под рогожки голенастыми ногами. Ганна поправила покрывальце, погладила поверх него детинку. А как девочка? Про сыночка не годится тогда. Вспомнила другую, завела:
Ходить дрімота коло плота,
А сон коло вікон.
Питається сон дрімоти:
– А де будем ночувати?
– Де хатина тепленька,
Де дитина маленька.
Ти ляжеш у ніжках,
А я ляжу в головах.
Ти будеш дрімати,
А я буду присипляти.
Щоб спало – не плакало,
Щоб росло – не боліло
На головоньку, на все тіло.
– Неправильно ты поешь, дочка. Не так надо.
Голос был молодой, но властный, тяжелый. Ганна осторожно обернулась, не отпуская люльки. Красавица-баба стояла перед нею, важно покачивая головой в двурогом уборе, зрелая, в самом соку, и нарядная – не в такой бы замшелой избушке жить! Да не Ганне здесь места указывать, ой…
– Научи, мати, – поклонилась Ганна.
Баба подошла ближе – Ганна только удивиться успела, что глаза у нее заплаканные, а та в ответ нахмурилась, рукой махнула, не твое, мол, дело. Ну что ж, и это дело не мое, и то, согласилась Ганна. А ты научи, мати.
И Матерь запела.
Сначала прошла по самой серёдке, только хвостики, лихой излет звука – один подняла повыше, другой – завернула чуть вниз:
А-га-и-и-и-е!
А-га-во-о-о-у!
И «га» это было родное Ганне, глубинное, горловое – как само имя ее начиналось, так же точно. А Матерь повторила запев – но еще выше вывела первый завиток и второй пониже протянула. И пошла так, раз за разом, от середины на «а-га» – то вверх на «и-и-и», то вниз на «во-о-о». Всё выше. Всё глубже. Всё тоньше. Всё гуще. Всё светлее – пронзительным, режущим глаза лучом в весенней листве. Всё мрачнее – черной плотью сирой осенней земли.
Остановилась. Укоризненно посмотрела на Ганну: учиться хотела? – учись! пой!
И начала опять с осторожной середины, уже требовательно глядя на Ганну. А та поняла: при таком вот, что делается, посторонним присутствовать заказано. И если ты здесь – то или причастна, или мертва. И Ганна подхватила:
А-га-и-и-и-е!
А-га-во-о-о-у!
Уловив еще с первого раза шаг, она послушно шла за Матерью, раскачивая голос так сильно, как, ей прежде казалось, вообще невозможно. Положен ведь человеческому голосу какой ни есть предел? Так за него Матерь давно выпрыгнула – и Ганна за ней следом, не чуя себя, летела ввысь стремительной ласточкой, падала вниз тяжким вороном. Тело ее словно бы раскачивалось на гигантских качелях, и вокруг мир шел волнами… и люлька качалась перед ней уже сама собой, а из-под рогожки выбирался заметно подросший мосластый лосёнок. Вывалился, замахал нескладными ногами – да и встал на них, потоптался, поводил большой головой с пеньками прорастающих рогов. И шарахнулся в войлочную занавеску, и след его простыл. А из люльки уже лезло, ползло, тянулось, сигало, выпрыгивало и выпархивало всякое – белки и летучие мыши, косули и аисты, полосатые бурундуки и кабаньи дети, бобры, еноты, змеи и ящерицы, рогатые олени и мохнатые ночные мотыльки, сороконожки и совы, рысь и целый выводок утят, красная лисица, бурый медведь, серый волк…
Набирая в грудь воздуху, чтобы качнуть колыбель сильнее, Ганна заметила вдруг, что поет она одна, а Матерь сидит на лавке напротив, подперев подбородок кулаком. Ганна испуганно выдохнула – что ж, это она сама такое учинила?
– Добре, донечку, добре! – Матерь подошла к ней, прижала к себе. – Вот и укачала мне колыбель. Не испугалась, не усомнилась. Хорошо ты мне послужила, награжу по совести. Скажи, что ты чувствуешь сейчас?
Ганна отстранилась, посмотрела удивленно. Она не чувствовала вообще ничего. Она не чувствовала горя! Хейно больше нет, и этого не исправишь. Но мир обеднел только на Хейно, а сам весь остался – огромный, дивный, богатый мир. Еще есть, чем жить, и есть, куда нести почту.
– А и вот, – сказала Матерь. – Так оно и есть. А случилось это, когда ты потянулась утешить дитя в колыбели. И пели мы с тобой свое горе в полный голос. Так и жизнь им напитали, выкормили – чтобы горе само не пожрало нас. И теперь ты это умеешь. И я разрешаю тебе умение сохранить, отсюда вынести, с собой унести. Будешь ты, Ганна Гомонай, отныне Ганной Гамаюн. Говори, богата ли награда?
– Богата, мати, – выдохнула Ганна. – Да можно ли пользоваться этим там?
– Там? Где же это твое «там»?
– Там, – пояснила Ганна. – На самом деле.
– От горя и на радость – всегда.
– А как это – на радость?
– Да не ищи ты смысла глубокого, – усмехнулась Матерь. – Друзьям твоим, мастерам, на радость. Живностью в их леса и поля пустые. Они кое-как умеют живое наметить, но у тебя и легче выйдет, и поживее ихнего.
– Спасибо, спасибо, мати! – заторопилась Ганна, увидев, что заскучала хозяйка: дело сделано, песня спета, наука преподана. – Пойду я. Пора мне. Отпустишь?
– Ступай, дочка.
Ганна проворно нырнула под войлок и поставила ногу на шаткую перекладину. Тайная мысль ей пришла – испробовать новое умение, да не так, а эдак.
– Да подожди еще! – голос Матери потемнел. – Горе-то горем, а в гневе петь остерегись. На кого песню обратишь – тому и гибель. Это чтобы ты знала. А так – что хочешь делай. Я что даю – даю насовсем.
Ганна замерла. Отодвинула войлок, просунула голову в избушку. Взглянула на Мьяфте, почувствовала, что глаза снова полны слёз.
– А если я… Если спою… Этому…
Мьяфте выпростала из платков темную морщинистую руку, махнула ею разрешительно.
– И спой, милая. Раз уж Хейно погиб ради того, чтоб «этот» жил – самое дело тебе его угробить. Раз уж в «этом» теперь и кровь, и душа перемешаны с кровью и душой самого Хейно – туда ему и дорога, а? Ступай, ступай, милая. Что петь и кому петь – я тебе уже не советчица. Я что даю, даю без меры. Это всё теперь в тебе самой, и смысл, и сила, и мера. Сама неси. Справишься, не справишься – мне всё едино. Ну, пора. Светает там у вас… Ступай себе, Ганна Гамаюн.
Домой себя нести было страшно. Ганна отпустила войлок и тихонько опустилась на перекладину – посидеть, подумать, не беспокоя хозяйку.
И едва прикрыла глаза, как тряхнули за плечо, и Кукунтай тихим голосом заторопил: пора, пора, светает, в Суматоху идем. Ганна с испугу попыталась за перекладину ухватиться, а под руками тесаные бревна. Обхватила голову, застонала – и сама своего голоса испугалась. Не то чтобы звучал он странно или грозно. Но Ганна испугалась самого звука его. Мало ли что…
Кивнула только Кукунтаю, поднялась, держась за его руку, оглядела топчущихся у поваленной березы мастеров.
– А что Мак-Грегор? – насилу заставила себя говорить вслух, не шепотом.
– Да с Видалем останется. Вырос-то он здоровый, а ведь малец еще. Выпили сколько… Мало ли!
– Ну да, – согласилась Ганна. – Ну да.
Не было больше у нее гнева, и незачем было Видаля губить, и не стала бы она петь ему в гневе ни за что.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?