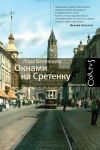Текст книги "Видимо-невидимо"

Автор книги: Аше Гарридо
Жанр: Книги про волшебников, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Предсказание
Суматоха вела жизнь шумную и веселую и на взгляд чужака-пришельца – беззаботную, как все южные приморские города.
На самом-то деле, наверное, всё здесь было такое же, как и везде, только щедрее светило солнце, пьянее благоухали цветущие акации, ароматнее и легче веял ветерок, – такой уж задумал Суматоху давно почивший мастер. Может, от этого и казались ярче улыбки на смуглых лицах, а слезы здесь не показывали чужим. Вот и представлялась Суматоха вечным праздником каждому, кто ненадолго приезжает сюда повеселиться, отдохнуть от забот и трудов.
Но отцы города – люди не пришлые, они как никто знали, что Суматоха и на самом деле такая, какой представляется. Людей трезвых и здравомыслящих – как только такие уродились в здешнем раю? – их тревожил слишком ровный климат, слишком ласковое море, слишком беззаботный нрав жителей. Год за годом, поколение за поколением они ждали беды и готовились к ней. Специально для такого случая построенные склады ломились от зерна и муки, резервуары были полны свежей воды, и самое тревожное время наступало, когда приходила пора обновить запасы. Вот тут-то и должна нагрянуть беда, когда они совершенно беззащитны перед ней: где тонко, там и рвется, полагали отцы города, и каждый вносил свой вклад в изобретение новых, всё более совершенных и безопасных способов замены провианта с истекшим сроком хранения. Время от времени, а со временем всё чаще, жители Суматохи от души развлекались, наблюдая учения пожарной службы, отменно организованной и обеспеченной. Самые веселые записывались в бригады волонтеров и нарушали покой сограждан, отрабатывая срочную эвакуацию, карантин и оборону. Теплыми ночами визг красавиц в дезабилье, кокетливо сопротивляющихся спасателям, собирал на балконах не меньше зрителей и поклонников, чем рулады местной примадонны Матильды Сориа.
Но ни мор, ни глад, ни вторжение не нарушали сытого и веселого довольства, жизнь катилась своим чередом среди карнавалов и гуляний, под плеск искристого вина и вкрадчивое шипение пивной пены, выкрики уличных торговцев и песни подгулявших школяров.
Мэтр Экстазио, известный гипнотизер, провидец и хиромант, любил приезжать в Суматоху – отдохнуть и поправить здоровье, изрядно подпорченное общением с привередливыми клиентами. Люди хотят получать из будущего только добрые вести, но некие неуловимо малые остатки здравомыслия твердят им, что всё хорошее рано или поздно обернется бедой. Великое искусство – ободрить и обнадежить, но не пересластить при этом. Развернуть блестящие перспективы и лишь чуть-чуть навести тень, чтобы клиент поверил, заплатил и при малейшем беспокойстве снова обратился к предсказателю – вот именно к этому, знающему о будущем такие приятные и щекочущие самолюбие вещи.
Мэтр Экстазио был великим мастером своего дела, но и отдыхать ему приходилось часто и помногу, благо он успел создать себе великолепную репутацию, и обращались к нему не какие-нибудь скучающие вдовы, матери девиц на выданье или авантюристы, а солидные люди, имеющие вес в обществе и веские аргументы в кошельке.
Для мэтра Экстазио очарование Суматохи имело еще один секрет, которым он не собирался делиться ни с кем. Он знал точно год, день и час, когда Суматоха исчезнет из мира. Еще он знал, что всё произойдет так, как оно должно произойти, он видел уже катастрофу – она в каком-то смысле произошла уже для него. И он приезжал в Суматоху насладиться ее обреченной красотой и весельем на краю бездны, как будто возвращался в прошлое. Люди, танцующие на улицах, были уже мертвы. Остроконечные крыши в пестрой черепице, балконы с кружевными решетками, увитые виноградом стены, душистые гроздья акаций, клумбы роз, сладкий воздух, тонкая пыль, мимолетные улыбки красавиц – всего этого не было уже. С небывалой остротой мэтр Экстазио здесь ощущал себя живым.
Всё уже произошло – и произойдет в свой час. Предупреждения бесполезны.
Да и зачем бы? Когда намереваешься провести ночь с продажной женщиной, разве хочешь, чтобы ее чело было омрачено тревогой, раздумьями о бренности и мимолетности жизни? Даже если знаешь, что завтра она будет сбита фиакром, или зарезана сутенером, или… А Суматоха и была продажной женщиной, юной, очаровательной, обреченной на раннюю смерть. И портить себе удовольствие Экстазио не собирался.
Мастер Видаль частенько оказывался в Суматохе, когда не был привязан к месту, – и вовсе не из-за здешнего пива. Пиво в Суматохе делать умеют, только лучше всего в Суматохе умеют делать деньги, из чего угодно, даже из пива и воды… Так что пивка попить Видаль отправлялся на Королевскую гору, а здесь удобнее всего было встретиться с друзьями – так уж удачно улеглась Суматоха на пересечении всех путей-дорог, не нашлось еще места, из которого нельзя было бы добраться на Суматоху. А уж отсюда Видаль легко мог открыть путь куда угодно – для всей компании.
И была еще причина. Странное беспокойство временами одолевало Хосе Видаля, тогда казалось ему, что он забыл что-то очень важное, сказанное только ему по секрету, или что была назначена встреча, а он не помнит дня и часа, и даже не помнит, с кем. Как будто часть его души спала и не участвовала в жизни, но, просыпаясь иногда, требовала своей доли и не находила ее ни в чём из того, чем жил Видаль. Не потому, что с ней отказывались делиться, а потому, что нужно ей было нечто другое, чего у Видаля не было. Тогда Видаль отправлялся в Суматоху и бродил по улицам, словно надеясь, что тот, кем назначена встреча, сам узнает его и окликнет. А может быть, он ждал, что увидит лицо, которое окажется знакомым той спящей половине души, и тогда он сам вспомнит забытое, самое главное в жизни. И он бродил, вглядываясь в лица, искал, сам не зная кого, – и никогда не находил. Не те лица у жителей Суматохи, чтобы судьба могла выглянуть из их глаз, улыбнуться их слишком привычными к улыбкам губами.
В который раз потеряв надежду и не утолив тоски, он приходил на площадь перед ратушей, становился на самом краю над широкой лестницей, спускающейся к морю, и смотрел. Птица не любила этого, беспокойно клекотала и вскидывала остроконечные крылья, отливающие зеленоватым металлом, но не покидала Видаля, оставалась на плече. Видаль стоял в своей любимой позе – голова чуть закинута, правая нога отставлена, руки – в карманах куртки. Он мог и час так простоять, не отрывая глаз от моря, а может быть – и океана, никто не знал. Он всегда думал об этом, стоя над лестницей на краю Ратушной площади. Пять поколений прожили здесь, так и не зная, что за волны омывают пристань, облизывают камень набережной. И строили корабли, и ставили стройные мачты, и поднимали паруса. И ростры – полногрудые девы с разметанными волосами – устремляли взгляд безумных глаз за горизонт, и собиралась толпа на пристани, звучали рыдания и смех, песни и напутствия… Никто никогда не возвращался. Как-то Видаль спросил Мак-Грегора: может быть, стоит попробовать мостом достать до того берега? Хэмиш долго щурился, шевелил губами, подсчитывая, но только головой мотнул: ну его… может, и нет там никакого берега. Видаль принял его слова всерьез: Мак-Грегор зря не скажет. С тех пор еще пристальнее всматривался в блистающую даль, допытывался у игривых волн: откуда вы? Какой ветер гонит вас, что несете с собой?
У пятого поколения отцов города нервы сдали окончательно. Когда самый здравомыслящий и трезвый среди них – бургомистр Грюн – затащил в ратушу заезжего провидца, никто даже не высказался в том смысле, что они тут серьезными делами занимаются, а не гадают на кофейной гуще.
– Позвольте вам представить, господа… гость нашего города, мэтр Экстазио, известный предсказатель.
Отцы города почтительно раскланивались с человеком, профессию которого никогда не именовали иначе как шарлатанством. Гостю было предложено скромное, но вполне респектабельное угощение, и беседа велась в основном о погоде и видах на урожай и уловы. Поговорили также о предстоящих празднествах в честь начала зимы, какового начала в Суматохе иначе и не заметили бы. Поговорили о падении нравов и о молодежи. На этом невинные темы иссякли, и повисло напряженное молчание.
Никто не решался задать провидцу вопрос, проявив перед коллегами предосудительные легкомыслие и суеверие.
Наконец бургомистр, как ему и положено, решился взять ответственность на себя.
– Многоуважаемый маэстро! – скрывая естественное смущение, обратился он к провидцу. – Не могли бы вы сообщить нам, каковы, так сказать, перспективы…
Провидец нахмурился.
– О, нет, нет! – всплеснул руками казначей. – Ни в коем случае не подумайте, что ваши труды останутся без достойного вознаграждения! Мы далеки от того, чтобы относиться к вашей деятельности как к не заслуживающей уважения… я бы сказал, самого глубокого уважения…
– Разумеется, – поддержал его начальник городской пожарной службы. – Мы понимаем, сколь велика ответственность…
– И с какими тонкими материями приходится иметь дело… – подчеркнул главный архитектор.
– В общем и целом должен заметить, что ваш вклад в безопасность и процветание города будет оценен и вознагражден по достоинству, – подвел итог бургомистр.
– Помилуйте, господа, о чем вы?
– Как о чем? – подскочил глава санитарной службы. – Мы обращаемся к вам, так сказать, по специальности. Это же ясно, как день!
– Да-да. Составьте… ну, гороскоп, что ли… или как это у вас называется.
– Вы хотите, чтобы я предсказал вам будущее города? – удивился провидец, и без того потрясенный самим фактом приглашения в ратушу. Отцы города славились своим трезвомыслием, и заподозрить их в склонности к оккультизму было невозможно.
– Именно, голубчик, именно! Предсказание будущего – разве не на этом вы, так сказать, специализируетесь?
– Ну… да, – согласился провидец. Он не разделял беспокойства отцов города и чувствовал себя в Суматохе вполне уютно и безопасно именно потому, что специализировался на предсказании будущего. Он знал, что до рокового часа еще довольно далеко.
– Но разве и так не ясно, что Суматоха – самое благополучное место во вселенной? – благостно улыбнулся мэтр.
– Хм… – позволил себе усомниться бургомистр. – А вот не слишком ли всё хорошо? – осторожно заметил он.
– Да-да, я понимаю вас! – воскликнул мэтр Экстазио. Он действительно понял, как разговаривать с ними. – Людям свойственно опасаться беды. Чем лучше сейчас, тем хуже будет потом, вы ведь именно этот предрассудок имеете в виду? Да, как правило, в мире поддерживается равновесие. Но рад вам сообщить, что Суматоха – счастливое исключение. Я уверяю вас, что городу ничто не угрожает – ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном. Я провижу процветание и благоденствие.
– Вы… провидите? Вот так… просто? Прямо сейчас? – недоверчиво прищурился бургомистр Грюн.
– Нет, что вы… – скромно потупился маэстро. – Конечно, не сейчас. Без предварительных приготовлений, достаточно тонких и дорогостоящих…
– О, да-да, несомненно! – понимающе откликнулся казначей. Бургомистр осадил его строгим взглядом и повернулся к Экстазио.
– Уверяю вас, – продолжил тот, – я никогда не отправлюсь в путешествие, не составив предварительно прогноза… не выяснив всего, что возможно, о том месте, в которое направляюсь – как можно?
– Но вы наверняка окинули, так сказать, взором только ближайшие перспективы… – усомнился бургомистр.
– Понимаете ли… прогнозы – штука тонкая и трудно бывает истолковать… ммм… видения, если ограничиваться только ближайшим будущим. Как правило, приходится, как вы очень точно выразились, окинуть взором всю необозримую последовательность событий, чтобы выбрать те, которые находятся в непосредственной близости…
– И что же?
– Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться!
Провидец отмахивался от них, уговаривая не гневить бога, не привередничать и радоваться, что всё устроено так замечательно. Его бодрый тон окончательно встревожил отцов города: так врач лгал бы больному, которому не в силах помочь, – и они вцепились в него со всей решимостью отчаяния. Не зная уже, как от них отделаться, провидец распахнул окно, приглашая полюбоваться открывавшимся видом и проникнуться благодарностью к богу и судьбе, но осёкся. С лица его сползла фальшивая улыбка, оно помрачнело. Да, лицо его помрачнело, просветлело и помрачнело вновь.
– Видите этого, с вороной?
Отцы города столпились у окна. Неизвестный с птицей на плече стоял спиной к ратуше и виделся из ее окна неподвижным черным силуэтом на фоне ослепительного сверкания моря-океана.
– Поставьте ему памятник, – сказал провидец. – И можете спать спокойно.
И ушел, не пожелав прибавить к сказанному ни единого слова. В Суматохе его больше никогда не видели.
Вечеринка на Туманной косе
– А правду говорят, что лягушки от дождя заводятся? – печально обронил в окружающий сумрак толстый Хо. Сумрак слоился белесыми волоконцами, кудрявыми завитками, сладкий и терпкий аромат чернослива мешался с острым запахом водорослей.
– Нет, лягушки – от сырости, – твердо сказал длиннолицый Мак-Грегор, не выпуская трубки из зубов.
– Ну да, от дождя и сырость, – встряхнул мокрыми космами Видаль. Птица у него на шляпе сердито захлопала крыльями и выкрикнула что-то не совсем приличное. Видаль поднял руку и погладил ее, успокаивая.
– Не скажи, – протянул белобрысый Олесь Семигорич. – Если, например, болото, то и дождя не надо.
– Как это – дождя не надо? – насупился Ао. – Это кому тут не надо дождя? Тебе, что ли, божий приемыш? Так и скажи, я тебя из очереди вычеркну.
Может, шутит, а может, и нет. Выяснять – себе дороже. Трава посохнет, озерцо новорожденное обмелеет, а в озерце – рыба, раки, водомерки, да и лягушки те же…
– Да не кипятись ты, водяной, нужны мне твои осадки, во как нужны! Жду тебя на Райдуге не дождусь.
– Не водяной, а дождевой, и не осадки, а…
Мак-Грегор из Долгой долины ласково двинул зануду кулаком в плечо.
– Угомонись. Это ты к месту не привязан – там язык почешешь, тут словом перекинешься. А люди всё больше по одному и молчком, дай уж душу отвести. Тем более – праздник такой!
– Да ты послушай, они же нарочно. Видаль, зараза, зазвал в гости – и подкалывает!
– Брось, Ао. Язык без костей, что хочет, то и лопочет, а насквозь не проткнет, – и подвинул Дождевому кружку. Пышная пена качнулась над ней, поползла по крутому боку, оставляя на темной поливе влажный след. Ао сверкнул глазами и припал к источнику наслаждения.
Блюдо с жареной дичью было шириной со стол, вокруг него сгрудились миски с вареной картошкой, на широких тарелках пушился молодой укроп, курчавилась петрушка, вперемежку лежали сладкие перцы, мясистые, сочные – и их поджарые злые родичи. Вереница кувшинов, полных отличного холодного пива, протянулась вдоль стола.
Длинный стол, покрытый домотканой скатертью, стоял прямо на песке у залива. Меленькие медленные волны двух шагов не докатывались до него. Над заливом плыла в тонких облаках нестерпимая луна. Сестра ее, близнец, распустив серебряные косы, купалась в спокойной воде.
За спиной уютный желтый свет лился из закругленных сверху окон; дом, как живой, тоже грелся в негромком тепле дружеской пирушки. Над замшелой крышей высоко тянулись сосны, от черной массы слитых в темноте крон казалось светлее усеянное мелкими гвоздиками небо. Из тьмы за соснами доносился приглушенный шум прибоя. Там было море, и волны его бежали из неведомого далека.
Дом мастера стоял между морем и заливом, на длинной широкой косе, поросшей лесом.
Гости любовались ночным пейзажем вскользь, не приглядываясь. Только здешний смотритель в точности знает, каким должно быть место. А другие мастера, если станут пристально глядеть, такого наворотить могут… Не слишком велика, да и не сразу заметна разница, все они умеют запоминать точно. Но мельчайших расхождений хватит, чтобы сбить с толку место, и оно начнет сомневаться в себе. Начинай сначала, мастер!
Только вскользь, бережно, едва касаясь – и уже у себя под полуприкрытыми веками, что запомнили – тем любуются от души, смакуют мелочи.
– Да вы не поняли, люди… – вздохнул Хо. – Я ведь серьезно. У меня лягушки не заводятся. Я уж и комаров развел – думал на корм приманить… – Хо сокрушенно развел руками.
– А как в прошлом месте? – придерживая рукой птицу, наклонился к нему Видаль. – Росные луга – твоя ведь работа?
Хо скромно потупился.
– У тебя там такое озеро получилось, умру от зависти. Рассвет… Туман лентами над водой… А вода перламутром отливает…
– У тебя здесь очень красиво… – Хо опустил глаза еще ниже, выказывая бережное уважение к труду хозяина.
– И да, помню, булькали там какие-то по ночам. Точно-точно, лягушки у тебя были.
– Да они там как-то сами… Я и не заметил. Кажется, они там сразу были. А в Тростниках – ни в какую. Ни вот такой малюсенькой лягушечки не видел. И не слышал. – Хо снова вздохнул.
Видаль покачал головой.
– Я своих на дудку. – Он отвернул полу куртки и перебрал пальцами стройные коричневые стволки. – Эта – для зябликов. Зябликов люблю. Вот молоточек – для дятла. А вот эта корявенькая – как раз для лягушек.
– Я и так пробовал, – печально кивнул Хо и вынул из-за пазухи бамбуковую флейту. – Не приманиваются.
– Тогда тебе надо их самому сделать, – заметил Олесь. – Вылепить из глины. Или подождать, пока придет к тебе Дождевой Ао и лягушки заведутся от дождя.
– Долго ждать еще…
Берег качнулся. Не сильно, едва ощутимо, но мастерам и этого было достаточно.
Повскакивали, опрокинув скамью. Видаль, бросив через стол худое тело, вытянулся над самой водой, взгляд повел по кромке горизонта, медленно передвигая полусогнутые ноги, поворачивался вокруг себя. Даже капризная жилица притихла на шляпе, только крылья развела, готовая взлететь при резком движении. Гости притихли, не мешали пока, но на помощь кинуться были готовы в любой миг. Даже если хозяин не успеет сказать, какая помощь ему нужна и от чего. И так ясно: если дрогнуло уже крепкое, почти готовое место, крепкое настолько, что мастер-смотритель пригласил Дождевого Ао, значит, что-то враждебное вторглось – и надо давать отпор. И гости стояли, прикрыв глаза, копя силу и пока не вмешиваясь.
Олесь Семигорич сцепил пальцы перед грудью, наклонил голову – белые пряди завесили лицо. Хо голову вскинул, явив луне неземное спокойствие круглого лика. Мак-Грегор напружинился весь, кривые ноги вросли в песок, руки напряглись, чуть подрагивали разведенные пальцы.
Толчок не повторялся, но дрожь не утихала где-то глубоко под песком, и в дрожи этой чувствовался странный ритм, и она усиливалась, как будто источник ее приближался к дому, мирно пригревшемуся у тепла дружеской пирушки.
Видаль прикрыл глаза, весь обратившись в слух. Птица застыла, приоткрыв длинный клюв. Гости туже зажмуривали глаза, готовые выложиться за один стремительный взгляд-выпад, точный, неотразимый.
Тум-тудум-тудудум… Огромный зверь резвой побежкой продвигался вдоль берега, живая гора, поросшая курчавой щетиной. Сверкали стальные кольца на кривых клыках, сверкала чеканная маска, укрывающая широкий лоб и рыло зверя, в мохнатых ушах болтались серьги, окованные копыта взрывали влажный песок. На спине гордо восседал всадник, за его плечи и друг за друга цеплялись еще седоки.
Дождевой Ао, не закрывавший глаз, потому что работа у него другая, и сам он другой, издал радостный вопль:
– Ха, люди! Все свои!
Видаль подпрыгнул и, раскинув руки, побежал навстречу, не убоявшись острых раздвоенных копыт. Птица сорвалась со шляпы, громко хлопая крыльями, полетела впереди него.
Остальные смеялись, поводя плечами, стряхивая напряжение с рук.
– Ах, красуля! – крикнул Олесь – Неужели ты примчалась, чтобы сказать мне «да»?
– Вот еще, – фыркнула красуля, осаживая свинью. – У тебя руки в глине, нос в болотной тине! Помогите мне этих спустить, укачало их.
«Этих» оказалось двое. Кукунтай-тюлень только успевал поворачиваться, торопясь обнять друзей-приятелей – длинные пучки бахромы, унизанные бусинами, мотались вокруг нарядной кухлянки. Никому не знакомый хлипкий парнишка в городской, не ахти, одежонке, рыженький, востроносый, робко топтался в сторонке. Вот кого, похоже, в самом деле укачало.
Лихая наездница была на голову выше обоих, кареглаза и темноволоса, одета в меховой жилет поверх вышитой рубахи, в крепкие штаны с кожаными вставками и обута в высокие сапоги. Видаль расцеловался с ней, смахнув на песок мятую шляпу, птица уселась девушке на плечо и, любовно воркуя, стала перебирать встрепанные волосы.
– Вот уж лягушонка в коробчонке! – Видаль нежно потрепал девушку по другому плечу. – Грохоту от тебя…
– Ну вот опять… – пожаловался Ао. – Он это нарочно!
– Да почему же нарочно? – обернулся Видаль.
– Ты мог бы сравнить ее с грозовой тучей! Ты мог бы сравнить ее с… с чем-нибудь романтичным и нежным. А ты… Ганна, тебе должно быть обидно.
– Не обидно мне, – улыбнулась Ганна, прижалась к плечу Видаля.
– Нет, а правда, что же мне делать с лягушками? – вспомнил Хо.
– Да придумаем что-нибудь, не беспокойся, – Олесь махнул ему рукой, и вдвоем они подняли и поставили к столу тяжелую скамью.
Свинья, освобожденная от сбруи, бродила в воде, фыркая и всплескивая – ловила рыбешек.
Кукунтай выдернул паренька из темноты, в которой тот пытался укрыться, и поставил перед всеми.
– Вот. Ученичка себе подобрал, однако. Рутгером звать.
Мастера по очереди назвались, рассаживались за столом, приглядываясь к парню. Тот упорно не отрывал глаз от песка под ногами. От него пахло варом и мочеными кожами.
– Молодой еще, – вздохнул Хо. – Счастья своего не понимает. Ты смотри, Рутгер, смотри вокруг – красота какая! Тебе можно, смотри.
– Стесняется, однако. По тому и признал в нем нашего, что стесняется. – Кукунтай ухватил кувшин, заглянул в него.
– «Альтштадт»! – гордо заявил Видаль. – Настоящий, нефильтрованный. С Королевской горы.
– Ага, – заулыбался Кукунтай, щедро плеснул пива в кружку, поставил перед парнем. – Ждал вот Ганну, договорились на Суматохе встретиться. Я своё закончил, однако, на новое место перебираюсь. Вот и решил погулять, по трактирам пошляться. То, сё, сами понимаете. Ну, перебрал малёк. А там болван каменный, знаете, на площади.
– Это не болван, – строго сказал Мак-Грегор. – Это памятник.
– Бронзовый, – уточнил Олесь.
– Вот-вот, памятник – а выглядит как полный болван! Решил его подправить, присел на булыжник, смотрю себе, никому не мешаю. Так его повернул, этак, выражение лица попроще, руку слева направо повел. Народ там отвык уже от таких штук. Пятое поколение, место не новое. Собралась толпа, смотрят, молодняк чуть не на голову мне лезет, да что, да как, дяденька, научите… А этот стоит в сторонке. Я на него раз глянул, другой – он тут же глаза в землю. Как будто ни при чем. Но я-то вижу – всё, пропала душа. Подошел к нему, пойдешь, говорю, со мной – учиться? Мотает головой, дурашка, я, мол, неспособный, у меня не получится…
– Да, самое то! – Мак-Грегор двинул бровью и сунул пальцы в рыжие вихры на затылке паренька, тут же отдернул руку, цыкнул. – Есть, сидит.
– Пусть сидит, однако, – согласился Кукунтай. – Сейчас убирать не будем. Сейчас он только в помощь. Раскачает душу…
– Ты сильно ему вырасти не дай… – встревожился Хо. – Привыкнет парень, потом снимай-не снимай, толку никакого. Нового вырастит себе.
– Не беспокойся, Хо, – махнул рукой Олесь. – Тюлень не вчера родился, знает этих тварей. Да кто из нас их не знает? Которые совсем без них – разве в мастера идут?
– Да, – кивнул Мак-Грегор. – Вот у меня знакомый на Розовой горке, он с таким до сих пор – и снимать не хочет. Управляется как-то. Говорит, иногда совсем жизни не дает, но в целом – ничего себе так.
– Кто у меня там? – прошептал паренек, вжавши голову в плечи.
– А ты и не знал? – спросил Видаль и осторожно, через рукав, ткнул пальцем в ууйхо.
– А, так это! – с облегчением рассмеялся малец. – Это всегда было.
– Ах, всегда… – Видаль положил руку ему на плечо. – Не бойся. Теперь уж ничего не бойся, кроме самого себя. Ты теперь наш.
– А кто вы такие? А то дядя Кукунтай мне ничего не объяснил.
Видаль усмехнулся: дядя! Тюлень ненамного старше этого рыжего выглядит, да ненамного старше и есть, смотря каким счетом считать.
– Мастер Кукунтай. И все мы здесь – мастера. Люди. И ты будешь.
– А в каком деле вы мастера? Я тоже – что делать буду?
– Что ж ты, тюля, ничего парню не объяснил, поволок за собой как мешок какой?
– Не успел, однако! – засмеялся Кукунтай. – Налетела красуля эта на зверюге своей, народ с площади шарахнулся, визгу… Надо было сматываться, пока чего не вышло… я и то – хозяину за постой задолжал, на обратном пути надо будет заглянуть… Давай, Видаль, ты объясни, у тебя хорошо получается, однако.
– Такая у меня работа, открывать закрытое, – Видаль повернулся к парню. – А у Мак-Грегора вот – лучше всего получается мосты наводить. Любые. Связать одно с другим, что угодно. Олесь – гончар у нас. То есть он может любой сумятице порядок придать, форму красивую, удобную и полезную. Кукунтай – оборачиваться умеет. Значит, может в каждой вещи ее изнанку разглядеть и на свет вывернуть. Вот так. Это у каждого – особенное умение. А общее… Вот посмотри вокруг – нравится?
Парень наконец-то, от пива ли, или от спокойной речи Видаля, расслабился. Обвел зачарованным взглядом залив с огромной луной, сосновый бор, берег в камыше, дом с желтыми уютными окнами. Кивнул медленно, уважительно.
– Когда я сюда пришел, здесь только и было – горстка песка да мутные воды. И то в тумане тонуло. Теперь – новое место в мире появилось. Вот Мак-Грегор мне мост построит – куда-нибудь да выведет. Так малые места в большие собираются, растет мир. Понимаешь?
– И что… И я так… смогу? – прошептал парнишка.
– Сможешь. Уже можешь, не умеешь только. Научишься. Эх, не то слово… Дело такое: ему не научишь и не научишься, кроме как себя самого и у себя самого. Ты вот что запомни твердо, и помни всегда: нет среди нас такого, чтобы разбираться, кто сильнее да умелее. Когда только начинает мастер, у него еще кое-что не получается, потому что своего способа делать это он не нашел, а чужие ему не годятся. У одного не получается одно, у другого – другое, и все, выходит, новички – равны. Но зато когда мастер в полную силу войдет, что-то у него получаться будет лучше, чем у всех других. А другое – у другого. И опять все равны. Это очень важно. Это тебе жить поможет. А то тварь, на загривке у тебя, она любит такими мыслями подтачивать: и что ты хуже всех, и что ты лучше всех… Что так, что этак – одна отрава.
– Верно ты всё говоришь, – Ао оторвался от кружки и значительно поднял палец. – Но научиться – не то слово. Кто попало и не научится. Заразиться можно. Понимаешь, мальчик? Заразиться. Вот как ты смотрел на Тюленя сегодня – и подцепил эту заразу. А заразиться можно, если есть предрасположенность. Вот у тебя она есть. Может быть, ты такой родился, а может – тварь у тебя в душе дырку высверлила, и теперь в нее хлынуло… Хлынуло. – Ао не нашел подходящего слова – назвать, что хлынуло в душу изумленному пареньку на площади перед исковерканным памятником Видалю, и, махнув рукой, допил пиво.
– А другие что умеют особенного? – шепотом спросил паренек. Глаза у него уже блестели – от счастья.
– Ну, вот Ао, например, ничего не умеет. Зато он так любит смотреть, как дождевые капли от луж отскакивают… В общем, стоит ему задуматься, как тут же дождь и пойдет. Для того он сегодня сюда пришел – подарить этому месту первый дождь. Хо создает бесподобные пейзажи. Он – мастер утонченной гармонии.
– И в чем угодно, да?
– Да. Ты понимаешь. А вот Ганна. Отчаянная девица, как сама жизнь. И, конечно, живые твари лучше всех у нее получаются. О!
Видаль хлопнул ладонью по столу.
– Ганна, душа моя, не сделаешь ли ты мне в честь праздника подарок?
– Для тебя – что угодно! – лукаво прищурилась Ганна. И добавила: – Сегодня.
– Только сегодня? Эх, надо бы пользоваться случаем, да ради друга чем не пожертвуешь! Ганна, сердечко моё, попробуй научить Хо лягушек делать, а?
– А сам говорил, этому не научить! – засмеялась Ганна.
– Я говорил, да Ао меня поправил. Научить нельзя – заразить можно. Давай, девонька, душа моя, постарайся, сделай нам лягушечек зеленых, сладкоголосых! И пусть Хо с тобой рядышком посидит, может, и его зацепит?
– Крепко уже место стоит? – спросил Мак-Грегор. – Не развалит она его?
– Крепко-крепко, – Видаль откинул со лба мокрые волосы. – Да я и подержу, поправлю, если что. Дело того стоит.
Хо расплылся в улыбке: его страсть к лягушачьему пению давно была всем известна, потому и растил он места такие, где озера, или пруды, или медлительные реки лениво плескались в заросшие камышом берега.
– Жадный какой! – Ганна покачала головой, глядя в глаза Видалю. – Решил лягушечками разжиться нахаляву.
– Ты думаешь, у меня своих нет? Полно! Я о друге радею. За работу, Ганна!
– Ой, и хитрец, – опустила ясны очи Ганна. – Ой, и крутило! Так я тебе и поверила.
– Правильно, Ганна, молодца! – подскочил к ней Олесь. – Бросай его, за меня иди, я хлопец честный, не то что этот чернявый, он, может, вообще цыган.
– Вот ужо! – показал кулак Видаль. – Невесту отбивать…
Но встали наконец из-за стола, пошли по берегу всей гурьбой, и парнишка с ними, не отставая от Видаля.
Расселись на песке у камышей, не слишком близко к Ганне, но и не дальше двух шагов: живое творить – редкое умение, им заразиться любому не помешает, хоть бы даже и одних лягушек. И забава, и польза немалая.
Ганна вытянула стройные ноги, оперлась позади себя руками в берег, закинула голову – косы черные на песок легли, подбородок точеный, смуглый, в луну нацелился.
– Давайте, ребята, все смотрите, – разрешил Видаль, запихивая птицу в просторный карман куртки. – Я этот кусочек удержу.
Мастера вполглаза приглядывались к светлой штриховке камышей на темном небе, к серому песку, нежным движениям прозрачной воды. Такой маленький кусочек можно запомнить в точности. Воли себе не давай, не пытайся на свой вкус переделать – и не будет ущерба. Да вот только мастерам оно самое трудное и есть – не пытаться переделать чужое на свой вкус. Каждый мастер знает на свой лад, как лучше всего и как должно быть на самом деле. Трудно стерпеть, когда не так. Но терпели.
Паренек по имени Рутгер тоже устроился на песке, позади всех, обхватив худыми веснушчатыми руками острые коленки, во все глаза уставился на Ганну.
А та, оторвав взгляд от темного неба, устремила его в самую гущу камыша, наклонила голову и запела. Песня ее была без слов, голос сильный и гибкий разом наполнил ночь. Не просто так пела она и не для красоты. Такое для красоты голосом не выделывают, и некрасива была ее песня, а только поднималась невысоко и спускалась все глубже и глубже, и голос как будто начинал дрожать низко-низко, и дрожь отзывалась в костях.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?