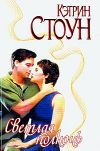Текст книги "Инструктор и другие (сборник)"

Автор книги: Ася Векшина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Инструктор и другие
Ася Векшина
© Ася Векшина, 2014
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Инструктор
Это продлилось всего пять минут. Я обнаружила себя лежащей на железной скамейке, под головой какой-то твердый предмет – чья-то сумка?… Голубые глаза на морщинистом, загорелом лице в обрамлении седых кудрей смотрели на меня внимательно. Голосом врача-психотерапевта незнакомец произнес:
– Вижу, что вам уже лучше. Если вы в первый раз, не надо брать такой темп. Я наблюдал за вами – вам хотелось прыгнуть выше себя, а это редко кому удается. Да, еще, наверное, не успели позавтракать.
Я резко поднялась, легкая тошнота подкатила к горлу, но фокус был четким – я увидела перед собой немолодого мужчину в белых спортивных трусах и майке, который протягивал мне бутылку с водой:
– Попейте и посидите спокойно пару минут, подышите глубоко. С вашего позволения, я проверю ваш пульс.
Не в состоянии сопротивляться, я почувствовала его осторожные сухие пальцы на своем запястье.
Так произошло наше знакомство. Его звали Виктор. С ударением на «о». Он жил неподалеку, и бегал по утрам и вечерам в этом парке энное количество лет, о которых с улыбкой говорил: «много, очень много».
Мое решение начать все с чистого листа после того, как ты объявил мне, что я могу радоваться – на этот раз ты купил билеты в один конец, созрело не сразу. Были короткие ночи без сна и подъем до будильника. Полуобморочная дрема в вагоне метро с проездом своей остановки. Накачивание пивом или коктейлями в барах с подружками, с традиционной стрельбой глазами в сторону соседей по столику. Были просто незаполненные ничем дождливые и солнечные дни, когда в голове крутилась одна и та же строчка:
«…ты сама этого хотела, можешь радоваться… ты сама… можешь…, а вместо сердца – треснувший сосуд, набитый ватой».
Все закончилось, когда однажды, июньским воскресеньем, проснувшись вне обыкновения около семи утра и выглянув в окно, сквозь отмытую дождем зелень листвы я увидела фигурку бегущей женщины. Точнее, она не бежала – почти шла, но этой картинки оказалось достаточно для того, чтобы вытащить с антресолей старые кеды и нацепить выцветшие спортивные штаны и флисовую куртку, в которой я обычно валялась на диване.
Мой первый за много лет экскурс в спорт закончился отключкой на скамейке, а мой спаситель стал партнером по утренним пробежками и личным инструктором.
Мы встречались у цветочных часов, и Виктор проводил разминку. Я полностью погружалась в этот ритуал, состоящий из дыхательных упражнений и несложных движений для разогрева мышц. Потом бежали рядом, всегда молча, в темпе, который задавал он. Иногда он насвистывал что-то из классики. Заканчивали занятие у той самой скамейки, где меня покинули силы, и у нас оставалось немного времени, чтобы пообщаться.
Он почти не говорил о себе, что было странно для человека его возраста. Виктор был потрясающ в своей подтянутости и молодом сиянии глаз: так мог бы выглядеть пожилой Аполлон, без этого несколько старомодного, но добротного обмундирования, которое было неизменно чистым и непременно светлых тонов. Виктор давал мне советы по питанию и показывал разные несложные упражнения, которые «осилят в домашних условиях даже такие современные ленивицы, как вы». Я послушно внимала, поглядывая на часы (скоро на работу), но он ни разу не перешел временных границ нашего урока.
Как-то раз он сказал:
– Вы очень забавная. У вас такая типичная внешность – вы похожи на всех женщин сразу. Кажется, что вас где-то видел, но невозможно вспомнить – где…
Я хмыкнула:
– Это нужно расценивать как комплимент? Мне это не вы первый говорите.
Виктор спокойно, не заметив моей иронии, продолжил:
–…вот вчера, ночью, шел какой-то американский фильм с полицейскими, я, знаете ли, обычно их не смотрю… но там была такая блондинистая актриса, она так же, как вы, щурила глаза и поправляла волосы…
– Но вы же сами говорили, что видели меня и раньше.
Это тоже выяснилось после одного из уроков. В холодный пасмурный день мы раньше времени завершили пробежку и вместе зашли в магазин. Продавец, молодой рыжий парень, приветливо, как со знакомыми, поздоровался с нами обоими, выдав мне йогурт и пачку нежирных крекеров, а Виктору – бутылку воды.
Мы вышли на улицу, и перед тем, как попрощаться, Виктор неожиданно спросил:
– А что стало с вашим темноволосым спутником, с которым вы тогда покупали столько пива? Это ваш друг или муж?
Я опешила и не успела соврать:
– Ни то, ни другое… Мы расста… В общем, он уехал.
– У него на лице была маска недовольства жизнью, тогда как вы излучали обратное. И пива вы покупали слишком много. Вы ждали гостей?
Он впервые раздражал меня своим отстраненным тоном и претензией на добродушное стариковство. Я поспешила откланяться:
– Не помню, наверное… Виктор, извините, я побегу. Работа, как всегда. До послезавтра!
Он улыбнулся, чуть театрально взмахнув рукой:
– Удачи, милая, и хорошего самочувствия!
Так прошло это холодное лето. Я без труда вставала утром, надевала купленный с премии вишневый спортивный костюм, который был назван Виктором «великолепным», и новенькие белые «найки». На моих щеках проступил забытый румянец, волосы отросли и болтались хвостом по спине. Я не похудела, но чувствовала в теле приятную легкость, стало лучше с координацией движений – перестала биться о косяки и сносить мебель. И еще – я снова обнаружила сердце, оно билось учащенно или ровно, а иногда кололо. Но теперь это было сердце, а не кусок ваты!
Мы расставались, он шел до одного и того же угла и сворачивал. Иногда я зачем-то смотрела вслед: его легкая поступь и «белые одежды» притягивали не один мой взгляд. На него оборачивались, а он, казалось, не замечал – гордо развевались седые кудри.
В конце августа я уехала в трехдневную командировку, но и в суете чужого города вспоминала наши пробежки. Поезд пришел рано утром. Мой путь от метро шел через парк, где я с каким-то легким волнением ожидала увидеть знакомую бегущую фигуру. Но парк был неестественно пуст: ветер носил обертки от чипсов и мороженого, навстречу мне попалась только пожилая собачница с пудельком в вязаном жакете.
Я постояла у часов. Виктора не было. Я устало опустилась на «мою» скамейку.
Просидела тридцать минут в растерянности, думая о том, что надо пойти принять душ и ехать на работу. Вдруг я услышала знакомый голос:
– Здравствуйте, пани (так он называл меня из-за имени)! Не по форме одеты. И куда это вы собрались с таким ридикюлем?
Виктор, несмотря на августовское похолодание, был все также налегке. Но именно сегодня меня вдруг резанул его поблекший загар и глубокая сетка морщин вокруг смеющихся глаз.
– Вот, была в командировке, в Москве, вернулась. Хочу бегать! А вы сегодня поздно…
Он сел на скамейку рядом со мной. Не глядя на меня, сказал придавлено:
– Приходил сын. Шел из гостей, заглянул проведать старика. В пять утра… Знаете, милая пани, у меня же есть сын, Дмитрий. Красавец, моя копия, – Виктор по-новому рассмеялся – саркастически.
– Я поздно женился. На очень красивой, подающей надежды балерине из Мариинского. По безумной, как мне казалось тогда, любви. Она была неземным ангелом. И ангелом этим оставалась долго. А я – я был гедонистом и эгоистом. Я заставил ее бросить балет, а сам не отказал себе ни в одном из жизненных удовольствий. Но она терпела, и господь подарил нам сына. Я так радовался, что мальчишка похож на нее! Что у него ее темные глаза и темные волосы, только… Сын нас разъединил окончательно. Я отдавал теперь ему все свое время, не расставался с ним ни на минуту… А она… Она снова мечтала танцевать, и начались гастроли, и закрутились какие-то романы… Она будто пыталась отплатить мне той же монетой. Однажды она бесцеремонно притащила домой своего нового любовника, толстого, пропитого… Я вышвырнул его, а ее ударил, наотмашь, так, что она отлетела в угол комнаты. Обернулся и увидел – Митя… Проснулся и смотрит на меня, не мигая. И вдруг подбежал ко мне и вцепился зубами в мою руку.
Таких диких сцен было много. Мы разошлись, когда ему было семь. К тому времени он уже был похож на меня, но вставал на защиту матери по любому поводу, а она ловко использовала его, зная, как безумно я к нему привязан…
Виктор замолчал. Я сидела окаменевшая, мечтая и боясь нарушить эту исповедь.
Он продолжил:
– Мите было тринадцать, когда она вышла замуж за москвича, художника, и уехала во Францию. Сына оставила своей матери, выжившей из ума старухе. Я был рад, что у Марины будет другая жизнь, счастье, которого я дать ей не смог. Но Митька страдал – не общался ни со мной, ни с ней, старуху свел в могилу. С трудом окончил школу, не стал никуда поступать, не держался ни на одной работе. Женился на хорошей доброй девочке, разрушил ее жизнь, чуть не довел до самоубийства. Сейчас он – никчемный человек. Не работает. Ко мне приходит только за деньгами, и – чтобы плюнуть в лицо. Мать давно перестала с ним общаться. Живет один в бабкиной квартире на Фонтанке, уже абсолютно пустой, продано все. Кажется, ваш ровесник – а развалина…
Я посмотрела в его глаза: они были сухими и холодными, без того света, что зажигался иногда, когда он объяснял мне нехитрые истины для «хорошего самочувствия». Перехватив мой взгляд, Виктор быстро поднялся, протянул мне руку, улыбнулся привычно:
– Милая, вы же с дороги! – схватил сумку. – Я вас провожу.
К моим глазам подкатывали слезы. Я не хотела, чтобы Виктор их видел, и неловко дернула сумку из его рук:
– Спасибо, Виктор, не надо. Я побегу… опаздываю!
– Ну, бегите, бегите, сильная женщина! До завтра, на том же месте, в тот же час.
Он уходил, как обычно, насвистывая и не обернувшись.
Я не застала его у отцветших часов ни завтра, ни послезавтра. Через три дня я поняла, что случилось непоправимое, и что он больше никогда не придет. Я не знала ни его фамилии, ни адреса, ни телефона – никаких зацепок. За углом, куда он сворачивал, было столько улочек, переулков и подворотен.
В новостях и интернете я не нашла сообщений о найденном теле одинокого старика. Оставалось несколько человек, свидетелей наших пробежек, которые могли о нем что-то знать. Первая – женщина, которая заставила меня реанимировать старые кеды и спуститься в парк. Она частенько попадалась нам навстречу, улыбаясь как-то отрешенно и кивая в знак приветствия головой. Женщина оказалась глухонемой, и попросила меня написать на листке свой вопрос. Она долго смотрела на мои печатные буквы (глупо, как будто глухонемые не пишут и не читают прописью), но лишь пожала плечами. Я опросила всех местных торговцев, но они были приезжими, и отвечали по-разному, но с одним смыслом: «делать нам нечего, следить за всеми сумасшедшими, которые бегают». Неряшливые парни, иногда бренчащие на гитарах, равнодушно предположили, что «папаша, должно быть, помер». Рыжий, здоровавшийся с нами в магазине, уволился.
Я вдруг решила, что не буду продолжать поиски. Виктор просто мог заболеть или уехать. Я постаралась поверить в это, но перестала ходить через парк, наблюдая теперь за его повседневной жизнью из окна или со стороны проспекта.
Октябрь прошел без бега, в работе. По выходным парк оживал, и случайно в толпе я ловила взглядом знакомую фигуру в светлой ветровке, но это всегда оказывался не он.
В ноябре я купила абонемент в спортивный клуб. Бегая по дорожке рядом с теми, до кого мне не было никакого дела, я старалась забыть об этом лете.
В декабре, перед Новым годом, в парке продавали елки. Я вдохнула колючий воздух с запахом хвои и мне захотелось придумать что-нибудь новое. Например, уехать туда, где я еще ни разу не была – в Лапландию. Или пригласить всех друзей и знакомых с детьми в мою комнату, стоять на ушах, смотреть салюты на набережной, а потом всю неделю ходить с подарками по гостям. Хотя, и это уже было не ново, и вряд ли – оригинально. Но эти нехитрые мысли заставили меня улыбнуться.
В этот момент я увидела Виктора, без шапки, с кудрями, припорошенными снегом. Подняв воротник темного длинного пальто, он шел мне навстречу.
Мой друг Пеонов
Мы встречались с Пеоновым раз в месяц в маленьком кафе на Мясной.
Рюмочная, породнившаяся с пирожковой, сейчас именовалась просто «кафе».
Если бы кто-то другой посмел предложить мне подобное место, я бы непременно сказала «фи», раз и навсегда вычеркнув его из списка своих знакомых. Но Пеонов все делал изящно, и даже эта пропахшая старыми шторами и сгоревшим маслом нора являлась частью его трогательного имиджа – жителя Малой Коломны.
Пеонов, однако, коренным петербуржцем не был. Когда ему было пятнадцать, его отца, инженера из северного городка, направили работать на Адмиралтейские верфи. Тогда-то им и выделили комнату в коммуналке на Мясной, где Пеонов после смерти отца жил по сей день.
Матери Пеонов не знал. Мне, выросшей в окружении женщин, трудно было представить, что с самого младенчества мальчика всю воспитывает мужчина, но это было так. Мать Пеонова умерла через месяц после родов от приступа обострившегося панкреатита. Отец Пеонова больше так и не женился, посвятив свою жизнь сыну и работе.
Наши отношения с Пеоновым совершенно исключали походы друг к другу в гости, но после двух встреч я, сгорая от любопытства, попросила его показать семейные фотографии. Он как-то растерянно вскинул брови, но в четвертую встречу все-таки выложил на стол новенький альбом, явно купленный для этого случая.
В альбоме было всего четыре фотографии. Пеонов сказал, что все остальные пострадали во время потопа, который устроил в прошлом году сосед сверху, то ли бизнесмен, то ли помощник депутата. Пеонов пытался высушить снимки, но они расплылись и так и остались прилипшими друг к другу. Сморщенный Пеонов-младенец, похожий на всех детей мира, завернутый в цветастое одеяльце, уже тогда взирал на этот мир прозрачными глазами философа. Эта, довольно хорошего качества, фотография была сделана другом отца Пеонова, актёром местного театра дядей Аликом. На другом фото – смеющаяся мама Пеонова в темном платье в горошек, с белым бантом у ворота. У лица ее букетик ландышей, но он не закрывает красивой и мягкой улыбки. Меня удивило то, что мама блондина Пеонова оказалась по-киношному яркой брюнеткой с четко прорисованными чертами.
Ну, конечно же, Пеонов – вылитый отец! Это стало очевидным на третьем, слегка засвеченном фото: широкоплечий молодой человек в светлом костюме, который ему чуть великоват, сидит на скамейке в парке. У отца Пеонова тонкие, зачёсанные назад, светлые волосы, прозрачные большие глаза и нежный подбородок. Он неловко сжимает в руках газету, и весь его вид шепчет фотографу «не снимай». Но фотограф, все тот же дядя Алик, упрямо и весело фиксирует друга на воскресной прогулке: в отдалении видно какое-то семейство, дети держат в руках леденцы на палочках, а в просвете между деревьями – очередь на карусели.
Четвертое фото Пеонов вынимает из пластикового окошка альбома и кладет передо мной. Оно слишком темное, и я не сразу понимаю, что на нём изображено. Темный силуэт в пальто и шляпе, человек пытается прикурить сигарету.
– Это дядя Алик. А фотографировал я его фотоаппаратом, он им очень дорожил. Марку сейчас не вспомню, какая-то заграничная. Дядя Алик говорил, что это единственное, что есть у него ценного. Подарок актера, кажется, англичанина, тот приезжал на гастроли в наш город со своим театром. Мой отец дружил с дядей Аликом с первого класса. И.. они оба любили маму. Это мне отец рассказал, когда мы с ним отмечали день окончания моего института. Здесь, в этом кафе. Только всё тут было совсем по-другому.
Вместо той стойки стояло пианино и восемь столиков по кругу. Шторы на окнах были светлые, в полоску, и – тогда работала очень милая официантка из Выборга, как же её звали? Женя, Жанна?…Забыл.
Мы распили в тот день бутылку молдавского. Отец, совсем не пьющий, слишком быстро опьянел и рассказал мне, как они боролись за внимание мамы. Дядя Алик читал стихи и играл на аккордеоне под ее окнами. А мой отец, тоже писавший о маме стихи, прятал их в стол, и дарил ей ландыши, она их просто обожала. Мама выбрала отца. Поженились они сразу же после института.
Дядя Алик был очень талантлив, но выпить любил. После смерти мамы первые три года он у нас не появлялся, ушёл из театра, устроился рабочим на деревообрабатывающий завод. И неожиданно для всех женился. И как-то даже удачно. Её звали Тоня, Антонина Леонидовна. Такая высокая, рыжеволосая, шумная женщина, кажется, старше его. Заведовала на этом заводе складом спецодежды. Детей у них не было. Тоня-то и вернула нам дядю Алика. Я помню, как мы все вместе в их большой квартире отмечали Новый Год. И нас всех ждали подарки: отца – какая-нибудь дефицитная книга, он любил классиков, дядю Алика – новый шарф, Тоня любила вязать. А мне она всегда дарила разные игрушки – оловянных солдатиков в картонной коробке, кубики или машины. И ещё она всегда ходила с нами на кладбище в мамин день рождения, одиннадцатого мая. Это она высадила там ландыши и куст жасмина. Отец не любил эти походы, и пару лет под разными предлогами уклонялся от них. Тогда мы шли втроем: дядя Алик, Тоня и я. Она входила в оградку и заполняла мёртвое пространство своей суетой, мыла, рыхлила, садила, показывала мне, как правильно затереть шкуркой осыпавшуюся краску. И хвалила меня, пока я красил. А дядя Алик всегда стоял поодаль, курил и щурился от дыма. Он всегда курил крепкие папиросы.
Пеонов замолчал. Я смотрела на фото друга его отца и ждала продолжения. Но он молчал. Взял в руки остывший пирог с яйцом и луком, потом, словно раздумав есть, положил его на тарелку. Аккуратно просунул фотографии в окошки альбома и убрал альбом в пакет.
Пеонов всегда носил что-то в полиэтиленовых пакетах, я никогда не видела его с сумкой или портфелем. Эта его привычка и послужила курьёзным поводом для нашего знакомства, которому пошёл третий год.
В один из зимних вечеров мы с Пеоновым оказались соседями по столику в шикарном ресторане, где проходила презентация новых отделочных материалов. После официальной части нас всех пригласили продолжить знакомство в обстановке более расслабленной. За окнами через мокрую метель проступал Исаакий, мерцали свечи, на столиках стояли дорогие искусственные цветы, щеголеватый юный конферансье проводил розыгрыш сувениров, вынимая визитки из пластикового барабана. За моим столиком сидела солидная и явно скучающая пара из крупной строительной компании. Рядом стоял пустой стул, а через него сидел невысокий лысеющий блондин в скромном, не новом костюме, но в ослепительно белой рубашке без галстука. Мужчина смотрел на конферансье с заинтересованной улыбкой, но его прозрачные глаза, то ли зелёные, то ли серые, оставались задумчиво непроницаемыми. Он теребил салфетку, а к бокалу красного вина даже не притронулся.
Через пятнадцать минут пара строителей засобиралась и ретировалась, цеременно с нами раскланявшись. И тогда мой сосед заговорил. У него оказался густой, но мягкий голос:
– Вам нравится здесь?
По-моему, я ответила, что «конечно, потрясающий вид, и само мероприятие прекрасно организовано». Но мужчина опять улыбнулся своей никак не вязавшейся со всем происходящим улыбкой и ответил:
– А я, знаете, скучаю. Но остался только ради вас.
– Какая галантность, – съязвила я.
Мы уже успели переглянуться с сидящим за другим столом пиар-менеджером компании, которая организовывала эту презентацию. Подмигивая, тот поднял за меня бокал и показал, что хочет к нам присоединиться.
Неформальное общение набирало ход. Пиар-менеджер, рыжий полный москвич с экзотическим именем Артуро, разливал вино, рассказывал анекдоты из жизни своих сотрудников, на которые мой сосед реагировал всё той же отстранённой улыбкой. Потом мы с Артуро танцевали, опять пили, почти не закусывая, и наконец-то поняли, почему нашему соседу так скучно. Он попал сюда по просьбе своей начальницы, которая сама не смогла посетить это знаковое для их фирмы мероприятие, так как не полностью избавилась от последствий какой-то операции.
Непьющего блондина звали Андрей Андреевич Пеонов, и занимал он в своей компании место сметчика, никогда не посещал подобные мероприятия, но только «из уважения к Кларе» (тут мы с пиар-менеджером переглянулись), он пришёл сюда. Ведь она просила взять все материалы, набрать визиток у присутствующих и сделать фото.
Расходились за полночь. Изрядно захмелевший Артура обнимал трезвого Пеонов, и, постоянно подмигивая мне, приглашал нас всех поехать в какой-нибудь загородный ресторанчик, продолжить приятный вечер.
– Завтра рабочий день, к сожалению. Да и наша барышня уже устала, – Пеонов схватил лежащие на стуле пакеты с рекламными материалами, и мы втроём спустились вниз.
На улице Артура быстро поймал такси и долго держал меня за воротник шубы, хлопая совершенно окосевшими глазами. Мне хотелось быстрей добраться до дома и рухнуть в постель. Нас тактично расцепил Пеонов. Он пожал Артура руку и терпеливо вынес его лобызания. Потом, внимательно изучив его визитку, бережно спрятал её в карман пиджака, и, галантно подхватив меня под локоть, усадил на заднее сидение такси. Я вяло помахала сквозь стекло грустному пиар-менеджеру, уже стоявшему среди разгорячённых коллег.
Помню, что на вопрос таксиста «куда изволите, уважаемый?», Пеонов ответил:
– Сначала отвезём эту барышню? Называйте адрес. А потом в Коломну.
– Куда? – молодой парень выглядел озадаченным.
– А, вы не знаете этот уникальный район нашего города. Хорошо, но улицу Мясную вы знаете?
– Не припомню, где именно она, подскажите, – ушёл от ответа таксист. Зато он прекрасно знал мой район на окраине города.
– Я живу в замечательном зелёном доме купца Галактионова, когда-то он был доходным домом. Правда, я не знаю, как вам лучше туда проехать, я ведь не вожу машину и по работе почти не езжу никуда…
– Ладно, отвезём даму, разберёмся, – буркнул парень и врубил песни в стиле «русский шансон», которые мой странный знакомый слушал всё с той же отрешённой улыбкой.
Утром, в офисе, открыв пакет со вчерашнего мероприятия, я обнаружила в нём кучу визиток, которых не помнила, и цифровой фотоаппарат в сером чехле, явно мне не принадлежащий. В темноте Пеонов перепутал пакеты. Его визитки в пакете я не нашла. Зато без труда отыскала в справочнике название его фирмы и позвонила. Андрей Андреевич очень мне обрадовался, потому как решил, что его пакет мог быть увезён в Москву пьяным Артуро, а ведь Пеонов так и не отчитался Кларе о мероприятии. Мы договорились встретиться вечером у метро, на канале Грибоедова. С той поры мы с Пеоновым подружились. Постепенно установилось место и график наших встреч. Нежно любимая Пеоновым Коломна. Раз в месяц, по пятницам.
В ту нашу четвертую встречу, ознаменованную просмотром фотографий, когда Пеонов вдруг замолчал, рассказывая о дяде Алике и его жене, я была в несколько раздерганном состоянии. Дизайн-проект, над которым мы с двумя моими коллегами с воодушевлением работали последние три месяца, был не принят клиентом, довольно противным типом, который числился у нас как особо важная персона, благодаря его школьной дружбе с нашим генеральным. Генеральный орал и демонстративно разорвал презентацию, поранив палец о край пружины, скреплявшей листы. Мои коллеги, кто как смог, выразили возмущение. Я же, как обычно, спасовала, внутренне протестуя против жеста директора, и потому испытывала злую беспомощность. В тот день я, как никогда, ждала встречи с Пеоновым, чтобы в беседах с ним, точнее, в его пространных монологах о прошлом, о местах, которые он особенно любит, забыть об офисных неприятностях.
То, что Пеонов замолчал, и теперь сидел, уставившись своими странно мерцающими глазами на скособочившуюся картинку, изображавшую Египетский мост в белую ночь, меня ещё больше взвинтило. Я уже знала, что в жизни этого человека было много трагичного и нелепого, и потому обычно не давила на него, если чувствовала, что он не хочет что-то рассказывать. Но в тот день я настойчиво сыпала вопросами:
– А дальше? Что с ними было дальше? И – с ней, с этой Антониной? Ведь что-то же произошло, да?
Пеонов моргнул и продолжил.
– Мне было двенадцать. Мы с моими школьными друзьями, с отцом и дядей Аликом решили поехать на две недели на озеро, в паре часов езды от города. Такая мужская вылазка с палатками, с удочками. Отец слыл очень надёжным человеком у матерей моих однокашников, а вот дядя Алик внушал некоторые опасения. Но он так ждал эту поездку, что даже преобразился – от него совершенно перестало пахнуть спиртным. Он готовил снасти, набрал нам кучу нужной провизии, достал через одну свою знакомую какую-то канадскую тушенку и испанский апельсиновый сок в длинных жестяных баночках.
Антонина подтрунивала над ним, но помогала готовиться: штопала спальники, заклеивала старые палатки. У неё почему-то не получилось взять отпуск на работе, и она пообещала навестить нас на выходных. До похода оставалась неделя. Помню, что дядя Алик пришёл к нам вечером, уже изрядно где-то приложившись, и сказал: «У Антонины мать в больнице, ей надо ехать. А я туда не поеду, поеду с вами». Отец как-то неодобрительно посмотрел на него, но смолчал. Видимо, между матерью Тони и дядей Аликом кошка чёрная давно пробежала, ещё со времен его сватовства.
Антонина на следующий день уехала в районный центр. Матери её стало лучше, Антонина нам радостная звонила, у них с Аликом почему-то не было телефона. Сказала, что вернётся через день. Но так и не приехала. И никто из нас её больше никогда не видел.
– Как – не видел? – я не поняла фразу, думала, что ослышалась.
– Да вот так. Сестра сказала, что она проводила Антонину на поезд, в вагон зашли, посидели на дорожку, как принято. Поезд тронулся, Антонина махала ей из окна. Но когда дядя Алик пришёл её встречать, Антонина из поезда не вышла. И вещей нигде её не оказалось. А самое главное, она в пустом купе ехала, в тот год почему-то народ предпочитал на автобусах добираться. Проводники пили всю дорогу и толком ничего сказать не могли, куда их пассажирка делась. Конечно, всю милицию районную и даже областную на ноги поставили, искали везде. Ничего. Пропала женщина, испарилась. Дядя Алик сначала думал, что она со старым своим поклонником сбежала. Был у неё такой давным-давно, ещё когда они детьми были, очень он её любил, но женился на другой, потом в тюрьму загремел из-за драки. Так вот, за пару месяцев до её приезда он из тюрьмы освободился и знал, что Антонина приезжает. Он и убить её мог, из ревности. Мой отец почему-то думал, что никогда Антонина больше не вернётся, потому что нет её в живых.
Но дядя Алик не хотел в это верить, да и версия с поклонником не оправдалась: уголовник этот в те дни, когда Антонина в город приезжала, провёл у какой-то своей любовницы, и она, и её семья, и соседи, это подтвердили. А кто такая Антонина он вообще забыл.
Искали долго, запросы в другие города высылали – и ничего. А дядя Алик с горя пить перестал. Он из дома выходил редко, только за хлебом и картошкой. Двери мог отцу или мне вообще не открыть. А иногда их закрыть забывал, и мы заходили в квартиру, приносили продукты, папиросы. У него там всегда, как ни странно, убрано было, вещи он стирал сам. Но есть забывал – похудел очень, и говорить перестал. К нему соседка рядом захаживать стала, пожилая одинокая женщина, верующая, и дядя Алик потихоньку стал отходить. Только вот казался каким-то пришибленным. Об Антонине совсем перестал вспоминать, правда, один раз сказал невпопад в каком-то разговоре: «Я знаю, что это он. Придёт время ему за всё ответить». И замолчал. Отец тогда опять в милицию обратился, нет ли каких сведений. Ничего. И женщин убитых её возраста, роста, комплекции в то время вообще не находили. Хотя тогда всяких преступлений хватало.
– А что с другом твоего отца было дальше? И как его полное имя… Альберт?
– Нет, Алик – это не от Альберта. Александром его звали. Александр Русаков. Но со школы к нему имя Алик приклеилось. Он вернулся к работе, а с той соседкой иногда ходил в маленькую церковь на окраину города. Жуткое место, рядом с кладбищем, мы с мальчишками туда бегали играть в придуманную нами игру, довольно мрачную и глупую, в «живых и мёртвых».
С нами же дядя Алик опять, как и тогда, после смерти мамы, общаться почти прекратил. Я удивлялся отцовскому терпению и такту. Как он всё это время приходил к другу и мог часами сидеть с ним и рассказывать ему то, что он прочитал вчера. А отец, надо сказать, был очень молчаливым человеком. Дядя Алик просто сидел и смотрел в одну точку, или прерывал его, говорил, что устал, или выходил в кухню, чтобы закурить. Курил он, не переставая, дымил по-чёрному. Меня дядя Алик словно не замечал. И я очень страдал от этого, даже плакал. И почему-то именно тогда засела у меня в голове мысль, что это после моего рождения у отца и у его друга пропали женщины, которых они любили больше всего на свете. Что каким-то образом я в этом виноват. Не появись я на этот свет, и мама была бы жива, и Антонина бы не исчезла.
Вот как-то лежал ночью, не мог уснуть, слышал, как спит отец, покашливает, как обычно. И меня такая мысль пронзила: «Да ведь это он обо мне тогда говорил, дядя Алик. Что это я за всё отвечу. Точно! Поэтому и не видит меня, видеть не хочет».
Пеонов поднял на меня глаза, которые, наверное, были бы даже красивыми, если бы не их прозрачность, всегда меня удивлявшая. Я застыла. Никак не могла ожидать такого финала этой истории, и не знала, что в таких случаях нужно говорить. Но Пеонов сам продолжил с какой-то новой оживлённостью:
– Никому я про это сказать не мог. Вот тебе только сейчас рассказал. И фотографию эту дяди Алика я не помню, даже удивился, что она сохранилась, не намокла. Кроме отца сказать мне о моей догадке было некому, только вот почему-то чувствовал я, что если расскажу отцу, это его надломит. Он так гордился мной, считал, что всё у меня хорошо. Я учился отлично, занимался прыжками в длину, пока не узнал о трещине в коленном суставе. Был у меня хороший школьный друг Мишка, но мы же детьми были, он бы тоже меня не понял. Когда отец получил направление в Ленинград, мне шёл пятнадцатый год. Я тогда был влюблен в девочку из соседнего подъезда, она была старше меня на год, звали её Тамара. Самая обыкновенная девочка, сейчас даже ни одной черты в памяти не возникает. Нет, помню… темноволосая и полненькая, носила коричневую сумку наперевес, всегда жевала какие-то конфеты из кулечка. На меня она внимания не обращала. И я, страдая из-за нее, так и уехал с отцом в Ленинград. Дав себе слово, что когда вырасту, вернусь и женюсь на ней. Но не вырос и не вернулся, как видишь. Потому до сих пор и не женат.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!