Текст книги "Лгунья"
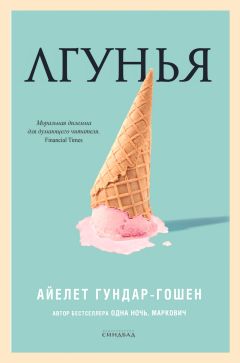
Автор книги: Айелет Гундар-Гушан
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
С тех пор как Лави все узнал, он ел приготовленный мамой рис и думал: предательница. Она спрашивала, как дела в школе, а он отвечал ей про себя: шлюха. С тех пор как он все узнал, ему постоянно казалось, что мать что-то скрывает. Даже когда она говорила что-то совсем обыденное, вроде «сходи в магазин», он смотрел на нее с подозрением, как киношный детектив, который, прежде чем повернуть ключ в замке зажигания, проверяет, не заминирована ли машина. А отец, про которого Лави всегда думал, что его рост больше метра восьмидесяти, хотя на самом деле в нем не было и метра семидесяти (этого не знал никто – ни его солдаты, ни работники, – и даже на фотографиях было невозможно заметить, что самый могущественный в компании человек – самый низкорослый)… Лави посмотрел на своего отца и вдруг увидел, какого тот на самом деле роста.
Ему не надоедало наблюдать, как мать лжет отцу. Это было как расчесывать комариный укус. Лави завораживало противоречие между невинным выражением ее лица и тайной, которую оно скрывало. Ложь слетала с маминых губ легко, как колыбельные, что она когда-то пела ему на ночь. С тех пор как он все понял, каждое мамино слово было как пухлый кошелек, содержимое которого нужно украсть. За каждой повседневной фразой скрывалась другая, донная: одна плавала по поверхности беседы, а другая обитала внизу, в темноте. А этот вояка, этот опытный стратег… Как он мог оказаться таким идиотом?! Это было ужаснее всего. С тех пор как Лави все узнал, он уже не мог ни ненавидеть отца, как раньше, ни любить.
Именно поэтому Лави с такой легкостью распознал ложь продавщицы мороженого. Он почувствовал зазор между ее словами и тем, что произошло на самом деле. И когда все ушли, он сказал:
– Я знаю, что ты врешь.
Он думал, она заплачет, испугается, но Нофар смотрела на него как ни в чем не бывало. Лицо у нее было спокойным.
Он заявил: «Я знаю, что ты врешь», – а она, вместо всех слов, которые могла бы сказать, спросила только: «Чего ты хочешь?» – и он понял, что не ошибся. То, что было лишь догадкой, теперь получило подтверждение.
– Я хочу, чтобы ты упомянула меня в интервью на телевидении. Назови меня по имени.
– А как тебя зовут?
– Лави Маймон. Когда тебя спросят, откуда у тебя взялась смелость закричать, скажи, что твой друг, Лави Маймон, научил тебя приемам самообороны.
Он сказал это быстро, шепотом, а на словах «твой друг» еще сильнее понизил голос – словно фраза упала в яму и выбралась из нее с большим трудом, – и Нофар всерьез задумалась. У нее никогда не было друга. В конце концов она посмотрела на юношу в упор, увидела, что он очень худой, что волосы и глаза у него черные, и объявила:
– Я скажу «мой парень». Скажу, что самообороне меня научил мой парень.
Так, еще до того, как закончился первый час ее смены, у Нофар Шалев появился парень.
6
Следующие несколько часов пролетели быстро. Кафе-мороженое заполнилось посетителями: отчасти любителями сладкого, но в основном – любителями скандалов. Транспорт по городу перемещался с трудом, зато слухи распространялись стремительно. Из-за возраста девушки и характера преступления газеты не упоминали ее имени, но все его знали. Все осуждали поступок певца. Все восхищались ее смелостью. А когда восхищаются смелостью, не забывают давать чаевые. К полудню стеклянный стакан на прилавке – обычно пустой – заполнился монетами. Трижды опустошала его Нофар, но тот наполнялся снова – словно нефтяная скважина, которую наконец-то пробурили в правильном месте, и из недр земли хлынули ее сокровища. В четыре часа Нофар пришел сменить юноша с непроницаемым лицом. Она дважды пересчитала кучку монет, чтобы убедиться, что не ошиблась, – невероятно, но она и вправду получила двести пятьдесят пять шекелей. Потрясенная своей удачей, Нофар отправилась на маленькую площадь и зашла в бутик дизайнерской одежды.
– Что вас интересует? – спросила продавщица, подразумевая: «Здесь для вас ничего нет». Это было ясно и по ее интонации, и по взгляду, которым она окинула девушку. Бутик был маленький и дорогой, а девушка – крупная и нищебродка. Не совсем, конечно, толстуха, но определенно и не с осиной талией. На ней были не сильно льстившие ее бедрам легинсы и простенькая кофточка. Но если раньше в таких случаях Нофар вела себя, как трусливая мышка, то сейчас подошла к этой городской кошке с наманикюренными когтями и дернула ее за хвост:
– Мне надо что-нибудь для интервью на телевидении. Оно состоится сегодня вечером.
Она сказала это просто и уверенно – как «абракадабра!», как «сим-сим, откройся!» – и, как только продавщица поговорила по телефону с продюсершей передачи, о которой шла речь, магазин открылся перед Нофар, как по мановению волшебной палочки. Со склада принесли новую коллекцию, а из бутика на юге города вызвали главного дизайнера.
– Примерьте и вот это. Может, синее? А об обуви вы подумали? Давайте добавим на талию ремешок.
Продавщица тут же протянула руку к стоявшему в витрине спесивому манекену, сняла у него с талии ремешок и вручила потрясенной Нофар.
Нофар подошла к зеркалу; перед ней стояла совершенно другая девушка. Продавщица нарядила ее в сиреневый шифон, и голубые глаза Нофар поголубели еще больше. Из выреза загадочно выглядывали выпуклости грудей, в осанке вдруг появилось что-то аристократическое. Но стоило Нофар взглянуть на цену, как глаза у нее округлились от ужаса. Две тысячи шекелей! И это со скидкой! А у нее в рюкзаке только двести пятьдесят пять… Нофар вспомнила, как звякали монеты, когда продавщица переносила ее рюкзак, чтобы тот не загораживал проход в примерочную. Да и вообще, как она наденет свой убогий школьный рюкзак на ласкаемые шифоном плечи? Как будет ковылять с ним на спине в туфлях, которые специально принесли из соседнего магазина – в тон платью? Она пошла в примерочную и спешно сняла роскошный наряд, но тут появилась дизайнер:
– Упаковать?
Нофар хотела было сказать: «Нет» – но та протянула руку, схватила платье, умело его сложила и сунула в разноцветный пакет.
– Только не забудьте напомнить продюсерам, чтобы поблагодарили в титрах наш магазин.
И вот Нофар снова оказалась на улице. В руке у нее был пакет с платьем, а в рюкзаке по-прежнему лежали двести пятьдесят пять шекелей, которые никто и не подумал с нее взять. Нофар пошла на автобусную остановку. Голова у нее кружилась.
Ждать не пришлось ни секунды. Как только Нофар подошла к остановке, рядом с ней затормозил автобус и открыл двери. Они были оранжевые. Как будто это был не автобус, а огромная тыква.
* * *
В приемной телестудии сидели гости передачи, ждавшие своей очереди. Среди них был отставной генерал. С тех пор как он вышел в отставку, прошло уже двадцать лет, но каждый раз, как ситуация на севере страны обострялась, его приглашали на телевидение. В двух стульях от него женщина-врач, задрав вверх подбородок, повторяла про себя главные тезисы выступления: очень важно привиться еще в начале осени! грипп особенно опасен для стариков и детей! По правде говоря, эпидемия гриппа волновала врача даже меньше, чем генерала – минометные обстрелы на северной границе. Гораздо больше ее волновал вопрос, будет ли сегодня смотреть телевизор Михаэль Шустер, узнает ли он ее (если будет) и пожалеет ли об их скоропалительном разрыве восемь лет назад (если узнает). Генерал поглаживал бороду и надеялся, что сегодня телевизор будет смотреть министр обороны. Если нет, то, может, хоть кто-то из помощников проинформирует его, какой глубокий системный анализ сделал отставной генерал и каким глубоко системным человеком является он вообще, и, возможно, тогда министр пожалеет, что не назначил генерала начальником Генштаба, когда еще была такая возможность.
Возле кофейного столика с одноразовыми стаканчиками стояла третья гостья передачи – актриса, у которой завтра в Национальном театре был моноспектакль. Она думала о том, не забудет ли домработница-филиппинка включить телевизор в то время, в какое она просила, и развернуть сидящую в кресле мать лицом к экрану. Может, тогда старуха хоть что-то вспомнит? Может, даже проворчит: «Почему бы тебе не найти серьезную профессию?» Потому что даже по ее ворчанию актриса уже скучала.
Сидели среди этих людей и Нофар Шалев со своей мамой, учительницей иврита. Обе смущенно молчали. Пока они ехали в такси, мать все время напоминала дочери: говори правильно! не глотай слова! Ронит Шалев была вообще-то женщиной доброй, но как-то незаметно для нее самой язык, который она преподавала, ею полностью овладел, и она постоянно поправляла дочь: не «походу, они не придут», а «похоже, они не придут», не «я по-любому это не куплю», а «я в любом случае это не куплю», не «я понимаю о том, что он не прав», а «я понимаю, что он не прав». Эти замечания помогли Нофар получить на экзаменах по ивриту самую высокую оценку за всю историю школы. А еще из-за них она боялась лишний раз рот раскрыть. Выйдя из такси, Нофар уже полностью утратила уверенность в себе. Ее смыл ливень падежей и ударений.
У входа в студию их встретила продюсерша с телефонным наушником. Такие молодые и самоуверенные амазонки наводили на Ронит ужас, и, сама того не замечая, она принялась делать то, что делала всегда, когда чувствовала себя жалкой и ничтожной: стала давать еще больше указаний дочери. «Выпрямись. У тебя плечи опущены. Опусти подбородок. Вытяни шею». Потом она пригладила Нофар волосы, заправила за ухо выбившуюся прядь, поправила ей бретельку лифчика, стерла невидимое пятно с подола платья, и девушка, которая всего несколько часов тому назад мановением руки остановила автобус, мало-помалу съежилась почти до полного исчезновения. Поэтому трудно сказать, что произошло бы дальше, не появись откуда ни возьмись гримерша (широкие бедра, оранжевые волосы, рот, в котором на постоянной основе совместно проживали язык и жвачка) и не умыкни она девочку в свою увешанную зеркалами комнату.
В гримерке, среди пудр и порошков, Нофар взглянула на свое отражение – и вся сжалась. Она опустила глаза, и гримерша, размер сердца которой уступал только размеру ее бедер, сразу все поняла. Она прекрасно знала: есть люди, которые, усевшись перед зеркалом, раздуваются от самодовольства, а есть такие, на кого зеркало, наоборот, действует, как ожог медузы, – и этих последних гримерша очень любила.
– Смотри, какие у тебя замечательные скулы! А губы какие!
Нофар пробормотала что-то про прыщи.
– Вот эта мелочь, что ли? Да кто их видит-то? Смотри, какой я сейчас фокус сделаю.
Нофар изо всех сил старалась не глядеться в зеркало и не заметила, как всего двумя мазками кисточки гримерша убрала с ее лица позорную красную сыпь. Затем она вынула из ящика нежно-коралловую помаду, провела ею по губам Нофар. Задумалась, какой румянец наложить – персиковый или яблочно-розовый, решила, что заливающего щеки девушки естественного румянца вполне достаточно, и наконец спросила:
– Ну? Хочешь взглянуть?
Нофар неуверенно подняла глаза. Она ожидала увидеть сутулое, прыщавое и совершенно заурядное существо – но из зеркала на нее удивленно смотрела совсем другая девушка. Тушь на ресницах подчеркнула ее глаза; губы стали розовыми, как конфеты; точеные скулы, прятавшиеся обычно под густыми волосами, предстали теперь на всеобщее обозрение. Но самое главное – прыщи! Гримерша, эта добрая фея на минимальном окладе, словно спрятала их под белоснежной простыней.
На глазах у девушки выступили слезы благодарности.
– Только не плачь! – испугалась гримерша. – Все потечет!
Нофар послушно кивнула и не позволила слезам пролиться.
Потом все стало происходить очень быстро. В гримерку вбежала продюсерша и потащила Нофар за руку. Возле двери студии ее ждала мама с посеревшим лицом. За несколько минут, проведенных в одиночестве, Ронит успела придумать еще уйму советов, которые следовало дать дочери перед интервью, но, увидев открытое, миловидное, очаровательное лицо Нофар, она – что случалось крайне редко – осталась ею настолько довольна, что решила ничего не говорить. Продюсерша открыла дверь студии и втолкнула Нофар внутрь. «Дыши, – твердила себе девушка, – дыши», – но тело ее не слышало, а если и слышало – не слушалось. Ноги и руки отказывались шевелиться, язык присох к гортани, и только предательницы-подмышки непрерывно потели, заливая платье реками страха. Она уже жалела, что дала тогда тележурналистке согласие появиться перед камерой с открытым лицом. Тележурналистка похвалила ее за мужество и сразу сообщила об этом в новостную редакцию. От матери Нофар было получено письменное разрешение, и под Нофар выделили большой кусок эфира – сюжет всегда выигрывает, когда у жертвы есть лицо. Однако сколь бы выигрышным ни был сюжет, Нофар сковал страх. Она сжалась, как перевернутая на спину гусеница, и хотела только одного: чтобы чья-нибудь милосердная рука перенесла ее в надежные стены ее комнаты. Но рука не появлялась, и, парализованная ужасом, Нофар услышала, как тележурналистка объявляет следующий сюжет:
– Попытка изнасилования в центре города, во внутреннем дворе. Арестован знаменитый певец Авишай Милнер. На допросе он во всем признался. Смелая девушка сейчас находится у нас в студии. Расскажите нам, как все это случилось, – обратилась она к Нофар, но та молчала.
Терпеливая тележурналистка предприняла новую попытку:
– Вы пришли на работу и…
Она подала девушке эту фразу, как весло тонущему; надо было лишь за него ухватиться. Но Нофар ничего не ответила. Как если бы решила утонуть.
Из аппаратной приказали: «Попробуй еще раз. Если не получится, прервемся на рекламу».
Нофар прокашлялась. Проглотила слюну. Глубоко вдохнула – и заговорила. И – о, чудо! – слова потекли из нее потоком. Гладкие, круглые, как речная галька, как булочки. Не зря Нофар смотрела бесчисленные серии бесчисленных телесериалов. Она даже не подозревала, как много знаний дал ей голубой экран: он научил ее формулировать мысли короткими и ясными предложениями, вставлять между ними многозначительные, сопровождаемые скорбным взглядом паузы, вести слушателей по извилистой, но хорошо размеченной сюжетной тропинке, на которой есть и спуски («Я уж думала, мне конец…»), и подъемы («…но в последний момент пришло спасение»). Лицо говорящего играет не менее важную роль, чем слова, и надо сказать, что здесь гримерша превзошла себя. И не потому, что сделала девушку невероятно красивой. Невероятная красота не только поражает, но и раздражает. Однако в среднестатистической внешности Нофар было заключено ровно столько обаяния, сколько нужно, и мудрые руки гримерши сумели это понять. Они превратили девушку в ослепительную – но не ослепляющую красотку.
Пока Нофар отвечала на вопросы тележурналистки, перед глазами у нее всплыло лицо Шир. Может, она ее сейчас видит? Может, она все-таки немножко по ней скучает? Нофар вспомнила, как по пятницам они сидели вечером перед телевизором и разговаривали о телесериалах – чтобы не говорить о том, что все одноклассники, кроме них, сейчас тусят. Но тут вдруг она с горечью подумала, что ни Шир, ни Йотама, ни остальных сейчас, наверно, дома нет, что они пошли вместе со всеми (потому что всегда есть какие-нибудь «все») в кино, что интервью скоро закончится, она пойдет домой, смоет макияж, снова станет прыщавой…
А поскольку гримерши рядом не было и сказать «Только не плачь!» было некому, на глазах у Нофар выступили круглые, тяжелые слезы. Тележурналистка – собравшаяся уже было закругляться – решила повременить. Зрители сейчас ужинали, они смотрели новости и жевали – а ничто не способствует пищеварению лучше, чем слезы красивой девушки. И как только по щеке Нофар скатилась первая капля, вместе с ней полились и тысячи других: слезы телезрителей и фотогеничные слезы тележурналистки. От слез глаза Нофар поголубели еще больше и стали похожи на бездонное море.
Но когда ведущая от нее отвернулась и посмотрела в камеру, Нофар вдруг пронзил страх: из-за всех этих переживаний она совсем забыла про черноглазого юношу! Трудно сказать, чего она испугалась больше: что он ее выдаст или что он ужасно расстроится, если интервью закончится, а она его так и не упомянет, – так или иначе она набралась смелости и перебила ведущую, уже открывшую рот, чтобы завершить передачу.
– Я только… Я только хотела сказать…
– Наше время истекло.
– Но это важно! Я хотела сказать, кто меня спас, кто научил кричать в чрезвычайных ситуациях «Помогите!». Это мой парень, Лави Маймон. Он сейчас проходит отбор в спецназ.
– Спасибо, Нофар Шалев. Вы очень смелая девушка. После рекламы мы поговорим об эпидемии гриппа и обострении ситуации на северной границе.
Корабль новостей поплыл дальше; отыгравшую свою роль Нофар небрежно выбросили за борт; ведущая, камеры, армия продюсерш преспокойно отправились в дальнейшее плавание; и только добросердечная гримерша – когда Нофар с матерью садились в такси – помахала им на прощанье рукой. Только тут Нофар остро осознала, что все кончилось: интервью завершилось и ее отсылают назад, в унылую жизнь. Когда такси тронулось, она – пока телестудия не скрылась из виду – не отрываясь смотрела в окно, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь.
7
Когда они вернулись домой, настал вечер. В полутемном коридоре стояла Майя. Лицо ее было освещено пробивавшимся из ванной слабым светом, а тело погружено в тень.
– Я вас ждала, – сказала она, подходя к Нофар и обнимая ее своими тонкими загорелыми руками. – Ты была великолепна! – Несмотря на то что сестер разделял год, они были одинакового роста. – Но что они сделали с твоим лицом?! Ты вся какая-то другая!
И еще до того, как мама успела напомнить, что уже поздно, сестры закрылись в ванной, чтобы внимательно изучить в зеркале работу гримерши. О, как это было приятно – просто стоять рядом! Поверить невозможно, что за все каникулы они ни разу так не стояли.
– Ты выглядишь потрясающе, – сказала Майя, придвинувшись к Нофар, чтобы лучше ее видеть. – И говорила потрясающе. Я прямо горжусь тобой, горжусь, что я твоя сестра.
Нофар улыбнулась; Майя тоже. У нее была очень красивая улыбка. Даже когда она была еще совсем крохой, люди говорили, что ей надо сниматься в рекламе; они бы охотно купили все, что она предложит, – подгузники, стиральный порошок, дорогой кондиционер в кредит. Но Майя ничего такого никому не предлагала, и за это ее любили еще больше. Майя научилась чувствовать эту любовь до того, как сказала первое слово, и так к ней привыкла, что представить себе не могла, что когда-нибудь любовь исчезнет. Она была как восход и заход солнца; она была естественным ходом вещей. И поскольку Майя неустанно ждала эту любовь, та приходила к ней снова и снова. Так приходят утро и вечер. Они знают, что люди ждут, и не смеют их разочаровывать.
Когда Нофар уехала на интервью, Майя села перед телевизором и стала ждать. То и дело звонил телефон: ее приглашали повеселиться – но Майя всех отшивала. Ее старшая сестра скоро будет в новостях, и она должна это видеть. Она терпеливо слушала, пока дикторы говорили о коалиционном кризисе, позевывала, глядя на протесты оппозиции, и, когда лицо Нофар наконец-то появилось на экране, восторженно – мол, знай наших! – захлопала в ладоши. Но Нофар как в рот воды набрала, и сердце младшей сестры сжалось. Парализованная Нофар сидела в студии, а парализованная Майя смотрела на нее с дивана. Стыд, который она чувствовала за старшую сестру, был как физическая боль. И чем дольше Нофар молчала, тем невыносимее становилась эта боль. Майя уже накрыла лицо подушкой – только бы этого не видеть, – как вдруг сестра заговорила.
О, как красиво она говорила! Когда интервью закончилось, Майя немедленно растрезвонила об этом всем своим знакомым, но во рту после этого появился какой-то неприятный вкус. Сначала она его почти не ощущала, но через какое-то время почувствовала, что дыхание воняет кислятиной. Такого с Майей никогда раньше не случалось, и ей ничего не оставалось, как позвонить своему парню и сказать, чтобы он сегодня не приходил: она плохо себя чувствует. Майя снова и снова выдыхала воздух себе на ладонь – может, эта гадость уже исчезла? – однако та не исчезала. Наоборот: чем дольше Майя вспоминала сиявшее на экране лицо сестры, тем кислей становилось во рту.
Впрочем, когда Нофар вернулась домой и сестры отправились болтать в ванную, Майя перестала чувствовать странный вкус и решила, что он исчез навсегда.
* * *
Стояла ночь. На четвертом этаже лежал на спине Лави Маймон. Он уже пытался лежать на животе, потом – на боку, но все напрасно. C тех пор как шесть часов сорок одну минуту назад показали интервью, он не мог успокоиться. Какая она была красивая, когда рассказывала свою историю! Как блестели ее глаза, когда она говорила о выдуманном отборе в спецназ! А эта стекавшая у нее по щеке слеза! Лави ужасно захотелось высунуть язык и осторожно ее слизнуть, но это желание его напугало. Как и большинство мальчиков его возраста, он постоянно смотрел порно, но эта слеза и жгучее желание поймать ее языком показались Лави гораздо более неприличными, чем все, что он видел в кино для взрослых.
Он снова и снова прокручивал в голове вчерашние события – четырехминутное интервью казалось вечностью, – снова и снова вспоминая тот сладостный миг, когда девушка перебила ведущую, уже готовую перейти к следующему сюжету, и назвала его имя. Она про него не забыла! Она исполнила его просьбу! И хотя Лави знал, что не оставил ей другого выхода, это все равно потрясло его до глубины души.
* * *
Нофар проснулась, едва рассвело. Мебель в ее комнате была такой же, как всегда, но это ее почему-то удивило. Странно, что после вчерашнего ни стол, ни кровать, ни шкаф не поменялись местами. Нофар снова и снова возвращалась мыслями к интервью. Она вспоминала каждую секунду так подробно, проживала каждое мгновенье так остро, что четыре минуты превратились в четыре часа. В голове у нее стоял такой тарарам, что Нофар не слышала, как в соседней комнате бормочет во сне Майя.
Нофар вышла из комнаты в коридор. Она боялась повстречать кого-нибудь из домочадцев: казалось, если она встретится с ними глазами, чувство, которое она до сих пор подавляла, вырвется наружу. Но, придя в гостиную, Нофар увидела, что там никого нет. Только диваны, ковер да телевизор. Все – на своем месте, все – как обычно. Нофар взглянула на часы. Остальные проснутся не раньше чем через час. Целый час она может наслаждаться воспоминаниями о чудесном вчерашнем вечере. Так бывает всегда: когда ты одна, когда ты пребываешь на границе ночи и дня, мечты сильнее раскаяния, а желания берут верх над страхами – пока не взойдет солнце, не погрозит людям пальцем и не загонит мечты в их норы.
Но, сев на диван, Нофар почувствовала на себе чей-то взгляд. Со стены на нее уставился дедушка Элькана. Нофар отвела глаза и попыталась снова думать о чудесном вчерашнем интервью, но герой Войны за независимость продолжал сердито на нее смотреть. Да, в телестудии Нофар объявили героиней дня, но дедушка Элькана знал, что такое настоящий подвиг, – недаром его имя упоминалось на сто восемьдесят четвертой странице учебника истории, в третьем абзаце – и под пронзительным взглядом героя Нофар почувствовала себя жалкой блохой.
Родители рассказывали ей, что дедушка даже на скаку мог подстрелить вооруженного диверсанта из соседней деревни, однако молчали о том, что самой большой его любовью была земля. Элькана обожал ходить по полям босиком, обожал зимой чувствовать под ногами мягкую траву, а летом – ломкие колючки, обожал, когда его ноги целовали пьяные от ароматов весны сороконожки. Когда дедушка ложился спать, одна его нога всегда свешивалась с кровати – не только для того, чтобы он мог сразу вскочить по тревоге, но в первую очередь чтобы чувствовать спящую землю. Даже любовью с женой он занимался стоя – чтобы ни на миг не отрываться от своей настоящей возлюбленной. Он отказался обуться даже на собственную свадьбу и лишь на обрезании сына вынужден был изменить своему обычаю. Раввин, помнивший, что случилось на свадьбе, пригрозил, что откажется проводить обряд, если Элькана снова придет босиком. Жена умоляла его уступить, из глаз у нее потоком текли соленые слезы – и Элькана согласился, в первый и последний раз. Возможно, из страха, что соль повредит урожаю.
В его паспорте сотрудник иммиграционной службы записал «Эльканэ», но в кибуце чья-то озорная рука исправила имя на «Элькана», и с тех пор оно к нему прилипло. По ночам он охотился на коне за диверсантами и убивал их из ружья, а по утрам выходил в поле с двумя мотыгами – на случай, если одна устанет; тогда он сможет взять вместо нее ее подругу. Пока Элькана хранил верность земле, земля хранила верность Элькане, но после инсульта она к нему охладела. Охладела, как только жена посадила Элькану в кресло-каталку, накрыла его колени клетчатым пледом и поставила его ноги на подножку. Эта согбенная Далила отлично знала, что произойдет, когда ноги ее супруга оторвутся от земли. Если бы не коляска, он бы наверняка выздоровел. Ибо люди вроде Эльканы от инсульта не умирают: их либо смывает волной с пристани, либо испепеляет в поле молнией. Стоило разлучить ноги Эльканы с землей, как он стал чахнуть – и скончался спустя несколько дней.
Только одна просьба была у Эльканы в завещании, и она удивила всех членов кибуца, кроме одного, давно преставившегося. Элькана просил похоронить его как можно дальше от Дворкина.
До войны Элиягу Дворкин был закадычным другом Эльканы. Именно на груди у Дворкина Элькана плакал, когда жарким летним днем выгорел его участок поля. Именно рука Эльканы вытащила жеребенка, застрявшего в матке кобылы Дворкина и никак не желавшего ее покидать. Да и в том знаменитом штурме во время войны, том самом, благодаря которому Элькане уделили строчку на сто восемьдесят четвертой странице учебника, – участвовали они оба: Элькана – командиром, а Дворкин – замкомандира. Но хоть крепость на горе они захватили вместе – спустились с горы порознь. Дворкин был единственным, кто знал, что Элькана приказал отступить. Вокруг грохотали снаряды, и приказа больше никто не услышал, а если бы даже кто и услышал – не поверил бы. Ну не мог такой вояка испугаться в самый разгар сражения – и все тут.
Но факт остается фактом: он испугался. Земля у Эльканы под ногами была покрыта сосновыми иголками – сквозь этот ковер он ее почти не чувствовал. И он вдруг подумал, что, возможно, это их – его и земли – последнее свидание, а проклятые иголки не дают им соприкоснуться. Эта мысль наполнила Элькану таким ужасом, что рот его проревел: «Отступаем!» Какая, в конце концов, разница, кто победит, как назовут эту страну и какие имена дадут ее горам и долинам. Ведь имена не делают горы ни выше, ни ниже и не влияют на направление рек.
В десяти метрах от Эльканы стоял Дворкин, готовый передавать его приказы подчиненным, но, когда Элькана заревел: «Отступаем!» – Дворкина это совсем не удивило. Он уже давно подозревал, что любовь его друга к земле зашла слишком далеко. Он повернулся назад, к солдатам, и приказал: «В атаку!»
За ним самим они, может, и не пошли бы: Дворкин был ниже Эльканы на полторы головы и лишен его мощного магнетизма. Но, когда Дворкин отдал приказ, солдаты подумали, что он повторяет приказ Эльканы, и этого оказалось достаточно, чтобы они бросились на штурм. Когда же они бросились на штурм, то увлекли за собой и своего дрожавшего от страха командира. Лишь когда пустился в бегство последний вражеский солдат, его сердце снова забилось нормально. Но на сто восемьдесят четвертой странице об этом ничего не говорилось, и Нофар этого не знала. Впрочем, долг уважения к историческим фактам обязывает нас отметить, что шрам, украшавший руку дедушки Эльканы, был получен не в пылу атаки, а во время неудачной попытки бегства, предотвращенной его заместителем.
Элькана не хотел быть героем; он отказывался рассказывать про тот бой. Однако к нему приехал сам премьер-министр и, глядя на Элькану снизу вверх, отругал за подрыв морального духа нации. «Мы не спрашиваем тебя, хочешь ли ты быть героем; мы ставим тебя в известность, что ты герой, – сказал он и добавил: – Страшно даже представить себе, что будет, если каждый начнет сам решать, кем он хочет быть, а кем – нет». В конце концов, не каждая ложь – зло; есть ложь, без которой нельзя построить государство.
В ближайшие выходные приехал первый автобус с туристами, и Элькану попросили рассказать про крепость. Так и пошло. На выходных прибывали туристические группы, а в будние дни Элькана, как обычно, работал в поле. И лишь по ночам из дома Дворкина на другом конце кибуца до ушей Эльканы доносился отчетливый, разносящийся по всей долине, плывущий над землей и не затихающий шепот: «Лгууууун…»
Нофар смущенно стояла в гостиной перед фотографией. Первые лучи солнца поблескивали на застекленной рамке, придавая дедушкиной бороде еще большую солидность. Его пронзительные темные глаза безмолвно изучали внучку, и трудно сказать, из-за них ли девушка дрожала или из-за утренней прохлады, но, когда Нофар пошла на кухню, чтобы сделать себе чаю, ей почудился еле слышный глухой шепот: «Лгууууунья…»
Чувство вины приходит по-разному. Оно может выскочить из-за спины и вонзить в тебя когти, а может напасть спереди. Но вина Нофар вела себя, как персидская кошка: несколько секунд терлась о ноги, ненадолго усаживалась на груди – и уносилась прочь. Дольше ей задерживаться не хотелось. Двадцать долгих минут Нофар терзали угрызения совести. Еще немного – и она позвонила бы следователю с тонкими пальцами, позвонила бы – и во всем призналась. Но ее отпустило. Нет, этому человеку с его поганым ртом она ничего не должна!









































