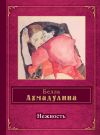Текст книги "Стихотворения"

Автор книги: Белла Ахмадулина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Ночь
Андрею Смирнову
Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а все руке недостаёт отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.
Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!
Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.
Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счёл достоинством своим.
Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.
Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.
Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.
Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.
Какая боль – под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!
Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?
Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.
Слово
«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.
В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.
И впрямь – в Перми живёт ребёнок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.
Как говорит ребёнок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погружённой в темноту,
была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объёма
всезнающего слова полноту?
О нет, во мне – то всхлип, то хрип, и снова
насущный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.
Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю – и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребённой,
мне странно знать, что есть в Перми ребёнок,
который слово выговорить мог.
Немота
Кто же был так силён и умён?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нём
рана черная в горле моём.
Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады – словари.
– О, воспой! – умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.
Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что ещё не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.
Вдохновенье – чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасёт ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.
Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.
А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.
Сумерки
Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? – неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далёкий мельк огня.
Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревах, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое – и живи.
Ошибкой зренья, заблужденьем духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.
Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,
где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.
Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут? —
Чьи кружева вступают в круг беды?
Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?
Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.
Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.
Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.
Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлёт свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.
Уроки музыки
Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя – как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотеченье звука.
Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вкруг головы окружность.
Марина, это всё – для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.
«Четверть века, Марина, тому…»
Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.
Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.
Две бессмыслицы – мёртв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.
И усильем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.
Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?
Как любила! Возможно ли злей?
Без прощения, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.
Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.
Биографическая справка
Всё началось далёкою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.
Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха – непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.
Да и за что любить её, кому?
Полюбит ли мышиный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?
И тот изящный звездочёт искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока ещё ни в чем не виноватых.
Мила ль ему незваная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?
В приют ее – меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?
Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.
Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.
Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал её, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.
Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захолустьем крыш,
провинцией её державной муки.
Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойдённым бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?
Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.
Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землёю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлёю.
Всего-то было – горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час – не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.
Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком – красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты – сильное чудовище, Марина.
Клянусь
Тем летним снимком на крыльце чужом
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящим из дому. Одета
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и горя.
Тем снимком. Слабым остриём локтей
ребенка с удивлённою улыбкой,
которой смерть влечёт к себе детей
и украшает их черты уликой.
Тяжёлой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.
Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты – чужое, ты – нельзя,
ты – Богово, тебя у Бога мало.
Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.
Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.
Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,
старухи будут их стращать в ночи,
что нет её, что нет её, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет елабуга слепая».
О, как она всей путаницей ног.
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца её без приговора.
Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей – и продержать подольше.
Детёнышей её зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.
В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининого смертного бездомья.
И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня елабуга клянется.
Снегопад
Булату Окуджаве
Снегопад свое действие начал
и ещё до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.
Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.
Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.
На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села́, а вселенной
ты участник и бедный должник.
Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.
Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.
Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опрометчиво медлит душа.
Метель
Борису Пастернаку
Февраль – любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.
И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берёт себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.
Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти дерева и дачи
так близко принимал к уму.
Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.
Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своём.
И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь…»
Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.
Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.
Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.
Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.
В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний, – за всё я отыграюсь.
Не наглость ли – при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело навек во мне очнутся.
Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.
Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?
Строка
Дорога, не скажу, куда…
Анна Ахматова
Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель – вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стеснённых, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа, —
исторгнут, близится, и вот
донёсся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«Дорога, не скажу, куда…»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знанья,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовём.
Семья и быт
Ане
Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.
В наш узкий круг щенок
был приглашён для счастья.
А котёнок
не столько зван был, сколько одинок.
С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шёл сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.
Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!
Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице – мы отойдём и ждём.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.
Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!
Старейшина в беспечном хороводе.
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.
Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.
Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказало: – Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.
И впрямь – прости, любая жизнь живая!
Твою, в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.
Витает, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.
Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идём во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.
Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.
Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».
Заклинание
Не плачьте обо мне – я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.
Это я…
Е. Ю. и В. М. Россельс
Это я – в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа – это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою…» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей перекличку
с именующей вещи душой.
Это я – мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести её вязью пера.
– Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шелест и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несётся,
вот настиг – и озябла душа.
Это я проклинаю и плачу.
Смотрит в щели людская молва.
Мне с небес диктовали задачу —
я её разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письмена —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Как друг с другом прохожие схожи.
Нам пора, лишь подует зима,
на раздумья о детской одёже
обратить вдохновенье ума.
Это я – человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, покуда идёт электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава Богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моём и на их языке.
Рисунок
Борису Мессереру
Рисую женщину в лиловом.
Какое благо – рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпеньем новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?
В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
всё ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?
Воспоминание о Ялте
Булату Окуджаве
В тот день случился праздник на земле.
Для ликованья все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоёма.
Ещё и тем был сон воды храним,
что, намертво рождён из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.
Мы были с ним недальняя родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.
Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.
Любовью жёгся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.
И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.
В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.
Так я сидела – при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?