Текст книги "Если бы Пушкин…"
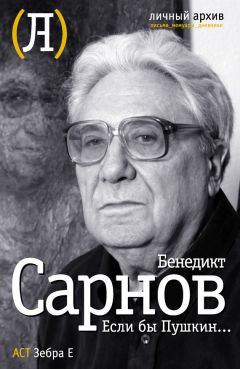
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
4
1 января 1936 года в «Известиях» появилось стихотворение Пастернака «Мне по душе строптивый норов…» (то самое, которое я упоминал в связи со статьей Аверинцева).
Имя Сталина в нем названо не было. Но портрет вождя там был дан (при всей индивидуальной неповторимости пастернаковского голоса) в лучших традициях придворной поэзии Востока:
А в эти дни на расстояньи,
За древней каменной стеной,
Живет не человек, – деянье,
Поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он – то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
Анализируя это стихотворение, С.С. Аверинцев, как мы помним, писал, что Пастернак предпринял в нем попытку «окликнуть с одного полюса мироздания – другой полюс». О попытке такой «переклички», а тем более диалога, в стихотворении речи нет. Но предположение исследователя возникло не на пустом месте. Строчкам о человеке, живущем «за древней каменной стеной», предшествуют другие, в которых поэт говорит о себе.
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе. Он отвык
От фраз и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг…
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он лавры, бросясь в бой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой. С самим собой.
Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь сквозным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
Он этого не домогался.
Он жил, как все. Случилось так,
Что годы плыли тем же галсом,
Как век, стоял его верстак.
Уже в этих – начальных – строчках содержится намек на некое сродство поэта и властителя: они оба – каждый по-своему – воплощают в себе некое историческое начало, вектор исторического процесса.
«Как век стоял его верстак», – говорит поэт об «артисте», в облике которого легко угадывается сам автор. И почти теми же словами – о Сталине: «Столетья так к нему привыкли, как к бою башни часовой».
И хотя поэт и ощущает свою малость в сравнении с человеком, каждый поступок которого «ростом с шар земной», но в то же время он утверждает и некое их равенство. Равенство, основанное на какой-то таинственной связи, существующей между этими двумя «полюсами мироздания»:
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
На первый взгляд, не совсем понятно, можем ли мы с уверенностью утверждать, что поэт («артист»), о котором идет тут речь – не кто иной, как сам автор: если он говорит о себе, то почему в третьем лице? Однако никаких сомнений в том, что Пастернак разумел тут именно себя, ни у кого никогда не возникало. Да он и сам не делал из этого тайны: прямо написал однажды, что в этом стихотворении «разумел Сталина и себя». И пояснил, что это была —
…искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон.
Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Том второй. Стр. 620
Как видим, мысль о Пастернаке и Сталине как о двух полюсах, двух крайних точках мироздания внушил своим интерпретаторам сам Пастернак. Но, в отличие от них, в его представлении эти два «крайние начала» не просто противостоят друг другу: между ними существует некая мистическая связь.
Строки о поэте, который «тяжелеет, словно губка, любою из его примет», как и приписка Пастернака к «письму товарищей» по поводу смерти Аллилуевой, содержат в себе некое – уже новое! – обещание. Они довольно прямо намекают на то, что поэт уже забеременел («тяжелеет») заданной ему темой, что цитируемое стихотворение – лишь первый подступ к ней: полное воплощение и разрешение этой грандиозной темы – впереди.
Тут Пастернак, быть может, и слегка лукавил. Но вера его «в знанье друг о друге предельно крайних двух начал» была искренней.
Примерно в это же время (в марте 1936) он обратился к Сталину с письмом, в котором благодарил его за освобождение мужа и сына Анны Ахматовой, которое приписал (не без оснований) своему заступничеству, а также за произнесенные Сталиным незадолго до этого знаменитые его слова о Маяковском, как «лучшем, талантливейшем» поэте эпохи. Начиналось это письмо так:
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.
И заканчивалось таким же намеком на таинственную, мистическую связь, существующую между ними, благодаря которой токи благодарности, или любви и преданности, или каких-либо иных чувств, обуревающих поэта, каким-то неведомым образом достигнут августейшего адресата даже и без посредства почты и телеграфа:
В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам… Косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.
Именем этой таинственности горячо любящий и преданный Вам Б. ПАСТЕРНАК.
Современному читателю, особенно молодому, это обращение к Сталину («Горячо любящий и преданный Вам») может показаться унизительным и даже лакейским. Но Пастернак, я думаю, был искренен.
Вот – запись в «Дневнике» К.И. Чуковского, помеченная 22 апреля 1936 года:
Вчера на съезде (это был съезд ВЛКСМ. – Б. С.) сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти. Сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали. «Часы, часы, он показал часы» – и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.
Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!»
Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью.
Даже если допустить, что в этом случае Борис Леонидович притворялся, подыгрывая Чуковскому (да и сам Чуковский мог быть не вполне искренен – это бурное обожание Сталина ведь было публичным и, так сказать, входило в правила игры, да и запись в «Дневнике» могла быть нарочитой, рассчитанной на то, что в «Дневник» нет-нет, да и заглянет чье-нибудь постороннее око), можно не сомневаться: Пастернак искренне верил, что между ним и «отцом народов» и в самом деле существует некое духовное сродство. Во всяком случае, он хотел надеяться, что Сталину тоже по душе «строптивый норов» художника, который честно говорит обо всех своих сомнениях и бореньях «с самим собой», а не просто льстит и рукоплещет носителю верховной власти, какой бы она, эта власть, ни была.
В чем же они состояли тогда – эти его сомнения и боренья?
5
Сверстник и пылкий поклонник Пастернака Николай Любимов в своих – недавно опубликованных – воспоминаниях о Борисе Леонидовиче рассказывает:
7 июня 1944 года… состоялся особый вечер – вечер «ранних стихов» Антокольского, Пастернака, Тихонова, Сельвинского…
Пастернак нарушил жанр вечера. Он прочел для проформы несколько широко известных ранних своих стихотворений, вроде: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», а затем, попросив позволения прочесть отрывки из новой вещи, прочел «Зарево», но, кажется, тогда он называл эту вещь «Отпускник». Поэма так и осталась незаконченной. Мне она тогда же показалась еще одним «скрипичным капричьо». Дополыхивает, дотлевает единственная в истории человечества война, война, тем именно и страшная и не похожая ни на какую другую, что она шла не только на фронте, с врагом подлинным, врагом внешним, но и в тылу, с крестьянами, с интеллигентами, с обывателями, а лучший поэт русской современности Борис Пастернак отделывается описанием бытовых и сердечных неурядиц у отпускника с восклицаниями, заимствованными из газетных передовиц:
А горизонты с перспективами!
А новизна народной роли!
Возвращаясь с «вечера ранних стихов», я поделился своими грустными впечатлениями с моим спутником Богословским:
– А ведь король-то гол! Ему нечего сказать о нашем страшном времени, хотя бы и при помощи эзопова языка.
Николай Вениаминович скрепя сердце вынужден был согласиться.
Николай Любимов. «Из книги «Неувядаемый цвет». Борис Пастернак», «Дружба народов», № 5, 1996
Далее автор воспоминаний откровенно признается, что по-настоящему полюбил Пастернака позже, когда узнал, что тот «вовлечен в круг христианских идей», даже еще позже, когда окончательно удостоверился, что «разговоры о христианстве Пастернака – разговоры не пустые и что он уже отдает себе полный отчет в том, какое тысячелетье теперь на нашем российском дворе».
При чтении «Рождественской звезды», – пишет он, – я пережил одно из тех редких потрясений, какие когда-либо вызывало у меня искусство слова.
А до того:
… я восхищался Пастернаком, но любить его не любил никогда, более того: я, читатель, был на него в обиде за игру в прятки с нашей грозной и грязной эпохой, отличающейся от других грозных и грязных эпох русской истории тем, что она так или иначе коснулась едва ли не каждого из нас, что почти никого из нас не обошла она своим кубом с отравленным вином… Я был на него в обиде, что он, при его-то даре, которым наградил его Господь Бог, не стал, не захотел стать властителем дум моего поколения.
Там же
Любовь – дело тонкое и сугубо индивидуальное. Как говорится, сердцу не прикажешь. Но в объяснении причин этой прежней нелюбви автора к поэзии Пастернака много неправды.
К эзопову языку Борис Леонидович и в самом деле никогда не прибегал. Но «какое тысячелетье» у нас на дворе знал всегда. И кое-что о «нашем страшном времени» сказал задолго до того как оказался «вовлечен в круг христианских идей». Во всяком случае, «в прятки с нашей грозной и грязной эпохой» он не играл никогда. На самой ее заре он высказался о ней так:
Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
«Высокая болезнь»
Кончалась, правда, эта его поэма (точнее, – «отрывок», как он сам ее назвал) вполне апологетическим портретом Ленина:
Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел…
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.
Процитированный отрывок впервые был опубликован в 1928 году.
В последующие годы отношение к Ленину у Пастернака, быть может, менялось. Но убеждение, выраженное в последних двух строчках («Он управлял теченьем мыслей и только потому – страной»), он сохранил надолго. (Если не навсегда.) Вот, например, что он говорил 10 февраля 1942 года А.К. Гладкову (за точность записи можно ручаться, автор воспоминаний был человек дотошный и реплики своих собеседников – в особенности таких, как Пастернак или Мейерхольд – записывал дословно):
– Обращали ли вы внимание на сходство языка Льва Толстого с языком Ленина? Когда Италия напала на Абиссинию, газеты напечатали отрывки из толстовского дневника времени первого нападения Италии на Абиссинию, в девяностых годах. Прочитав выдержки, я был буквально потрясен открывшимся мне сходством. Может быть, я и увлекаюсь, но мне дорого это сходство, удивительное по общности тона, по простоте расправы с благовидными и общепризнанными условностями. За этим сходством я вижу нечто глубоко русское, издавна родное – невиляющую верность фактам и правдивость, которая всегда сначала кажется чем-то несвоевременной.
Александр Гладков. Встречи с Пастернаком
На отношении Пастернака к Ленину тут надо было задержаться не только потому, что оно важно и само по себе, но еще и потому, что только на фоне этого отношения, по контрасту с ним, можно понять природу его отношения к Сталину.
Процитированный выше отрывок из поэмы «Высокая болезнь» заключают такие строки:
Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Строки эти не оставляют ни малейших сомнений насчет того, что он думал о Сталине в 1928 году.
Но есть и другие свидетельства того же свойства.
Три года спустя Пастернак написал и опубликовал стихотворение, представляющее собою прямой перифраз знаменитых пушкинских «Стансов»:
Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованье кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком…
………………………………..
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
Пушкин, как мы знаем, своими «Стансами» обращался к императору Николаю Павловичу. Выражал надежду, что «мятежи и казни» (восстание декабристов, пятеро повешенных на кронверке Петропавловской крепости) омрачили лишь начало славных дней Николаева царствования, а само царствование не будет таким мрачным.
Насчет того, к кому обращал, перефразируя Пушкина, свои надежды Борис Пастернак, не может быть ни малейших сомнений.
Но нетрудно при этом заметить, что начало сталинского «царствования» внушает Пастернаку куда меньше оптимистических надежд, чем начало Николаева царствования – Пушкину.
При всем очевидном и нарочито подчеркнутом оптимизме финала, при самом искреннем желании автора признать «величье» дня нынешнего, при столь же очевидном его намерении повторить применительно к новым обстоятельствам то, что столетье с лишним назад сказал Пушкин, стихи эти гораздо менее определенны, менее однозначны, чем пушкинские.
Пушкин прямо говорил, что в надежде славы и добра он глядит в будущее без страха.
Пастернак говорит совсем о другом. О том, что есть огромная сила в соблазне смотреть на вещи так, как смотрел Пушкин. Он говорит: я бы тоже хотел смотреть в будущее без боязни. О, как бы я хотел! Как это было бы хорошо, если бы я мог, подобно Пушкину, не считая это соблазном, глядеть в будущее без страха, верить и надеяться!
«Итак, вперед, не трепеща!» – это окрик, понукание самому себе. И это признание того, что в душе он трепещет, чувствуя, зная, что рано или поздно все кончится недобром.
Почему же все-таки так велик соблазн надеяться, что все будет к лучшему в этом лучшем из миров?
Прежде всего по извечной человеческой слабости. Той естественной и неодолимой слабости, которую Владислав Ходасевич назвал священной.
Свою статью о пророческом и потому извечно трагическом призвании русского писателя он закончил так:
И все-таки, если русским писателям должно и суждено гибнуть, то – как бы это сказать? Естественно, что каждый из них по священной человеческой слабости, вправе мечтать, чтобы чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к согражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным голосом все-таки говорил:
– Дорогие мои, я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки – может быть, вы согласитесь повременить? Мне еще хочется посмотреть на земное небо.
Владислав Ходасевич. «Кровавая пища»
Слабость эта действительно естественна и священна. Ведь даже тот, кто был послан на эту землю для того, чтобы принять страдание за весь род человеческий, даже он испытал в какой-то миг эту простую человеческую слабость и попросил, чтобы «чаша сия» его миновала.
Впоследствии Пастернак напишет стихи о человеке, знающем, что «неотвратим конец пути», и все-таки умоляющем: «чашу эту мимо пронеси». Нет, он не откажется от своей трагической миссии. Он скажет: я давно уже знаю, что мне предстоит, «и играть согласен эту роль». Он только попросит: «Но на этот раз меня уволь!» («Гамлет»).
Но все это будет позже, когда для надежд уже вовсе не останется места.
А пока еще только 1931 год. И он еще надеется. Вернее, хочет надеяться.
Впрочем, кроме великого этого соблазна, был еще один мощный стимул, властно побуждавший его предпринять эту отчаянную попытку: изменить свой взгляд на действительность.
Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу, и один только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно, если «рота» эта – 160-миллионный народ.
Очень мучительно ощущать свое социальное одиночество, очень болезненно это чувство отщепенчества, даже если в основе его лежит прозорливость, ощущение безусловного знания истины.
Очень естественно для нормального здорового сознания хотеть – «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком».
Пастернак мучительно переживал свою несхожесть «со всеми», ощущал ее как некую недостаточность, как непоправимое, причиняющее страдание уродство:
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.
«Высокая болезнь»
Надежда на то, что несхожесть его «со всеми», эта доставлявшая ему столько страданий проклятая его странность, – что она, в сущности, сродни странностям века, – эта наивная и трогательная надежда с особенной силой охватила его и завладела его душой в день трагической гибели Маяковского:
Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.
Вдруг внизу под окном мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая, она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней, у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.
И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был собственно этому гражданству едва ли не единственным гражданином. Именно у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состояниям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу.
Борис Пастернак. «Охранная грамота»
Ему хотелось думать, что и своими собственными странностями он был тоже странен «странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными». Но «век в своей красе» («век-волкодав», как в это же самое время назвал его Мандельштам) уже показал свои железные зубы. И захватившая его иллюзия своей сродности с этим веком не могла длиться долго.
Оставалась другая возможность: сознавая неспособность стать таким «как все», ощутить эту свою «странность» как некую избранность.
Но это сознание своего избранничества появилось у него гораздо позже. А тогда, в 1931 году, Пастернак не столько утверждал свою правоту, сколько оправдывался:
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой?
И с тем, что всякой косности косней?
Перед кем он оправдывался? Уж конечно, не перед теми, кто мог заподозрить его в нелояльности, в недопустимом для советского человека пренебрежении к всенародному обязательству выполнить пятилетку в четыре года.
Он оправдывался, пытаясь доказать всем, и прежде всего самому себе, что, раздираясь противоречиями, он озабочен соображениями высшей, мировой справедливости. Он убеждал себя, что некий нравственный закон, управляющий его душой, велит ему отказаться от себя, дабы «счастье сотен тысяч» предпочесть положенному на другую чашу весов «пустому счастью ста».
Когда-то, давным-давно, Мандельштам написал, что поэт ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это, – говорил он, -
…непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты.
О. Мандельштам. «О собеседнике», 1913
Пастернак оправдывался, и это значит, что у него не было тогда сознания своей правоты, которое Мандельштам полагал главной прерогативой поэта.
Это сознание пришло к нему позже: в начале 40-х. Окончательно оно завладело им в послевоенные годы. И, как это часто случалось с русскими писателями, не просто завладело, но трансформировалось в представление о великой миссии, предназначенной ему судьбой. Миссии, едва ли не мессианской.
Следствием, прямым результатом этого его нового сознания явился замысел романа «Доктор Живаго».









































