Текст книги "Жребий викинга"
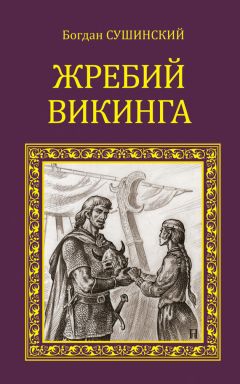
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
10
– Остановите же их! – не приказала, но и не попросила, а как бы невольно простонала королева Астризесс.
– Эй, скитальцы морские, остановитесь! – прокричал начальник охраны во всю мощь своей гортани, чувствуя, что ритуал приближается к развязке. – У Ладьи Одина стоит королева!
Воины уже заметили королеву и безропотно притихли, слабо представляя себе, что, собственно, может зависеть от них, в чем должно проявляться их повиновение? И должны ли они повиноваться в эти минуты королеве? Тем более что тут же последовало желчное замечание жреца:
– Кому в этой стране неизвестно, что даже король не вправе отменять волю жребия викинга? Бывшая королева уже позволяет себе забыть об этом?
– Конунг Гуннар, – не стала вступать в полемику с ним Римлянка, – неужели кто-то решится убить этого воина в присутствии королевы?
Гуннар ступил несколько шагов в сторону возвышенности, на которой стояла Астризесс, постоял в раздумье и сделал еще несколько шагов. Теперь он стоял почти у ног королевы, и они могли беседовать так, и жрец их не слышал.
– В вашем присутствии жрец вряд ли решится совершить этот кровавый ритуал, королева, – объяснил конунг, – но ведь не собираетесь же вы стоять здесь вечно?
– Хотите сказать, что моего слова будет недостаточно?
– Не уверен, что жрец подчинился бы сейчас даже воле короля. Свергнутого, – тут же уточнил Гуннар Воитель, – короля. Если бы с вами был хотя бы епископ, королевский духовник…
– К сожалению, королевского духовника с нами нет, – вполголоса признала Римлянка, обращаясь к начальнику охраны и к принцу.
– Да, с нами действительно нет духовника, кхир-га-га! – не поддался ее страхам телохранитель Льот. Ржание его, как всегда, оказалось некстати, однако на сей раз и жрецу, и Гуннару Воителю оно показалось еще и по-идиотски вызывающим.
– Но все-таки вы можете спасти его, – тронул Астризесс за рукав куртки юный рыцарь Гаральд. – Ведь вы же королева. А это – Бьярн Кровавая Секира, тот самый, который учил меня сражаться на боевых секирах.
Римлянка встретилась взглядом с конунгом, однако тот решительно покачал головой. «Даже не пытайтесь, королева!» – вычитала она в этом упреждающем знаке преданного ей конунга. И тут же услышала:
– Это ритуал, которому каждый воин подвергается добровольно. Любой из них мог отказаться от участия в метании жребия.
– В самом деле, они ведь не карают его, а милуют жертвенной честью, – неуверенно ухватилась за эту подсказку Астризесс.
– Но ведь так или иначе – убивают, – возразил Гаральд. И тут уж оправдать кровожадность жреца и его приверженцев Астризесс была бессильна.
Как и конунг Гуннар, она прекрасно понимала, в какую опасную западню раскола королевской дружины способен заманить жрец, отказавшись подчиниться ее распоряжению. У короля и так слишком мало воинов, чтобы, спасая одного из них, добровольно принявшего участие в ритуальной жеребьевке, потерять несколько десятков.
– С нами нет духовника, которому подвластны все высшие силы христианства, – сокрушенно покачала она головой. – А с ними – жрец. И воины все еще чтят его как жреца.
Астризесс проговорила все это вполголоса, но так, чтобы могли слышать и Гаральд, и Гладиатор. Она опасалась, как бы вспыльчивый рыцарь-римлянин не потребовал отменить ритуал, что неминуемо привело бы к стычке.
– Но ведь вы – королева! – с наивным удивлением воскликнул Гаральд, и это был возглас подростка, который разочаровывался в той, которую еще несколько минут назад готов был обожествлять.
Ничего не ответив, королева спустилась с возвышенности и пошла к Жертвенному лугу.
– Вы же действительно королева, кхир-гар-га! – поспешил вслед за ней Льот. – Этот парнишка прав.
Воины расступились и впустили королеву со свитой в свой круг, который тотчас же пугающе сомкнулся, грозно и молчаливо. Словно предупреждал, что каждый, кто ступает на Жертвенный луг, сам неминуемо становится участником его ритуального действа.
– Мы зря теряем время, Астризесс, – воинственно напомнил ей жрец, и все поняли, что в данном случае Торлейф толкует не столько о реально потерянном времени, сколько о том, что случается с людьми, мешающими викингам совершать один из самых древних и почитаемых ими обрядов. Тех ритуальных обрядов, которые отличают их, норманнов, от франков, угров, византийцев и множества иных народов. – Да, в сути своей обряд довольно жестокий, но в то же время он святой и праведный. Святой уже хотя бы потому, что является обычаем предков.
– Но эти воины приняли крещение, – напомнила ему Астризесс, – а христиане не могут позволять себе подобные языческие ритуалы. К тому же вы, как жрец язычников, уже давно не имеете права повелевать ими.
– Вас, шведку, не удивляет, что ничего подобного я ни разу не слышал от своего короля-норманна? – парировал Торлейф.
– Могу ли я быть уверена в том, что не слышали? – пожала плечами Астризесс.
– Мы ведь не раз беседовали с королем в вашем присутствии. Причем я ни разу не приходил к королю в роли просителя, это король всегда выступал в этой роли, чтобы дождаться от меня помощи в подчинении себе того или иного норманнского племени.
Астризесс понимала, что жрец прав: Олаф всегда заискивал перед ним. Раньше она не придавала этому какого-то особого значения, понимая, что так надо для усиления королевской власти. Но сегодня напоминание о слабостях короля явно задевало ее самолюбие. Тем более что происходило это унижение на глазах у королевской дружины.
Жрец, безусловно, понял ее состояние, но не стал окончательно загонять в словесную ловушку, наоборот, речь его вдруг приобрела какие-то покровительственно-отцовские оттенки.
– Идя в чужие земли, – голосом наставника поучал он королеву-чужеземку, – норвежские викинги не могут поднять паруса, пока не принесут жертву Одину и не поклонятся этой жертвой богу морских стихий и дальних странников Тору.
– Викинги не могут поднять паруса, кхир-гар-га! – сверкающий на солнце панцирь бездумного рубаки Льота едва удерживал под собой порывы его непомерно широкой, округлой, словно громадная, до предела натянутая тетива лука, груди.
Ржущий Конь никогда особо не заботился о том, кем и как будет воспринято его «ржание». Этот бесстрашный воин всегда считал, что мир значительно проще, нежели люди представляют его себе. Во всяком случае, свое собственное бытие в этом прекрасном мире он давно разделил на две одинаково желанные части: когда ему приказано рубить врага и когда позволено пить пиво и объедаться в ожидании нового приказа рубить всякого, на кого укажет король. Тому и другому храбрый, удачливый рубака Льот всегда подчинялся с огромным удовольствием.
А еще с таким же удовольствием подсмеивался над всем, что в этом мире было праведно и неправедно, что способно было вызывать гнев или восторг. Стоит ли с такой чувственностью воспринимать этот мир, в котором всегда есть возможность для того, чтобы пировать, сражаться с врагами и снова пировать? И никто уже не смог бы установить сейчас, когда и каким образом Льот завоевал себе это странное право – воспринимать мир так, словно он специально сотворен был для людей, не способных понимать ни сущности его, ни предназначения. Но каким-то образом он это право все же завоевал!
– Вам хорошо известно, жрец Торлейф, что «гонца к Одину» предки наши посылали только тогда, когда отправлялись на поиски новых земель, – решила прибегнуть королева к последнему, известному ей аргументу. – Когда они уходили в неизведанные моря, не зная, куда именно боги приведут их челны.
Это был очень сильный аргумент. По тому ропоту, который прокатился по рядам воинов, нетрудно было догадаться, что для многих из них это уточнение оказалось полной неожиданностью. С этим же ропотом на устах они уставились на жреца, требуя – пусть пока еще только мысленно – разъяснений.
– А разве теперь мы не отправляемся на поиски новой земли, которая бы приняла нас? – указал Божий Меч на открывавшуюся в конце фьорда синеву моря. – И разве кто-нибудь, пусть даже сам конунг Олаф, – указал он в сторону далекого кряжистого мыса, за которым, в большом фьорде, притаилась эскадра судов короля-изгнанника, – способен предсказать, в какой земле нас примут и где Один и Тор повелят оставить свои челны?
– Жрец тоже прав, – молвил кто-то в толпе воинов. И хотя произнесены были эти слова негромко, но все же произнесены. И они были услышаны.
Бьярн тут же отыскал жадным взглядом этого воина и признал в нем Ольгера Хромого. Это был непревзойденный метатель боевых топориков, которыми перед каждым боем он обвешивался, как африканец – пальмовыми листьями, но, из-за своей ущербной увечности, обычно предпочитавший отмалчиваться.
– Что ж, по-твоему, получается, что они оба правы? – язвительно поинтересовался у Хромого викинг Вефф, известный своей дотошностью. Тот самый северянин Вефф Лучник, который обычно позволял себе оспаривать даже то, что, при здравом уме, никакому оспариванию не подлежало.
– Выходит, что так, – уперся Хромой огромными волосатыми ручищами в лезвия своих топориков.
– Но все мы теперь христиане, – вмешался Туллиан, начальник охраны королевы. – Гоже ли нам, подобно поганым язычникам, приносить в жертву мертвым идолам лучшего из наших воинов?
– Вот и я, жрец, хочу спросить тебя о том же, – неожиданно поддержал римлянина конунг Гуннар.
– В жертву лучшего из воинов, кхир-гар-га! – потряс рыжими космами Льот. И, возможно, это был первый случай в жизни Ржущего Коня, когда ржание его показалось королеве во благо.
11
Дамиан направился в свою келью, где его ждала «Большая книга пророчеств» с двадцатью записанными им пророчествами. А еще этот фолиант хранил предсказания разных странников, а также паломников ко Гробу Господнему да озаренных благостными видениями юродивых.
Как-то Прокопий заметил, что Дамиан обладает удивительной способностью: даже через два-три дня он почти дословно воспроизводил услышанные им рассказы, полемику ученых мужей или главы прочитанной накануне книжки. Он-то и подсказал Дамиану, как, создавая собственную книгу пересказов и предсказаний, употребить этот свой редкий дар во церковную благость.
Однако Дамиана почему-то не привлекали ни поучения, ни рассказы знатных дружинников, купцов и варягов, благодаря которым можно было бы составить летопись или еще одно, мудрено осмысленное, житие святых. Единственное, что его по-настоящему увлекало, – это познание всевозможных пророчеств. Возможно, потому и увлекало, что сам Дамиан тоже пытался прибегать к ним, постигать их природу и силу, истоки и предназначение.
Время от времени он даже пытался предсказывать исход тех или иных событий, поступки людей и их судьбы. Однако не стеснялся признаться себе, что силы пророческие так до сих пор и не удостоили его ни единым сколько-нибудь серьезным предвидением. Вот и сейчас он намеревался внести в эту книгу пророчество юродивого странника Никония. При этом инок не собирался ни оценивать его видения, ни выверять на какие-то житейские реалии. Его делом было – записать, сохранить, донести до грядущих поколений. В этом он видел свое высшее призвание и предназначение, свой монашеский крест.
Вот и сейчас, когда юродствующий странник Никоний умолк, слова его все еще жили в памяти Дамиана, все еще пульсировали в его сознании. Монах-книжник даже мог воспроизвести их с теми же интонациями, с какими произносил «придворный» юродивый. Единственное, чего инок не мог понять, – откуда все эти вещие знания приходят к юродивому. Сам Дамиан знал: все, что лично он сумел постичь, было «посеяно» в него книжной мудростью, древними былинами, которые напевали гусляры, и просто живым человеческим словом. А вот кто является тем сеятелем мудрости провидческой, которая снисходит на юродивого Никония? Неужели сам Создатель?!
Нет, в это Дамиан верить отказывался. На земле хватает ученейших слуг Божьих: от патриарха Константинопольского и папы римского – до теологов и монахов-книжников, благодаря которым Господь может доносить до простых смертных волю свою. Так зачем ему прибегать к посредничеству юродивых? В чем здесь высший смысл? Но в то же время кто еще, кроме Создателя, способен знать, чтó всех, на земле сущих, ждет не только завтра, но и через множество лет?!
Сколько монах ни бился над тем, чтобы понять этот замысел Господний, однако приблизиться к его разгадке так и не сумел. Дамиан, конечно, мог бы философски одернуть себя, заявив, что замысел потому и зовется Господним, что простому смертному понять его не дано. Однако это было слишком упрощенно. Во-первых, Дамиан уже давно простым смертным себя не считал, а во-вторых, он не принадлежал к тем монахам, которые собственное скудоумие легко привыкли списывать на Божью заумь.
Много раз потом, уже после приступов-видений Никония, инок пытался поговорить с юродивым, выпытать, как именно являются ему те видения, которые он, войдя в раж, так пространно описывал. Причем интересовало книжника буквально все: кто и как эти словеса пророческие нашептывает, какие химеры посещают странника в минуты подобного «бесовства»? Но всякий раз Никоний лишь непонимающе смотрел на него широко открытыми глазами беспамятства.
Еще не успев ни полностью впасть в свое юродство, ни окончательно отречься от мудрости пророка, он, тем не менее, не способен был не только объяснить свои предсказания, но даже повторить их. Мало того, порой Никоний вообще отказывался верить, что произносил нечто подобное. Вот и получалось, что в большинстве случаев только он, Дамиан, оставался единственным в этом мире, кто способен был если уж не истолковать, то по крайней мере словесно воспроизвести видения юродивого. Так, может быть, в этом и заключалась та, высшая, его, монаха-книжника, миссия на земле, о которой еще недавно так пространно говорил прибившийся к Киеву вместе с купеческим обозом некий буддистский лама?
Причем странность этого единения пишущего монаха и «всезрящего» юродивого как раз в том и заключалась, что само появление рядом Дамиана в большинстве случаев провоцировало пророческие приступы юродивого. Причем первым обратил внимание на эту странность книжник Прокопий, человек очень проницательный.
Юродивый словно бы знал: если рядом инок Дамиан, значит, предсказания его будут старательно описаны и книжно увековечены. Так, может быть, действительно знал это, а значит, умышленно вгонял себя в провидческий экстаз? Однако, задавшись этим вопросом, Дамиан тут же впал в еще одну догадку: «А что, если ради такого увековечивания брат Прокопий и надоумил тебя взяться за составление “Большой книги пророчеств”? Не зря же и сам он частенько позволял себе заглядывать в нее, причем главным образом тогда, когда меня нет в келье?»
Выйдя из монашеской обители, в которой располагалась келья переписчика, Дамиан вновь увидел юродивого. Обеими руками подергивая за концы висевшей на нем шкуры, Никоний неистово отплясывал босыми ногами на каменистом участке подворья и блаженно хохотал, время от времени выкрикивая: «Все сгорит! Здесь все-все вокруг в огне сгорит! Накормите Никония! Все – в невидимом сатанинском огне! Здесь все сгорит в огневице сатанинской! Накормите Никония!» Причем выкрикивал эти слова юродивый так, что трудно было понять: зависело ли это сожжение от того, накормят его сейчас или нет.
Дамиан на несколько минут задержался возле юродивого, выжидая, когда на того найдет просветление. Он хотел пригласить юродивого в свою келью и еще раз поговорить с ним. Однако время шло, а юродивый, казалось, не только не собирался входить в обыденное людское сознание, но еще больше впадал в транс: «Все сгорит в огне сатанинском незримом: Киев, храмы, леса; все живое сгорит в этом огне невидимом!».
Однако теперь юродивый повторял все это с такой жизнерадостностью и настолько вдохновенно, что, поддавшись гипнотическому влиянию его голоса, Дамиан и сам вдруг, грешным делом, подумал: а может, это было бы к лучшему, если бы все это – и монастырь, и все, что с ним связано – вдруг исчезло бы в огне?! Возможно, тогда, наконец, сбылась бы его тайнозаветная мечта – отправиться в Византию, к святыням восточного христианства? Чтобы, отмолив грехи, странствовать еще дальше – в Египет, в Венецию, в земли Священной Римской империи? Если бы буддистский лама-странник знал, как искренне он завидовал ему!
Устыдившись и молитвенно убоявшись грешной мысли, касающейся судьбы стольного града, Дамиан настороженно осмотрелся, словно испугавшись, что кто-то из монахов окажется посвященным в коварные замыслы его, и, махнув на юродивого рукой, – придет время монастырской трапезы, и его накормят, – решительно направился в монастырскую библиотеку. Но именно тогда он вдруг услышал вполне трезвый и даже слегка ироничный голос Никония:
– Не торопись, Дамиан! Тебе ведь очень хотелось поговорить со мной!
Оглянувшись, монах встретился со спокойным, вполне осознанным взглядом юродивого.
– И ты уже готов к этому разговору?
– А ты к нему готов? – парировал странник, забыв на время об ипостаси юродивого.
– Иначе не спрашивал бы о том, о чем спрашивал уже не раз.
– От сомнений своих бежишь, книжник, от сомнений. Если велишь монастырскому трапезнику дать мне хоть что-нибудь поесть, можем еще о многом поговорить.
– Так бы и просил: «Накормите меня!» – а то кликушествуешь тут полдня кряду: «Накормите Никония! Накормите Никония!»
– Так ведь забываете порой, что юродивые тоже не Духом Божьим, но хлебом святым питаются.
Услышав это, книжник победно ухмыльнулся: наконец-то странник перестал юродствовать и предстал таким, каков он есть на самом деле. Наверное, Дамиан так и утвердился бы во мнении, что все, что этот странник до сих пор демонстрировал, на самом деле является притворным юродствованием, если бы вдруг не вспомнил о диковинной пляске этого «лицедея» на горячей плите, после которой на ногах юродивого никаких видимых следов ожога не осталось.
12
…Оказывается, мы с вами – всего лишь странники, бредущие по ниве жизни, во (и вне) времени, в котором, между прошлым и будущим, в одночасье все давным-давно и «посеяно», и «скошено».
Богдан Сушинский
Вновь поразившись умению Никония ступать по горячему железу, монах-книжник недоверчиво посмотрел на него, кивнул, и несколько минут спустя перед юродствующим странником лежала краюха ржаной лепешки, а рядом стояла кружка с квасом и мисочка с сушеными яблоками. Странник смотрел на все это с таким восторженным вожделением, словно его усадили за стол с королевскими яствами.
– Так ты, брат Никоний, что, в самом деле юродивый или всего лишь юродствующий? – как можно вежливее поинтересовался Дамиан.
– Все мы юродствуем во Христе, – беззаботно объяснил странник, принимаясь за еду. – И те, кто сотворяет библейские мифы о грешнорожденном иудее Изе Христе, и те, что теперь поклоняются Ему, Яко Богу, – все юродствуют. Но истинное юродство дается нам, смертным, так же редко и скупо, как и всякий другой дар Божий.
– Ты считаешь это даром Божьим?! – изумился книжник.
– Причем великим.
– А все эти видения?..
– Что… видения? – неохотно переспросил странник, будто бы ожидал, что Дамиан откажется от своего любопытства.
– Они действительно являются тебе, или, может, это всего лишь лицедейское юродствование?
– Являются, монах, являются. И что странно: нигде столько видений не явилось мне, как здесь, в Киеве.
– Чем же объясняешь это?
– Места здесь, наверное, какие-то богоотступные.
– Почему вдруг… богоотступные?
– Потому что в том мире, который отведен богами, зреть нам дано только то, что глазами нашими зримо. Но есть такие места, в которых юродивые, вроде меня, одновременно зрят минувшее и будущее. Словно туман какой-то находит или бред из-за хвори страшной, и тогда такое является, о чем и рассказать некому.
– И что же является такого, о чем обычно не рассказываешь?
– Города какие-то чудные восстают, с домами, как три собора монастырские в высоту; повозки безлошадные да птицы, кузнецами земными из железа творимые.
Закрыв глаза, книжник недоверчиво покачал головой. Он попытался представить все это, но так и не смог.
– И что, – поинтересовался у юродивого, – Киев тоже видел таким, каким быть ему суждено?
– Именно здесь, на холмах киевских, все и является. Очевидно, таким он когда-то и будет, Киев наш.
Дамиан проглотил голодную слюну – чувство голода преследовало его молодое крепкое тело всегда и неотступно – и, стараясь не смотреть на еду и едока, спросил:
– Почему ты зришь прошлое, это еще как-то можно понять: оно уже было, а все, что вокруг нас, имеет свою память – деревья, скалы, реки, храмы…
– Верно, все имеет свою память, – признал Никоний, – да только мы, юродивые, познаем прошлое не по этой их памяти.
– По чьей же?
Странник пожал плечами и надолго умолк, неспешно, расчетливо дары монастырские поедая.
– Очевидно, по какой-то внеземной, по возвышенной, небесной памяти, – изрек, наконец, странник то, что и самому ему далось с великим трудом.
– Пусть так. Главное, что узнаешь об этом все-таки из чьей-то памяти. Но как можно видеть то, чего еще никогда не было, что еще только должно произойти, – это объяснить сподобишься?
– А если оно, будущее это, уже было?
Дамиан снисходительно улыбнулся и покачал головой:
– Это значит, что и внуки, правнуки, сотни поколений потомков наших – уже когда-то были?! Тогда кто мы с тобой такие? Почему между прошлым и будущим Господь избрал именно нас? И то, что мы с тобой зрим сейчас, странник, это принадлежит чему – прошлому нашему или будущему?
– Мы – всего лишь странники, бредущие по ниве жизни, на которой давно уже все, в одночасье, и посеяно, и скошено.
– Мудрено говоришь.
– Наоборот, стараюсь очень просто говорить о том, что в мире этом слишком мудрено, не по уму нашему скудному, сотворяется.
Дамиан проследил за тем, как странник сметает со стола себе на ладонь хлебные крошки, и вновь решительно покачал головой.
– Не знаю, кто ты, Никоний, но только никакой ты не юродивый.
– Кто же я, по-твоему?
– Этого я пока что не ведаю.
– Потому меня и юродивым считают, что никто не способен понять, кто же я на самом деле, – слишком рассудительно для юродивого объяснил странник.
– Сам ты это понял?
– Нет, – нервно помотал головой Никоний. – И теперь уже даже не пытаюсь понять. Не дано мне сие, не дано.
Тут бы ему самое время было перекреститься, однако странник не сделал этого, заставив монаха вспомнить, что он вообще ни разу не видел юродивого ни крестящимся, ни молящимся.
– Во Христа ты хотя бы веруешь? Ты о Нем недавно говорил не как о Боге, а как о грешном иудее.
– В Бога верую, во Христа – нет.
– Христос разве не Бог?
– Никогда не был им и никогда не будет. Всего лишь один из иудейских проповедников. И тебе, монаху-книжнику, ведомо сие не хуже меня.
Дамиан встревоженно взглянул на приблизившуюся к ним княжну Елизавету. Не хотелось ему, чтобы эта юная, безгрешная пока что душа присутствовала при их богонеугодных диспутах.
– Как могло случиться, что в присутствии князя посланнику германского императора ты пророчествовал на германском языке и легко понимал то, что другие иноземцы говорят на латыни и на французском? Уж не в Римском ли университете являлись тебе первые видения, странник ты наш?
– Не в Римском, – решительно заявил юродивый, а затем, выдержав небольшую паузу, уточнил: – В Падуанском, науками своими не менее Римского университета, славном, – почтительно склонил голову Никоний. – Многие спудеи[26]26
Спудеями на Руси книжники называли студентов.
[Закрыть] которого за ересь свою в странах латинской веры уже то ли камнями забиты, то ли на костры ведемские взошли.
– Так вот оно что! – многозначительно произнес монах, давая понять, что сведения об образованности юродивого совершенно меняют его представления о нем самом как о личности. – Значит, Падуанский университет… Говорят, юродивых там, в латинской вере, вроде бы не жалуют?
– Именно потому по душе мне, в Галиче славном родившемуся, земли нашей, восточной, вера, где до костров и избиений дело доходит редко и где юродивых всегда – то ли из жалости, то ли из страха перед ними, чтили. А может, чтили от непонимания того, почему эти люди становятся такими, каковыми их делает Божья миссия на земле. Та, особая миссия…
Забыв о воспитываемой в себе монашеской невозмутимости, Дамиан въедливо поинтересовался:
– В таком случае позволь узнать, какова же у вас, у юродивых, эта «особая Божья миссия на земле»?
– Вот именно, какова она? – неожиданно вторглась в их полемику юная княжна, не нарушив, однако, ее накала.
И тут Никоний произнес слова, которые заставили богочтимого монаха вздрогнуть.
– Земная, а значит, и Божья миссия юродивых в том и состоит, что велено им напоминать всем вам, книжникам: для того, чтобы постичь высшую мудрость мира сего, нужно впасть в такую непостижимую для церковных каноников ересь, после которой все несведущие в ней должны признать себя юродивыми. Ибо сам мир этот создан вовсе не по церковным канонам и не для церковного сознания.
– Уж не хочешь ли ты сказать, – вполголоса проговорил Дамиан, – что он создан юродивым и для юродивых? – сурово взглянул он в глаза странника.
– Да, уж не хочешь ли ты сказать этим – что юродивым и для юродивых? – повторила Елизавета вопрос Дамиана, теперь уже считая себя полноправным участником их еретического диспута.
– А разве весь этот мир – с его бесконечными войнами, казнями, религиозной враждой, межплеменной резней и всем прочим – можно принять как нормальный мир человеческого бытия, не впадая при этом в юродствование?
…Позднее, значительно позднее, когда жизнь начала представать перед ней во всем хаосе своего несовершенства, княжна Елизавета не раз обращалась к этому утверждению юродствующего странника Никония, всякий раз открывая для себя все больше свидетельств неправедной правоты его.









































