Текст книги "Форпост"
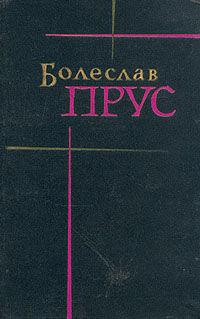
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мацек, как и следовало смиренному батраку, тотчас исчез в глубине конюшни. Но когда во дворе все затихло, он развлечения ради стал воображать, будто он сам напился пьяным.
– Здесь буду спать, – бормотал он, подражая Слимаку. – Теперь я тут хозяин…
Потом он вообразил себя старостой, опустился на колени возле своей убогой постели и заговорил с ней растроганным голосом, совсем как староста со Слимаком:
– Вставай, брат, не озорничай, а то нам обоим будет худо…
Чтобы больше походить на Гроховского, он силился заплакать. Вначале ничего не получалось, но как пришло ему на ум, что нога-то у него перешиблена и что разнесчастней его и не сыщашь на свете, что хозяйка даже рюмки водки ему не дала, Мацек залился самыми настоящими слезами. Так и уснул он, заплаканный, на своей подстилке, как дитя у матери на коленях.
Около полуночи Слимак очнулся. Болела голова, вокруг все намокло. Он открыл глаза – темно; прислушался, вытянул руку и понял, что идет дождь; попробовал было сесть, но убедился, что лежит головой вниз.
Постепенно к нему стала возвращаться память. Он вспомнил старосту, корову в черных пятнах, пшенную похлебку и большую бутыль водки. Что сталось с водкой, он в точности не представлял себе, но ощущал какое-то недомогание и не сомневался, что повредила ему чересчур горячая похлебка.
– Сколько раз я говорил, чтоб пшена не варили на ночь; известное дело, что пшено дольше всего держит в себе жар! – проворчал мужик и с трудом поднялся.
Теперь он уже твердо знал, что находится у себя во дворе, возле навозной кучи.
– Эк куда меня занесло! – крякнул он. – И не мудрено. Хуже нет: водку мешать с горячим. Пшено-то ведь – чистый огонь…
Ночь была темная, так что он едва разглядел свою хату. Он побрел к ней, но очень медленно, словно колеблясь, и даже с минуту посидел на пороге, опустив на руки отяжелевшую голову. Но дождь становился все назойливее, и Слимак отважился войти.
В сенях он снова постоял, послушал, как храпит Магда. Потом осторожно отворил дверь в горницу, но дверь не просто заскрипела, а, казалось ему, заревела, как корова. Сразу его обдало жаркой духотой, от которой еще больше захотелось спать, и он решил – будь что будет – добраться до постели.
В первой горнице на лавке у окна дышал Стасек, но в боковушке было тихо. Слимак понял, что жена не спит, и ощупью стал пробираться к кровати.
– Подвинься-ка, Ягна, – сказал он, силясь говорить сурово, хотя сам замирал от страха.
Молчание.
– Да ну… подвинься малость…
– Пошел вон, пьяница, пока я добром говорю!..
– А куда я пойду?
– В хлев иди или на навозную кучу, там тебе место! – сердито ответила жена. – Хозяином тебе захотелось быть, вот и хозяйствуй, а от меня уходи прочь, пропойца!.. Кнутом вздумал мне угрожать; погоди, я тебе это попомню…
– Эх, да что зря болтать, раз ничего с тобой не сделалось, – прервал ее муж.
– Ничего не сделалось? А кто уперся и надумал платить за корову тридцать пять рублей да еще рубль за повод, когда сам Гроховский вот-вот отдал бы за тридцать?.. Я насилу вымолила у него, чтобы взял тридцать три… Видать, три рубля для тебя ничего не стоят?
Но Слимак ее не слушал. В отчаянии он схватился за голову, хоть в боковушке было темно, и попятился назад, в горницу, где спал Стасек. Там он бросился на лавку и нечаянно придавил мальчику ноги.
– Это вы, тятя? – проснувшись, спросил Стасек. – Да, я.
– А что вы тут делаете?
– Так, просто присел; что-то меня мутит.
Мальчик поднялся и обнял его за шею.
– Хорошо, что вы тут, – сказал он, – а то по мне все ходили эти немцы.
– Какие немцы?
– Да те двое, что были в поле: старик и бородатый. Ничего не говорят, чего им надо, а сами все топчут меня, топчут.
– Спи, сынок, нет тут никаких немцев.
Стасек еще крепче прижался к отцу, но Слимака совсем разморило, до того ему хотелось спать, и они оба повалились на лавку; однако вскоре мальчик снова заговорил:
– Тятя, а правда, – спросил он вполголоса, – правда, что вода видит?
– Что ей видеть?
– Все, все… Небо, наши холмы и вас тоже она видела, когда вы шли за бороной.
– Спи, сынок, а то ты невесть какую несуразицу понес, – успокаивал его Слимак.
– Видит, видит, тятя, я знаю, – прошептал мальчик и уснул.
В хате было очень жарко; Слимак, вконец разомлев, поплелся во двор и, с трудом передвигая неповиновавшиеся ноги, добрался до риги. У входа он едва не наступил на Гроховского, затем после нескольких неудачных попыток наткнулся на скирду соломы и весь зарылся в ней, так что не видно было даже сапог.
– А корову-то я купил, все-таки купил, – буркнул он, засыпая.
IV
На другой день Слимака разбудил окрик жены:
– Долго ты еще будешь валяться?
– А что? – спросил он из-под соломы.
– Пора в имение идти.
– Звали меня?
– Чего тебя звать? Сам должен идти насчет аренды.
Мужик заохал, но поднялся и вышел на гумно. Вид у него был сконфуженный, лицо отекло, в волосах торчала солома.
– Ого! На что стал похож, – брюзжала жена. – Зипун мокрый, весь замызгался, сапожищи небось всю ночь не снимал, а теперь смотрит на людей, как разбойник какой. Пугалом в конопле тебе стоять, а не с паном толковать. Обрядись хоть, – куда ты такой пойдешь?
Не сказав больше ни слова, она опять пошла к коровам в закут, а у Слимака от сердца отлегло, что на том все и кончилось. Он-то думал, что она полдня будет его теперь пилить.
Он вышел во двор. Солнце уже высоко поднялось, и земля успела обсохнуть после ночного дождя. Подул ветерок и принес из оврагов птичий щебет и какой-то запах, влажный и веселый. За ночь зазеленели поля, на деревьях распустились листочки, небо синело, словно вымытое, и мужику показалось, что даже хата его побелела.
– Ох, и хорош денек! – пробормотал он, ощущая прилив бодрости, и пошел в горницу одеваться.
Вытряхнув из волос солому, он надел чистую рубашку и новые сапоги. Но, на его вкус, они недостаточно лоснились; он взял кусок сала и смазал им сперва волосы, а затем сапоги – от голенищ до каблуков. Наконец, подошел к зеркалу и, взглянув сначала на ноги, а потом на свое отражение, ухмыльнулся от удовольствия, такое яркое сияние исходило от его головы и сапог. К тому же что-то нашептывало ему, что при виде столь великолепно напомаженного мужика пан не устоит и отдаст ему луг в аренду.
В эту минуту вошла жена и, окинув его презрительным взглядом, сказала:
– Ты чего вымазался? Салом от тебя разит – не продохнешь. Что бы тебе умыться да волосы причесать?
Признав справедливость ее замечания, Слимак достал из-за зеркальца частый гребень и до тех пор расчесывал и приглаживал волосы, пока они не заблестели, как стеклышко. Потом взял мыло и умылся с таким усердием, что от жирных пальцев на шее остались темные полосы.
– А где Гроховский? – уже смелее спросил он жену, повеселев от холодной воды.
– Ушел.
– А деньги как же?
– Я заплатила. Только он не захотел брать тридцать три рубля, а взял тридцать два: раз, говорит, Иисус Христос прожил тридцать три года на свете, не годится брать столько же за корову.
– Это правильно, – подтвердил Слимак, надеясь теологической эрудицией снискать расположение жены.
Но она повернулась к печке, вытащила горшок ячневой похлебки на молоке и, небрежно сунув его мужу, проговорила:
– Ну, ну… Ты не болтай, перекуси да ступай в имение. И поторгуйся с паном, вроде как вчера со старостой, я тебе скажу спасибо!.. – прибавила она насмешливо.
Мужик, присмирев, молча принялся за еду, а жена тем временем достала из сундука деньги.
– На вот десять рублей, – сказала она. – Отдай их пану в задаток, а остальные снесешь завтра. Ты, главное, слушай: как только скажет пан, сколько за луг, сейчас же целуй ему руку, кланяйся в ноги и проси, чтобы он хоть рублика три уступил. Не скинет три рубля, выторгуй рубль, но до тех пор кланяйся и ему и пани, пока сколько-нибудь не уступят. Ну что, будешь помнить?
– Чего тут не помнить? – ответил мужик.
Он сразу перестал есть и ложкой легонько отстукивал такт, видимо, повторяя про себя наставления жены.
– Ты много не раздумывай, а надевай зипун, – снова заговорила жена, – да ребят прихвати с собой.
– Их-то для чего?
– Для того, чтобы просили с тобой вместе, и еще для того, чтобы Ендрек мне рассказал, как ты там торговался. Теперь понял, для чего?
– Холера с этими бабами! – буркнул Слимак, видя, что жена уже все заранее обдумала, а про себя добавил: «Вот чертова баба, как она все смекнет да распорядится! Сразу видно, что отец ее служил экономом».
С большим трудом влез он в новенький зипун, расшитый вдоль карманов и по воротнику разноцветными шнурками, и подпоясался великолепным кожаным ремнем, шириной без малого в две ладони. Потом завязал в тряпицу десять рублей и спрятал за пазуху. Мальчики давно уже были готовы, и все втроем они направились в имение прямо по большаку.
Не успели они уйти, как Слимаковой стало не по себе; она выбежала за ворота – поглядеть им вслед.
Посредине дороги, засунув руки в карманы и задрав голову кверху, шел ее муж; чуть позади, слева от него – Стасек, а справа – Ендрек. Потом ей показалось, будто Ендрек стукнул по голове Стасека, вследствие чего очутился по левую руку отца, а Стасек по правую. А затем все как-то смешалось… Как будто Слимак дал подзатыльник Ендреку, после чего Стасек снова очутился слева от отца, да и Ендрек тоже шел слева, но уже по краю канавы и оттуда грозил кулаком младшему брату.
– Вишь, какую забаву нашли, – усмехнулась женщина и вернулась домой стряпать обед.
Пустив в ход кулаки, Слимак уладил возникшие между сыновьями недоразумения и сперва замурлыкал себе под нос, а потом запел вполголоса:
При дворе не сыщешь
Ни храбрей, ни краше,
На коне гарцует,
Сабелькою машет.
С минуту подумав, он снова запел, но уже протяжно:
Ой, ду-ду-ду, ду-ду-ду,
Завлекли меня в беду,
Да в какую же беду!..
Он приумолк и вздохнул, чувствуя, что, верно, нет такой песни, которая могла бы заглушить его тревогу: что-то будет с лугом: отдаст его пан в аренду или не отдаст?
Они шли как раз мимо этого луга. Слимак поглядел и даже испугался. Таким прекрасным и недоступным он показался ему сегодня. В памяти его всплыли все штрафы, которые он платил за потраву, когда помещиковым батракам удавалось захватить его скотину на лугу, вспомнились все предупреждения и угрозы пана. Какой-то тайный голос шептал – не то внутри, не то у него за спиной, – что, если б этот клочок земли был расположен подальше и вместо сена родил бы песок или сабельник, его, пожалуй, легче было бы получить в аренду. Но луг сулил слишком много выгод, чтобы не пробудить в нем самые мрачные предчувствия и сомнения.
– И-и-и… чего там! – пробормотал он, сплевывая с большой виртуозностью. – Сколько раз они сами меня уговаривали арендовать его. Говорили даже, что и для меня и для них так будет лучше.
Так-то оно так, но когда они навязывали ему аренду?.. Когда он сам не просил. А теперь, когда луг ему понадобился, они начнут торговаться или вовсе не отдадут.
Но почему?.. А кто их знает! Потому что мужик барину, как и барин мужику, всегда сделает наперекор. Уж так оно повелось на свете.
Припомнив, сколько раз он запрашивал с пана лишнее за работу или как вместе с другими мужиками спорил с помещиком насчет отмены лесной повинности, Слимак расстроился. Боже мой! А ведь как красиво разговаривал с ними пан: «Будем жить теперь в мире и, как подобает соседям, будем оказывать друг другу услуги…»
А они отвечали: «Э, какие же мы соседи! Пан – это пан, а мужики – это мужики… Пану нужно бы в соседи такого же шляхтича, а нам такого же мужика…»
Помещик им на это: «Смотрите, мужички, еще придете с поклоном…»
Тут Гжиб от всего народа и выпалил: «Да и то приходили, ваша милость, когда хотели вы лесом распорядиться без мужицкого надзора».
Смолчал шляхтич, только усами грозно задвигал, а, наверное, не забыл этих слов.
«Сколько раз я говорил Гжибу, – вздохнул Слимак, – чтоб он не лаялся. Теперь за его гордость мне придется страдать».
В эту минуту Ендрек швырнул камнем в какую-то птицу. Слимак оглянулся, и его грустные мысли вдруг изменили свое течение.
«Но и то сказать: отчего бы ему не сдать луг в аренду? – думал он. – Пану известно, что траву частенько топчет скотина и что за ней не углядеть, хотя бы у него было вдвое больше батраков. А он, шляхтич, – ух, какой умный… Да и добрый: лучше сам потеряет, а другого не обидит… Ничего себе пан!..»
Вдруг новая волна сомнений хлынула ему в сердце.
«Как-никак, – думал мужик, – а ведь он понимает, что с лугом мне будет лучше, чем без луга. А ни одному пану не нравится, когда мужик хорошо живет, ведь сам-то он от этого теряет работника».
Мысли снова переменились; Слимак сообразил, что за аренду можно платить не наличными, а работой.
– В самом деле! – пробормотал он, повеселев. – Я могу ему сказать: «Разве я у вас не работаю или отказываюсь работать?» Другие мужики не ходят в имение, один я хожу, так неужели же для меня он пожалеет один лужок? Мало у него, что ли, лугов да и всякой другой земли?.. Я ведь как был мужик и батрак, так и буду, а он так и будет барином, хоть бы он даже подарил мне эти два морга, а не то что отдал в аренду.
И он снова стал напевать:
Ой, кукушки куковали
На горе, на горке,
Ой, кумушки толковали,
Что я бражник горький!
Последнюю строчку он промурлыкал совсем невнятно, чтобы не уронить свой авторитет перед детьми.
Вдруг он обратился к Стасеку с вопросом:
– Что это ты все молчишь и тащишься, будто тебя ведут в участок?
– Я? – очнулся Стасек. – Я думаю, для чего мы идем в имение?
– Что ж, неохота тебе идти?
– Нет, только чего-то страшно.
– Чего там страшно! В имении-то хорошо, – внушительно сказал Слимак, но сам вздрогнул, точно его прохватил мороз.
Однако он поборол тревогу и стал объяснять:
– Видишь, сынок, какое дело. Вчера мы у старосты купили корову за тридцать два рубля (хотел-то он, старый хрыч, тридцать пять да рубль серебром за повод. Ну, да я его образумил, он и скинул). Так вот, сынок, для новой коровы нужно, стало быть, сено, а по этому случаю и приходится просить пана, чтоб он сдал нам луг в аренду. Теперь понятно?
Стасек кивнул головой.
– Понятно, – ответил он, – а еще я вот чего не знаю: что думает трава, когда скотина ухватит ее языком и мнет зубами?
– Чего ей думать?.. Ничего она не думает!
– Ну как же!.. – продолжал Стасек. – Быть того не может, чтобы она ничего не думала. Вот в праздник, когда народ соберется на погосте, издали посмотришь на людей – будто это трава или кусты: тут и зеленые, и красные, и желтые, и всякие, как цветы в поле. Так кабы страшное какое чудище пришло на погост да слизнуло бы всех язычищем, разве они ничего бы не думали?..
– Люди – те кричали бы, а трава-то ничего не говорит, когда ее косишь, – возразил Слимак.
– Как – не говорит? Палку сухую станешь ломать, и то она трещит, а возьмешь свежую ветку, она гнется, да в руки не дается, а траву когда рвешь, она пищит и ногами держится за землю.
– Э, да тебе всё чудеса мерещатся, – сказал отец. – Если всякого спрашивать, охота или неохота ему идти под косу, так и сам не поешь, и скотину не покормишь, и все пойдет прахом.
– А ты, Ендрек, тоже не рад, что идешь в имение? – спросил он другого сына.
– Разве это я иду? Вы идете, – ответил Ендрек, пожимая плечами. – Я бы туда не пошел.
– А что бы ты сделал? Письмо бы написал? Так пан тебе не ровня, да и писать ты не умеешь.
– Скосил бы траву, да и свез бы к себе на двор. Пускай бы он шел ко мне, а не я к нему.
– И ты посмел бы косить господскую траву?
– Какая она господская! Сам он, что ли, ее сеял? Да и луг не возле его хаты!..
– Вот и видно, что дурак, потому что луг-то господский и вон те поля – все господские. – Он показал рукой на горизонт.
– Оно как будто и так, – ответил Ендрек, – покуда никто их не отнял. А я знаю, что и ваша земля и хата прежде тоже были господские, а нынче стали ваши. Так же и луг. Чем он нас лучше, ваш пан: работать он не работает, а земли на сто дворов заграбастал!
– Да вот заграбастал же.
– А у вас почему столько нету, да и у Гжиба и у других?
– На то он пан.
– Велика важность! Вы, тятя, наденьте сюртук, выпустите штаны поверх сапог – и тоже станете паном. Только земли у вас столько не будет, как у него.
– Сказал я тебе: дурак! – рассердился Слимак.
– Я и правда еще глуп, потому что не ученый. А Ясек Гжиб – умный, он даже в канцелярии писал. А он что говорит? Должно, говорит, быть равенство, и тогда, говорит, оно наступит, когда мужики отнимут землю у господ и у каждого будет свое.
– Дурень твой Ясек: если у каждого будет свое, никто на другого не станет работать. Так уж устроено на свете, и Ясек тут ничего не поделает. Лучше бы он у отца деньги из сундука не таскал да не бегал по городу из шинка в шинок. Больно горазд он чужим распоряжаться! Мое бы он отдал Овчажу, господское взял бы себе, а свое-то небось не выпустил бы из рук. Пусть уж лучше будет так, как господь бог по милости своей сотворил и как учит святая церковь, а не так, как хотят Гжибы – старый и молодой.
– А разве помещику землю послал господь бог? – брякнул Ендрек.
– Господь бог установил на свете такой порядок, чтобы не было никакого равенства. Оттого-то небо вверху, а земля внизу, сосна растет высоко, орешник низко, а трава еще того ниже. Оттого и среди людей: один старый, а другой молодой, один отец, а другой сын, один хозяин, а другой батрак, один барин, а другой мужик.
Слимак даже устал говорить, но, отдышавшись, продолжал:
– Ты погляди, к примеру, на умных собак, когда их много бегает во дворе. Вынесут из кухни ушат помоев, сейчас к нему первая идет одна, всех сильнее и всех злее, ну, и жрет, а другие стоят облизываются, хоть и видят, что она хватает все лакомые куски. Когда эта так натрескается, что, того и гляди, лопнет, подходят другие. Каждая сует морду со своего края и без всякой грызни жрет, сколько на ее долю придется. А где собаки глупые, там все они враз летят к ушату, сейчас передерутся и больше вырвут клочьев друг у дружки, чем урвут кусков. А то еще ушат опрокинут и весь корм разольют, но и тут всегда найдется одна какая-нибудь посильней других и всех разгонит. Ей и самой при таком хозяйствовании немного достанется, а другим и вовсе ничего.
Так и с людьми будет, если всякий станет заглядывать в рот другому да кричать: «Отдай, ты больше съел!» Самый сильный разгонит других, а кто послабей, те перемрут с голоду. Оттого бог так и устроил, чтобы каждый берег свою землю, а чужую не отнимал.
– А ведь раз мужикам уже землю раздавали.
– Раздавали, и не один раз, а два раза; может, и еще будут раздавать, но понемножку и с соображением, чтобы каждому досталось, сколько ему положено, а не так, чтобы всякий хватал без толку, что кому понравится. Так установил господь бог по своей милости, чтобы всему на свете было свое время и во всем был порядок.
– Да уж какой порядок, когда Гжиб сразу получил тридцать моргов, а вы насилу семь! – сказал Ендрек.
Слимак остановился посреди дороги, решив передохнуть. Он поправил шапку, уперся левой рукой в бок, а правой показал на холмы:
– Видишь ты горы там, над имением? С них все время земля сыплется вниз. Может, неверно?
– Нет, верно.
– То-то, что верно. А та земля, что осыпается, она на чьи поля падает, а?
– Известно, на господские.
– То-то, что на господские. А та земля, что осыплется с господских полей, к кому упадет на пашню – ко мне или к Гжибу?
– Известно, к Гжибу, раз его поля на косогоре под господскими, а ваши по ту сторону долины.
– Вот видишь, – продолжал Слимак. – Если б мои поля были там, где Гжибовы, я бы с господской земли имел пользу; а как земля мне досталась за рекой, то я меньше и пользуюсь.
– Да еще с ваших же холмов земля падает на господские луга, – подтвердил Ендрек.
– На все воля божья! – сказал мужик и снял шапку. – Тем я хуже наших мужиков, что у меня земли меньше, но тем лучше самого барина, что земля с моего хутора сыплется на его луга и богатство его приумножает.
Ендрек, выслушав это рассуждение, покачал головой.
– Ты что башкой мотаешь? – спросил его отец.
– Не по мне все, что вы говорите.
– Не по тебе, потому что ты моложе меня и глупее.
– А вы, тятя, стало быть, глупее Гжиба, потому что он старше вас и говорит совсем другое.
Мужика так и кольнуло в сердце.
– Ах ты щенок этакий! – крикнул он. – Вот я дам тебе в морду, так ты мигом смекнешь, кто умнее!..
Довод был настолько веский, что Ендрек умолк, и дальше они шли, уже не разговаривая. Стасек о чем-то мечтал, а Слимак то беспокоился, сдадут ли ему луг в аренду, то удивлялся, что его старший сын проповедует столь превратные теории.
– Гм! – ворчал мужик. – Учится, паршивец, у других. Гордый, черт, никому не уступит; слава богу, что хоть не ворует. Ого! Нет, уже он-то не будет мужиком.
Начиная с места, где, плавно поднимаясь в гору, с большаком соединялась дорога, ведущая в имение, Слимак шел все медленнее, Стасек озирался все тревожнее, и только Ендрек становился все бойчее. Но вот из-за холма показались черные, но уже покрывшиеся почками ветви придорожных лип, а затем трубы и крыши помещичьей усадьбы.
Вдруг раздались два выстрела.
– Стреляют! – заорал Ендрек и бросился вперед, между тем как Стасек уцепился за карман отцовского зипуна.
– Ты куда? Сейчас же назад! – крикнул Слимак.
Ендрек насупился, но замедлил шаг.
Они поднялись на холм, где тянулись уже одни только господские поля. Позади, внизу, лежала деревня, еще ниже – луг и река; перед ними за забором стоял господский дом, еще какие-то строения, дальше – сад.
– Видишь, вот и господский дом, – сказал Слимак Стасеку.
– Это который?
– Вон тот, с крыльцом на столбах.
– А там что за хата?
– Налево? Это не хата, а флигель, а тот низкий домик – кухня. Погляди-ка, видишь, во флигеле одни горницы внизу, а другие вверху.
– Вроде как на чердаке.
– Это не чердак, а этаж. Чердак еще выше, под крышей, как у нас.
– А лазят туда по стремянке, – вмешался Ендрек.
– Не по стремянке, а по лестнице, – сурово ответил отец. – В самый раз, станет тебе пан кувыркаться по жердочкам! Пан любит, чтобы все было удобно. Оттого у него и сено воруют с сеновала над конюшней.
– Тятя, а направо это что – все в окнах? – спросил Стасек.
– Тут, видать, сами господа посиживают да на солнышке греются, – ответил Ендрек.
– Не болтай, чего не знаешь! – оборвал его Слимак. – Тут стены, все как есть, из стекла, зовется теплица. В ней всякие цветы, какие только виданы на свете, и цветут круглый год, даже среди зимы, когда в поле снегу по колено.
– Цветы-то, верно, бумажные, как в костеле, – снова вмешался Ендрек.
– То-то и есть, что настоящие. А цветут потому, что садовник всю зиму топит печку.
– А яблоки тут есть зимой? – спросил Ендрек.
– Яблок нет, одни апельсины.
– Верно, раз во сто лучше яблок? – спросил Ендрек, и глаза у него загорелись.
Мужик презрительно махнул рукой:
– Ни-ни… Попробовал я одно такое. Маленькое, как картошка, зеленое, а уж пакостное – собака и та бы выплюнула…
– И они такое едят?
– Чего ж им не есть!
– Вот дураки! – сказал Ендрек.
– Сам ты дурак, потому что толку в этом не знаешь, – ответил мужик. – Тебе небось нравится, когда похлебка круто посолена? А барину нравится, когда от другой еды у него во рту пакостно. У всякого свой вкус: вол любит траву, а свинья – крапиву.
– Гляньте-ка, тятя! – вдруг заорал Ендрек, показывая на двор.
Но не успел он крикнуть, как снова грянули два выстрела. Когда дым рассеялся, они увидели у ворот молодого человека в желтых гетрах до колен и в серой куртке с зелеными лацканами. Сбоку у него висела охотничья сумка, на животе патронташ, а в руках еще дымилась двустволка.
– Это тот самый, что вчера ехал верхом, еще картуз у него с башки свалился, – сказал Ендрек.
Мужик нагнул голову на одну сторону, потом на другую и пристально вгляделся.
– Он и есть, растяпа! – признал Слимак с неудовольствием. И прибавил шепотом: – Ох, не к добру! Теперь уж наверняка мне луг не отдадут, раз нам перешел дорогу этот фармазон.
– Ружьецо-то у него славное! – сказал Ендрек. – В кого это он стрелял? Тут только воробьи летают. А может, просто так? Эх, кабы мне такое ружье, я бы стрелял целый день, хоть по холмам, а пороху – будь он неладен – столько бы сыпал, что гул пошел бы на весь приход.
– А в нас он не выстрелит? – тихо спросил Стасек, не решаясь идти дальше.
– Чего ему в нас стрелять? – ответил отец. – В людей стрелять не позволено, за это в тюрьму сажают. Хотя… кто его знает, что ему вздумается, этому нехристю!
– Ого-го! – подхватил Ендрек. – Пусть-ка попробует!
– А что ты ему сделаешь?
– Вырву ружье и снесу к старшине. Да еще разика два сам выстрелю дорогой.
Между тем охотник, зарядив свой ланкастер, подошел к мужику. Из сумки его, притороченные, свисали окровавленные останки воробья.
– Слава Иисусу Христу! – поклонился Слимак, срывая с головы шапку.
– Добрый день, гражданин! – ответил стрелок, приподнимая бархатный картузик.
– Эх, красота-ружье! – вздохнул Ендрек.
Панич поправил пенсне и внимательно поглядел на мальчика.
– Понравилось, а? – спросил он. – Это не ты ли мне вчера подал картуз?
– Я самый, а вы, пан, ехали верхом и без ружья.
– Значит, я твой должник! – воскликнул панич, доставая из кармана кошелек. – Возьми-ка, – сказал он и протянул мальчику серебряную монету. – А это твой отец?.. Тот, что вчера хотел отстегать тебя кнутом?..
Мужик поклонился до земли.
– Гражданин! – сказал панич обиженным тоном. – Если ты хочешь, чтобы у нас с тобой сохранились дружеские отношения, не кланяйся мне так низко и надень шапку. Пора забыть эти пережитки рабства, которые и нам и вам приносят одни неприятности. Надень шапку, гражданин, прошу тебя…
Слимак оторопел и вконец растерялся; он хотел было исполнить приказание, но рука отказалась ему повиноваться.
– Совестно мне при господах в шапке стоять, – пробормотал он.
– Брось ты дурить! – прикрикнул на него панич.
Он вырвал шапку из руки Слимака, насильно нахлобучил ему на голову, а затем то же самое проделал и с оробевшим Стасеком.
«Вот холера!» – подумал мужик, решительно не понимая демократических настроений панича.
– Вы что, в имение идете? – спросил охотник, закидывая ружье за плечо.
– В имение, панич.
– По какому-нибудь делу к моему зятю?
Мужик опять хотел поклониться в ноги, но панич удержал его.
– А какое у вас дело?
– Хотел просить милости у пана: сдать нам в аренду вон тот лужок, что лежит меж рекой и моим хуторком.
– Зачем он вам?
– Вчера мы с моей бабой сторговали корову, да боимся, что кормов для нее не хватит, вот и хотим просить милости…
– А много у вас скота?
– Всего-то пять голов божьих тварей: стало быть, две лошади да три коровы, – да еще свиньи.
– А земли у вас много?
– Какое там много, панич! Еле-еле десять моргов, и то из года в год все меньше родит, – вздохнул мужик.
– Потому что вы не умеете хозяйничать, – сказал панич. – Десять моргов земли, любезный, – это огромное состояние! За границей на таком участке живет с удобствами несколько семейств, а у нас и на одно не хватает. Что ж удивительного: ведь вы сеете одну рожь…
– А что сеять, панич, раз пшеница не родится?
– Овощи, приятель, вот настоящее дело! Под Варшавой огородники платят за аренду по нескольку десятков рублей за морг и, несмотря на это, прекрасно живут.
Слимак грустно понурил голову, но сердце у него так и кипело: слушая доводы панича, он пришел к заключению, что или ему вовсе не сдадут луг в аренду, раз у него уже есть десять моргов, или заставят платить несколько десятков рублей за морг. А то зачем стал бы панич рассказывать про все эти чудеса, если бы не хотел ему внушить, что у него и так чересчур много земли, а потому он должен дороже платить за аренду?
Они подошли к воротам.
– Я вижу, сестра в саду, – сказал панич, – вероятно, там же и зять. Я пойду попрошу его уладить ваше дело. До свидания.
Мужик поклонился до земли, но одновременно подумал:
«Холера бы тебя взяла, и за что ты на меня взъелся! Вчера к моей бабе приставал, малого подстрекал, нынче мне как будто кланяться не велит, а сам этакие деньги хочет содрать за луг! Ох, чуяло мое сердце, что не к добру я его встретил».
Из дома донеслись звуки органа.
– Тятенька, играют!.. Где это играют? – закричал Стасек.
– Верно, пан играет.
И действительно, хозяин дома играл на американском органе. Крестьяне внимательно слушали непонятную им, но прекрасную музыку. У Стасека раскраснелось лицо, он весь дрожал от волнения. Ендрек присмирел, а Слимак снял шапку и стал читать молитву, прося бога смилостивиться над ним и защитить от ненависти панича, которому он, ей-ей, не сделал ничего худого.
Орган умолк. Как раз в это время панич встретил в саду сестру и оживленно начал ей что-то рассказывать.
– На меня наговаривает, – пробормотал мужик.
– Гляньте-ка, тятенька, – начал Ендрек, – пани-то как на шершня смахивает! Вся желтая, в черную крапинку, в поясе тонкая, а в боках толстая. А так ничего – красивая пани.
– Похуже всякого шершня этот подлец на желтых ногах, хоть он и тонкий, как жердь, – ответил отец.
– А чем он плох? Он мне денежку дал. Вот что дурак он – это пожалуй, но, как видно, добрый пан.
– Ничего, отберут они еще свою денежку.
Между тем панич, изложив сестре дело Слимака, стал ее отчитывать.
– Меня поражают, – разглагольствовал он, – черты рабства, которые я вижу в народе. Этот несчастный неспособен разговаривать, не сняв шапку с головы, к тому же он до того растерян и запуган, что мне просто жалко смотреть на него. Он мне на весь день испортил настроение.
– Но чем же я виновата и что я должна делать? – спросила пани.
– Подойти к ним ближе, добиться, чтобы они тебя не боялись…
– Ты просто неподражаем, – ответила она, пожав плечами. – Прошлой осенью я устроила праздник для детей наших батраков именно затем, чтобы они меня не боялись, и на другой же день они переломали у меня все персики. Ближе к ним подойти?.. Я и это делала. Однажды я зашла в хату, где лежал больной ребенок, и за один час так пропиталась всякими запахами, что мне пришлось почти новое платье отдать горничной. Нет, благодарю за такое миссионерство…
Оживленно беседуя по-французски, они подошли к ограде, у которой стоял мужик.
– По крайней мере для него ты должна что-нибудь сделать, – сказал панич, – он мне очень нравится.
Пани поднесла к глазам лорнетку.
– Ах, это Слимак! – воскликнула она. – Limacon.[1]1
Limасоn – по-французски «улитка», slimak (слимак) – по-польски значит то же самое.
[Закрыть] Подумай, какая смешная фамилия!
– Почтеннейший, – обратилась она к мужику, – брат хочет, чтобы я для тебя что-нибудь сделала; я, конечно, очень рада. У тебя есть дочь?
– Нету, пани, – ответил мужик, целуя сквозь решетчатую ограду край ее платья.
– Жаль. Я могла бы научить девочку плести кружева. Предварительно вымыв ее, – прибавила она по-французски.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































