Текст книги "Банджо и Сакс"
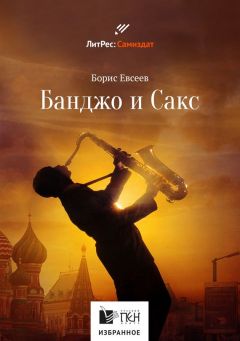
Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил – через Москву, через центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окружной дороге.
Тут его что-то остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, женские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.
Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними – дымно огненное подмосковно-московское небо.
Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала убегавшаяся за день Пашка. Ваня шел, и сил у него прибавлялось и прибавлялось.
«Раз из могилы выкопался, стало быть, и жизнь земную осилю!
Ехал на «Птичку» Иван Раскоряк.
Был Раскоряк – стал матрос Железняк!»
23
И вышел на небо Великий Жнец.
Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но давно приуготовленные к такой жатве рати. Серп заблистал над нищими пригородами и над богатой Москвой. И брызнула из-под серпа кровь: быстро текущая, остро-пахнущая. Встрепенулись черви в могилах и гады в кроватях: но крови своей, из них навсегда убегающей – не почуяли…
И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих – тайно коснулся!
Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верхние Поля, ожила и шевельнулась, серая, громадная, размерами сто метров на двести – так Ване показалось – птица. Не та, что составившись из малых пичуг, кружила под сводами рынка и не та, что сидела в запертой клетке. Другая!
Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда легко ускользающая, – она, сквозь ночь, мечтала о чём-то своём. И человекам про те мечтания ничего не сообщала.
Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние, отодвигая журчащее небо, мелкую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны скопища людских душ и комки птичьих шевелений – пошел, наливаясь неизъяснимой силой, домой, в Перловку.
24
Сзади вышагивала – готовая переть хоть до Холмогор, хоть до Северного полюса, а надо – так и до островерхого города Калининграда – белобрысая Пашка.
Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. За ним подскакивала и вновь опускалась на землю – огромная, неуклюжая, едва различимая во тьме птица: может, ушастая сова, может, зря потревоженный филин.
Босиком
1
Чудны́ дела Твои, Господи…
2
Лавра. Нигде русского человека так крепко, но и ласково так не ухватишь, нигде лучше не углядишь греха его или праведности, чем в Сергиевом, у Троицы.
Около Лавры – базар. Продают картинки священные, матрешек с яйцами, горбачевых-путиных. Но все ж не столько всей этой ласково стукающей дребеденью торгуют, – сколько страсти и помыслы свои напоказ выставляют: обмирая, хмелея, млея…
Рослый, малоголовый – подбородок врезан чуть не в самый лоб, – худой, весь какой-то перекрученный, но и крепкий, как резина, парень. Стоит. Простоволосый, с голой шеей, в армейском ватнике, в штанах клетчатых и босой. Ничего не продает, но встроился и упорно держится в торговой линии, рядом с продающими. Стоит, смотрит поверх товара, поверх стен, поверх золотых куполов даже. Нос его пупочкой при этом смешно, как от лука, морщится, запаленные краснотой веки напряженно подрагивают.
Весна ранняя. Иногда с неба слетает десяток-другой снежинок, и опять над головой холод ясный, чистота, лёд…
– Ботинки что ль украли? – спрашиваю тихо. – Ты вон какой здоровый вымахал, поспрошай как след, вернут, может.
– Что ботинки. Ботинки – рвань. Душу мне вернуть Создатель должон, душу…
– Так ты в Лавру иди, чего ж тут маячить. Там про душу и расскажешь…
На нас косятся. Хоть здесь рядом место и святое, – слушать про душу торгующие, кажется, любят не слишком. Или просто надоел им мужик этот: ничего не продает, никого не “пасёт”, милостыню – и ту не просит. Да ещё и босой! Может – стучит?
Зову его погреться в кафе “Отдых”, здесь же рядом, чуть ниже Лавры. Нехотя соглашается. А в кафе вынимает вдруг из глубоченного кармана просторные тапочки в целлофановом пакете. Одевает, морщится.
– Грязь… Не могу…
Разглядываюсь по сторонам и особой грязи в кафе не замечаю. Засунув ноги в легкие, красно-коричневые без задников тапки и видя мое недоумение, он начинает рассказывать.
– Друга у меня убили. В Таджикистане. Вместе служили. Не на границе, в ауле убили. Надо было его вынести оттуда, а я оставил. Себя пожалел. Думал, и меня сейчас из-за дувала хлопнут. Назад повернул. Все думают, он тогда один был. А мы, можно сказать, вместе были. Он впереди шел, а я за ним с сапогами в руках бежал. Труп его, понятное дело, пропал. Ну, потом прошло все, забылось, кончилась моя сверхсрочная, думал, домой уеду…
Какое там! Не отпустила меня азиатчина. Вдруг в Бишкеке я очутился. Ну город, ну город! Пламечком зеленым сады полыхают, дыни в пятнышках, как головы бусурманские, из калиток прямо на дорогу выкатываются, ишачки черными ушами у заборов прядут. Вода в арыках скорая, мутная. Так и кажется: это она из тебя самого да из бабы твоей страшным напором, безостановочной любовью выхлёстывает. А на базаре – китайцы. Что хошь тебе поднесут. “Рупп, рупп!” – кричат. Сома этого самого киргизского не признают, рублем его называют. И за “рупп” тебе – что угодно. Хочешь – чаю, хочешь – пивка.
Так день проходит. А к вечеру жары почти нет, только горы сквозь пленку дымную посвечивают.
3
– В горах я тоже жил. Два месяца сторожил базу горнолыжную, Летом там никого, красота! Утром, бывало, чабаны с гор спустятся, кумысу навезут, выпьешь, иголки в горло вопьются, как заново на свет народился. Оставляли меня на базе. Да и нравилось мне там шибко. Сибирь напоминало. Все другое, а вроде похоже. У нас в южной Сибири в поймах, в мочажинах дергачи да утки до надрыву кричат, и здесь тоже… У нас лес живой, и там живой. Словом, не понять, как это получается, а вроде всё свое: будто шел я и шел я на юг по тайге сибирской, да к опушке горной и вышел. Хотя там, близ Бишкека, арча кругом вместо елок, да и зайцы другие, со спинкой коричневой, и улары – дикие индюки – попадаются, и волк другой. Волк меня оттуда вниз на равнину и согнал.
Было как? Спустились с гор двое чабанов-киргизов, привезли кумысу и ну на бильярде шары гонять. Бильярд на базе отличный, для больших, ещё капээсэсных людей сработан. Вот киргизы и приспособились: чуть не каждый день играли. А меня в тот раз попросили не в службу, а в дружбу, двух кобыл да жеребеночка выпасти. Самим недосуг, значит. Ну я к этому делу привычный. А только предупредили, чтоб далеко в горы не ходил: волки. Да я и сам знаю, что волки, небось, кажен вечер вытье их слышал. Хоть и далековато от базы, а выли. В тамошних местах чабанам с начала девяностых ружья иметь запретили, вот волки и обнаглели. Знают, что человек без ружья не человек, и средь бела дня лезут.
Ну, стало быть, погнал я кобыл с жеребеночком, да на ходу и задумался. Другана вспомнил, высоко в горы залез. Только вдруг кобыла одна как захрипит и на дыбки, а жеребеночек круть – и ко мне! Враз я очнулся. Ну думаю. Всё, капец! Сейчас налетит стая – поминай, как звали.
Только гляжу – один он. И не волчица (эта сразу кончит!), а вроде волк. Матерый, в подпалинах. На плечах шерсть погончиками обвисла, на загривок – словно башлык черный спустил… Скалится. Ну? Ты бы что стал делать? Убег? Так он сзади кинется. И не на жеребенка! На меня ведь он только и зырился! И как на грех, ни кнута, ни дрына в руках. Ну вспомнил я тут – пистолет газовый у меня в кармане. Внизу-то он вполне годился, а здесь, думаю, возьмет волка эта пукалка? Думать думаю, а пистолет из кармана волоку. Выволок, в морду волку уставил. Держу двумя руками, дрожу. А он весь вперед подался и снова скалится. Вроде понять дает: что мне твоя пукалка? И так он этим оскалом мне одного зверюгу, так одного военного прокурора напомнил, который так же вот скалился, да все про другана выспрашивал, что закрыл я глаза и как заору со страха:
“Не я! Не я убил!”
Ору, а перед глазами не волк, а майор этот косоротый, в расстегнутом кителе… Постоял я так с закрытыми глазами, потом открываю, – глядь, волк задком отступает. Отступает, а все одно, скалится. Словно сказать хочет: пока спускаю тебе. Иди себе, куда знаешь, а сюда, падло, не суйся…
После этого случая я вниз и спустился. Подумал: чего мне здесь со зверьем воевать? Его, зверья, и внизу хватает. Вот с этим зверьем и надо разбираться. Я б там внизу и насовсем остался, да только полчанина встретил. Он чего-то в Бишкеке сколачивал, наших парней собирал, да не на те дела, что надо, собирал. Ну, я и свалил оттуда, сил у меня тогда с ним спорить не было. Взяли меня на гражданский борт – четыре дня в аэропорту протолокся, – а взяли!
4
Он отодвинул от себя рюмку с водкой, отхлебнул только пивка из кружки, но потом и кружку в раздражении от себя отсунул.
– Что мне твой хмель! У меня другой хмель в голове!
– Да, дела!.. Ты бы священнику рассказал про все, что ли… Другим-то не надо, другие пусть не знают, а священнику…
– Э, нет, – перебивает он и кивает на белеющую в окне Лавру, – Он-то знает! Только Он и знает, что это я тогда сапоги от другана спрятал. Сиди, мол, на месте. Нечего ходить! А ему надо было! До зарезу! Он без сапог в аул и двинул. Босой. Бешеный. Я за ним… Да поздно. В горах камни мелкие, острые! Не убежишь далеко… Ну и когда шел он – матерился, наверное, беречься, как учили, не хотел… Так из-за бабы да из-за обувки и пропал. Ну так теперь я вместо него босой хожу. А эти-то, что торгуют, думают – дурачок я или юродивый. Ну, пускай думают…
– Так ты бы объяснил им.
– А зачем? Так слаще. Я его под пулю подвел, я теперь терпеть буду.
– Ну и сколько ты терпеть собираешься? Неделю, месяц? Когда-то ведь это “босохождение” закончится? Так и помереть недолго.
– А! В том-то и штука вся. Тебе, так и быть, скажу. Я ведь не только здесь босой. Я из самой Сибири босым шел и ехал. Только в уборных, да где погрязнее, у мусорников, тапочки надевал. Смеялись надо мной, конечно, в бока пихали. И здесь смеются. А мне – ещё обидней. И вот, чтобы обиду не растратить, я здесь не молюсь. Но когда наберу обиды доверху, тогда начну все эти лотки опрокидывать. Кричать буду: не прощаешь, нет? Ну так значит Сам Ты и велел мне тогда себя пожалеть! А теперь Сам велишь здесь крушить все! Ну а покрушив как следует, я назад, к таджикам подамся. И уж не босой! В сапоги, в ботиночки десантные затянусь! Я ведь там каждый камень знаю. И кому следует, за все отмеряю…
А потом снова в Бишкек. Нравится мне там! Сяду на базаре, словно бы нищий я… Сяду, и никто – как вот ты, например, – на меня не посмотрит. Сяду, сидеть буду. А сквозь меня народы косоглазые попрут, и китайцы, и пуштуны, и другие прочие. Да и наших там пруд пруди.
А пока ращу, ращу я в себе обиду! Ну? Понимаешь? Ты хоть сказки-то слышал? Илья Муромец, думаешь, просто так на печи жопу грел? Обиду он в себе копил! Чтобы разметать всех. Потому как в обиде – сила страшная. Когда ее много, конечно. Вот я и обижусь.
У нас в Сибири, в селе Мотовилихе все так делали. Село-то варначье, каторжное. Как обиду накопим, так житуха другая начинается. Отъедем куда подале, хоть к соседям, хоть в лес и ну обиду вымещать! И от этого легшает сразу, да и дурь потихоньку кончается…
Но на человеков я обижаться устал. Вот и пришел сюда на Господа обидеться. Смотри мол, до чего довел Ты меня. Завод жизни кончается! Обижусь на Него, а потом прощенья просить буду.
А без обиды – силы во мне нет, одна мягкость да вонь. Знаешь что я без обиды такое? Босой нерв. Есть такой. Это мне уже тут фельдшер один сказал. Нерв хоть и в пятке, а самый главный. Не приведи Господи раздражать этот нерв! А молиться… Может потом, когда снова сюда вернусь, помолюсь немного…
– Но тогда-то уж в ботинках придешь?
– Зачем это? Ты, я вижу, ничего не понял. Обида – она ведь как боекомплект, расстрелял, и нету. Пополнять надо. Вот и приду сюда: пополнять обиду. А иначе меня в порох сотрут. А Он, Господь, стало быть – не понимает. Ведь кабы все вокруг не были звери, так и мне не надо было обиду копить, Его зря тревожить.
– Так ты сюда пришел не к Богу приближаться, а заряжаться, как ружьё?
– Говорю ж тебе. Но в Него я верю, верю – ты не думай! Только обижен я сильно… Ну, прощевай. Некогда мне. Пойду к Лавре, может, сегодня ещё нальюсь до краев. К вечеру пацанва набежит, дразнить меня будут. Ну да теперь ничего, теперь скоро уж…
5
Он снял тапочки, затолкал их в целлофан, потом опустил бережно в глубокий карман ватника. Ноги его были синеватые у щиколоток, с багрово-сизыми, расплющенными и, казалось, совершенно бесчувственными ступнями.
– Гангрены не боишься?
– Боюсь. Только теперь уже ничего не будет, да и привыкать стал. Это ведь только попервоначалу трудно… – мелкая мутноватая слеза блеснула вдруг в глазах его. Он быстро развернулся, не оглядываясь, чуть по-обезьяньи или скорей по-медвежьи загребая босыми ступнями, пошел из кафе. Я тоже выглянул, а потом вышел за ним на улицу.
Сияла Лавра. Словно чьей-то бестелесной рукой отмеренный, скупо падал крупный киношный снег. Вслед босому человеку шли с железнодорожной станции бабы в платках, мужики с рюкзаками, интеллигенты, пристегнутые намертво к черным кейсам, волжские речники, выгнанные со службы, быстроглазые, узкоплечие монахи, сонные женщины, прапора, офицеры-летчики. Люди шли так же, как падал снег: редко, раздельно, друг с другом не сливаясь. Они не были похожи на притертых один к другому, обезличенных поспешаньем и тщетой столичных жителей, а на кого были похожи – сразу и не скажешь.
На разбросанные в раздражении камни? На разномастных, отбитых от стай собственных, а к чужим стаям так и не приставших птиц? На смешанный неравноверхий лес, всё тянущийся в небо, пусть даже и не имея для этого сил: так его пообъели, пообкорнали…
6
В небе было морозно и было ясно.
А внизу, на выгорбленной посадской земле было ясно лишь одно: здесь кончается понимание человека “единичного”. Здесь кончается, как обрубленная железнодорожная ветка, простой и линейный путь узнавания жизни. Здесь, как трепещущий нерв, начинает звенеть и рассказывать себя – плохо выговариваемая, не всегда правильная, но все же искренне принесенная на суд к святому месту – чужая жизнь. Здесь в вечерней дымке зажигается, и невидимо сияет, слетая вниз то снежком, то светом, жестковатый, режущий язык и нёбо, ранящий нежные человечьи ступни и колени – близко-далёкий Восток.
Здесь кончается Москва и начинается Россия.
Слух
Как приходят слова? Через слух, через слух!
Только закрыв глаза, только вслепую, на ощупь, – чувствуешь, как идет жизнь.
Она идет? Идет, еще как! Каменно идет и тяжело, а потом – легко и воздушно. Она идет, летит над Стрелецкими могилами и Тешиловской дорогой, над урочищем Белые Боги и Бесовым лугом, цепляет краями Рахмановские пустоши и Юдин прудок, оставляет позади речку Торгошу, Инобожскую дорогу, Воробьев овраг. Она идет-летит к нашему подмосковному дому, и входит в него, и проносит свое хлюпающее, заполненное сработанным воздухом и семенем женское тело над квадратиками паркета, над узким ковриком… Ближе, ближе, к столу, к постели!
Жизнь идет и несет в себе то, что скрыто от глаз, что можно только услышать.
Нужно, нужно почаще закрывать глаза! Не затем, конечно, чтобы забыться навеки. А затем, чтобы все видеть, и не открывая глаз. Это, между прочим, очень и очень возможно. Ведь слух и есть наше осязательное, то есть глубинное зрение.
Вот и сейчас.
Сейчас в моем просторном слуху устанавливается, покряхтывая и шатаясь, наш дом. Весь, до трещинки, со всей своей немотой и звуками. Дом стоит в осушенном русле реки В. Рядом места древние и знаменитые: Путевой дворец царевны Софьи (разрушен), Пожарский луг (перепахан), урочище Виселицы (пока не тронуто).
Но… звуки-то в доме – вполне современные: кухонный лязг, урчанье сливных бачков, визг, сопенье, пыхтенье. Однако среди этих звуков вдруг выделяется что-то некаждодневное, не слишком привычное:
– Че-че-че… Че-че-че…
Кто-то словно бы хочет скрытным човганьем и пыхтеньем выстроить бессловесную фразу. Хочет, но не может. И тогда эту фразу выстраиваю про себя я.
“Че-че-че… идет через двор. (Пауза). С ружьем. Че-че-че… ЧЕ-ЧЕ-ЧЕ…”
Но ЧЕ – это не слог! ЧЕ (Чеглоков Евгений) – мой приятель. А зовут его так за пристрастие к черной беретке и за кустистую растрепанную бородку с небольшими на щеках прогалинами. Именно теперь, после прохождения сквозь мозг предуведомительных звуков, я начинаю отчетливо слышать: ЧЕ, таясь, вступил на нашу лестницу, миновал второй этаж и сейчас сдерживает дыхание в пролете между вторым и третьим. Значит, он идет на пятый? Зачем, зачем ему туда сейчас? Ведь на пятом этаже он бывает только раз в неделю и только вечером! А сейчас девять утра…
Тут надо пояснить: ЧЕ – ветеран всех наших необъявленных, но уже вполне состоявшихся гражданских войн. Он был в Баку в 90-м, в Карабахе в 92-м, орал благим матом в Бендерах и поскрипывал зубами в Душанбе. А не так давно вернулся из Абхазии. Ему до всего есть дело. Он всюду воевал, везде кого-то защищал, за чьи-то права вступался. И только в последних стычках между грузинами и абхазами он внезапно бросил на землю свой АКМ и, перебегая от одного леска к другому, стал упрашивать воюющих кончить стрельбу. ЧЕ не убили только потому, что хорошо знали. Его не убили, но сильно помяли (грузины) и слегка покалечили (абхазы).
Именно из Сухума ЧЕ вернулся с отросшей кустами бородой и в береточке. Вернулся, но вместо того чтобы пахать землю или возить навоз на поля – день и ночь думает об антиглобализме. И не только, конечно, думает!
ЧЕ ездит за семьдесят километров в Москву и оттуда возвращается сияющий и довольный. И это хорошо заметно. Потому, что в остальные дни он ходит по поселку огорченный и озадаченный. Именно в остальные дни его абхазская хромота, его круто гнутый соколиный нос вместе с синенькими каплями зрачков вселяют в наших трусоватых жителей тревогу и страх. А его медленные расчетливые движения даже сеют легкую панику. Сеют, потому что ЧЕ проводит антиглобалистские учения и у нас в поселке. Для этого он собирает человек пять-шесть безработных, двух-трех стариков и с десяток бросивших школу ребят. Он ведет их всех на Марьин луг, заставляет вставать-ложиться, а потом перед строем разъясняет пороки глобализма. В такие дни ЧЕ красит брови в оранжевый цвет, надевает на руки красные резиновые перчатки и надвигает беретку на самый лоб. Кончив же говорить перед строем – он поет. Поет пронзительно и фальшиво. Пронзительно, потому что когда-то «сорвал» горло. Фальшиво, потому что у него нет музыкального слуха. Но ЧЕ поет и поет! Ведь он не какой-то унтер Пришибеев. Он – одинокий воин антиглобализма. Лирический капитан разбоя.
Но сейчас, в нашем доме, ЧЕ не поет, он поднимается по лестнице. И делает это по-звериному легко и скрытно. Так в человеке, получившем удар ломом по спине, поднимается осознание новой действительности: выше, легче, к полной потере болевых ощущений, к обмороку!
“Че-че-че. (Слышишь, что будет дальше?)”
“Че-че-че. (Слышишь, что будет вскоре?)”
“Че-че-че. (Снова война, снова войны?..)”
Я съеживаюсь, а потом сжимаю кулаки. Какие войны? Войны – далеко! А вот если ЧЕ попадет вместо чердака в квартиру на пятом этаже, может произойти что-то похуже войны! Но этого не будет. Слух просто обманывает меня…
Однако выостренный, годами оттачиваемый слух обмануть не может. Он точен, он верен, непогрешим!
Между прочим, сам я делю слуховое пространство на четыре основных зоны.
Первая зона: музыка слуха. В этой зоне умещается вся наша поселковая старина с ее хитрыми словечками и несменяемыми названиями, все перечни дорог и тропинок, все перечисления людских имен и растений. Музыка слуха – лучшее из всего, что есть на свете. Она даже лучше музыки настоящей: органной, скрипичной, оркестровой.
Вторая зона – обманы слуха. Сюда входят: вся политмудятина, все базарные и лагерные слова, все чужеранящие наименования, все кликухи. Может, они не так уж вредны и не вполне злонамеренны, но они, эти слова, вводят нас постоянно в соблазн, влекут к заблуждениям.
Зона третья – вожделения слуха. Это то, что слух желает иметь в себе, но не имеет. Здесь чередой проходят все несбыточные женские нежности, все рассказы о бессмертии души и о наплывах земной мистическо-призрачной жизни. Жизни, которая зарождается в сумерках над туманящимися полями, на опушках еще не вытоптанных, не дачных лесов.
Ну и на закуску зона четвертая – войны слуха.
Войны слуха – это когда сквозь барабанные перепонки, щелкнув предательски звонкими молоточками, проникают ненужные диалоги и триалоги, бушуют в голове речёвки толпы, стоит гомон разбредающихся с антиглобалистских учений поселковых ребят. Войны слуха – самое опасное для внутренней жизни человека состояние. Их хочется тут же исторгнуть, избыть из себя, закопать в землю, загатить в болота, в топи!
Как раз такая слуховая война может сейчас во мне и вспыхнуть. Потому что я слышу: ЧЕ дошел уже до четвертого этажа. И, хотя идет он тихо, я точно знаю: ЧЕ несет с собой двуствольную “тулку”. И коробку с патронами несет. А еще у него в руках должна быть армейская фанерная, во многих местах простреленная мишень. Через несколько минут он разнесет мишень и двустволку по разным углам чердака, сядет на стул, оботрет лоб. При этом его сожалеющий вдох вполне можно будет услышать через переборки нескольких этажей.
А затем ЧЕ дважды выстрелит. И она выглянет из своей однокомнатной квартирки на пятом этаже и станет робко прислушиваться. Но прислушивайся, не прислушивайся, а ЧЕ стреляет всегда только два раза. И потому, постояв на лестничной клетке в халатике (ведь на дворе уже почти весна и можно даже предчувствовать медленно, как самосвал, надвигающееся сизо-душное лето), она быстренько спрячется к себе в меховую, ковровую норку…
ЧЕ – собирается на войну. ЧЕ собирается на войну всегда. Но особенно после выходных: по понедельникам и вторникам. Ну а каждую среду, в шесть часов вечера, после очередной войны с самим собой, ЧЕ поднимается по нашей лестнице.
Он сам определил это время: 18-00. И хотя его частенько перехватывает на лестнице наш бывший участковый Сикаев и грозит сдать с потрохами сразу во все органы – в ФСБ, МВД, НКВД и ГПУ – ЧЕ времени никогда не меняет: в 18 так в 18!
Сикаев же, грозясь и крича, попутно над ЧЕ всегда издевается, вклинивая в свои густые проклятия еще и острые змеиные шепотки, вроде таких: “Все никак, сволочь, не настреляешься?” или “Мало ты нашей кровушки попил, ирод?”
Сейчас, однако, не 18-00 – сейчас девять утра!
А ЧЕ все поднимается и поднимается. Я хорошо слышу, как он проталкивает свое приземистое, жилистое, много раз продырявленное тело сквозь кисло-уксусный воздух нашего подъезда: наверх, наверх, на чердак…
Или… в квартиру на пятом?!
Между прочим, слышу я и то, что Сикаева сейчас на лестнице нет. А я хочу, хочу, чтобы эта жирная милицейская вошь, сдавшая “куда следует” всех, кого можно, на лестнице была! Я хочу слышать Сикаева именно сейчас. Иначе слух мой окажется пустым, незаполненным. Полупустой же слух всегда терзает и мучит меня, обещая громкие неожиданности, неприятности, дрязги.
Чтобы избавиться от пустопорожнего слуха, я затыкаю себе уши пальцами. И поначалу сладко глохну. Но затем и в заткнутые отверстия вверчиваются шорохи, проникает човганье ног:
– Че-че-че. (Шаг, подъем, остановка.)
– Че-че-че. (Шаг, остановка, подъем.)
Вдруг что-то щелкает. По-военному, кратко и радостно.
Замок? Затвор? Отводимый курок? Щелчок – и все, и тихо…
Пальцы мои сами собой выдергиваются из ушных отверстий. Значит, ЧЕ хочет-таки войти в квартиру? Зачем ему? Зачем?
Я срываюсь с места, бегу к двери. Но потом возвращаюсь. Надо мне подыматься на пятый? Нет, не надо. Совсем недавно я уже сделал несколько опрометчивых шагов, обронил несколько ненужных фраз. Тогда, правда, ЧЕ не поднимался в неурочный час ни на чердак, ни на пятый этаж. Он лежал у себя в однокомнатной квартире и умирал. Умирал от нравственных страданий, от ненависти к глобализму и от простуды.
Я вошел тогда с банкой малинового варенья. Варенье ЧЕ любит не очень. Но в тот момент оно было ему необходимо для избавления от кашля, сопровождавшего нравственное умирание.
– Поставь варенье и вали.
– У меня к тебе разговор, ЧЕ.
– Поставь банку и вали со своими соплями.
– Тебя бы подлечить, ЧЕ.
– Я сам себе врач.
– Знаю. Но ты ведь…
– Ты что, не видишь, как оно все обернулось?
– Да я не про политику, ЧЕ. Я хотел про личные дела потолковать.
– Какие личные дела, когда вокруг черт знает что делается!
ЧЕ моложе меня на десять лет. И я хоть и морщусь, однако позволяю ему называть себя на “ты”. Только ему одному! Может, от ненужной в наших отношениях демократичности. Может, вспоминая о том, что он старший по званию. А может, и потому, что я, длиннорукий, тощеватый, не имеющий необходимой военной выправки, с серым лицом и неостриженными, запущенными волосами и должен прогибаться перед его посеченной порохом переносицей, его серо-стальными, вросшими в мякоть подушечек ногтями подрывника-сапера? Но, возможно, я позволяю ЧЕ обращаться к себе на “ты” и потому, что он настоящий, проверенный выездами в Европу антиглобалист. А я, хоть и не люблю всяких там сходок с мордобоем, с интересом и какой-то смутно-сладкой тоской наблюдаю за тем, куда повернет это сурово заклейменное и у нас, и за бугром движение.
– Какие такие дела? – повторил ЧЕ и потянулся за банкой.
– Ну, дела мои совсем простые. Перестал бы ты, ЧЕ, пугать пятый этаж, а? Зачем тебе это? А я…
– Втяни свои сопли обратно. Раз пугаю – значит, надо. Да и чего тебе бояться? Я же не ее лично пугать хожу. Я не по этому делу, сам знаешь. Я о другом хлопочу!..
Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят звуковые картины? Влезают в ушко…
Вот я и слышу: гулко и весело струит себя вода. Не та, что в трубах! Та, что под землей: стыло-озерная, ключевая. Куда эта вода струит себя и зачем? И зачем мне, затворнику и угрюмцу, звон ее ключей слышать? Зачем различать темновато-таинственный, исполненный неясных обещаний шум?
Но я слышу его, слышу…
Так, слышал я недавно ухающего мертвого филина. Чучело его ребята еще осенью закинули на чердак. Чучело молчаливое, одноглазое, с выскобленным и продавленным затылком… Но по ночам именно оно у нас на чердаке ухает!
А еще раньше я слышал, как ходит по квартирам третьего этажа, не обращая внимания на переборки и стены, какая-то женщина. Ее не видно, но она вовсе не привидение. Она – нечто иное. Может, звуковая волна прошлого, может, полет квартирного ветра. Внятно слышен шелест длинного крахмального платья, слышны постукивания остро-высоких каблучков, рассыпания шпилек по столу, полурусские-полуфранцузские бормотания.
Слух цепляет и другие, вросшие в трещины донных камней, засевшие в гниловатых комлях вековых дубов слова.
Среди слов этих есть вполне обыкновенные. Но есть и редко встречаемые, позабытые. Слышится, к примеру, тонкий лязг якорной цепи, а потом скорей всего голландская – воспринимаемая как испорченная немецкая – ругань. Слышен и скрежет зубовный каких-то купцов, бубнящих после скрежета всегда одно и то же:
– Трофимушка, устал?
– Ох, тяжко, Ефим, тяжко, брат. Ослобони!
– Ничего, ничего, полежи, брат, под камушком.
– Лежу-у… Лежу-у-у!
Я хочу разматывать и распрямлять только эти далекие вздохи, хочу слышать дальше, слышать глубже! Однако в бок меня толкает ЧЕ.
– Ты че? Спать сюда пришел? Говорю тебе еще раз: я не ее, я совсем другого хочу! А ты, болван, думал…
Чего он и вправду хочет, этот получеловек покалеченный внутренними войнами? Чего ему надо?.. Разумеется, ему не нужны урочища. И пустоши ему не нужны. В гробу он видал Пожарский луг и чихать хотел на Стрелецкие могилы. Тогда что, что ему нужно? Ну, понятно! Ему нужны города! А в них – его собственный, мертвый и тошный распорядок…
Пока я вслушиваюсь в себя и в плывущую мимо жизнь, ЧЕ обходит меня сбоку и готовит для приема банки с вареньем уже две руки.
В тот раз, сделав вид, что обиделся на “болвана”, я поставил банку на тумбочку и, не оглядываясь, вышел. Я, конечно, слышал то, что кричал мне в спину ЧЕ, но особого значения этим крикам не придал. А кричал он тогда нечто неправильное и попросту дурацкое, связанное с нашими поселковыми людьми и с этим чертовым антиглобализмом, который кроют почем зря на всех телеканалах и про который ЧЕ еще месяц назад мне с увлечением втолковывал:
– Они же все объединились! Секёшь? А нас всех разобщили, развели по разным углам и квартирам.
– Кто они, ЧЕ?
– Потом, подожди! У них все тишь, да гладь, да Божья благодать, а у нас внутри они гражданскую войну организовали.
– И кто же с кем сражается?
– Эх ты, балда институтская! Ну, конечно, – корысть и некорысть внутри у нас сражаются! А гражданская война внутри – она в тысячу раз хуже, чем война внешняя. У нас ведь у половины народа внутри, под ребрами, вместо сердечного клапана – граната РГ-1! Надо эту гранату из нутра вынуть и на пустоши взорвать!.. Ты пойми! Если уничтожить внутреннюю войну в каждом из нас – никаких войн на земле не останется! А глобализм мы победим и без автоматов! Как? Думать, кумекать надо. Слова надо нужные вспоминать, потом их произносить. Я уже кой-чего придумал. Хотя учти: то, что говорят эти гады, лимоновцы, я повторять не буду! Они ведь этого засланного казачка слушают. А он их всех как раз под статью и подведет. А сам, вместе с Каспаровым, в Гонолулу укатит!
– Какой “казачок”? Какого “засланного” слушают?..
Этот разговор с ЧЕ и его крик мешали мне вслушиваться в невидимую жизнь, целую неделю. Крик этот своей трубной прямотой и яростью забивал нежные слуховые каналы, расплескивал ручейки текущей по ним музыки дня и музыки ночи…
Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят люди, их образы, их поступки? Влезают в слуховое окошко.
Крики ЧЕ истаяли в весеннем воздухе, и в уши мне ввинтилась новая напасть – слова и словечки бывшего участкового Сикаева, произносимые им то у себя в квартире (громко), то на лестничной клетке (тихо).
– Всё возвращаются они и возвращаются! – так обычно начинает свои выступления Сикаев. – Их убили и в землю закопали, а они – на тебе: тут как тут! А кому они нужны, эти мертвые, эти на войнах поубитые?! Государству от них одно смущение. Ну, убили тебя, ну оконтузили, ну пообрывали руки-ноги – так и оставайся себе в песке, в камнях, в доме инвалидном! Совесть же надо иметь. Убили – не фиг оживать. Что с возу упало, то пропало. Пропавшие люди вы! И вчерашние. А нам здесь вчерашних людей не надо!









































