Текст книги "Банджо и Сакс"
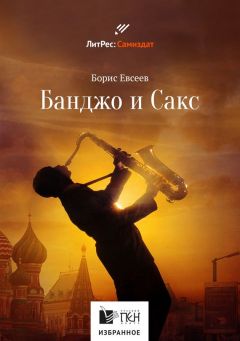
Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Эту последнюю фразу Сикаев произносит громко, наверное, даже приставляя ладонь трубочкой ко рту, потому что старается направить звук в ту сторону, где располагается квартирка ЧЕ.
– Вчерашние и работать не могут. Ну а ежели ты не можешь на себя заработать – значит, ты труп и есть!
Сам Сикаев, впрочем, давно не работает. Получает по мелочи за доносы и наводки то от местных бандюков, то от милиции. Работать с ним удобно и весело и тем, и другим. И те, и другие ценят в нем дотошность и въедливость, а кроме того ценят справедливость доносов-наводок. Он, кстати, не скрывает того, что “стучит”. Не скрывает потому, что на кого попало Сикаев ни в жизнь не стукнет! Только на тех, кто зажрался и зарвался, кто вообразил о себе много и кто не выказывает уважения к милицейскому прошлому Сикаева.
Бывший милиционер, короткорукий, толстомясый, не имеющий (в отличие от ЧЕ) в облике ничего запоминающегося, кроме отливающей луной лысины, и левого слепого глаза, портит мне слух сильнее всех. Он же чуть не стал причиной острого моего желания слух этот на время потерять вовсе.
Было так: как-то вечером Сикаев вышел караулить ЧЕ на лестничную площадку третьего этажа. В это же время стала спускаться сверху та, что жила на этаже пятом. Стукнула и входная дверь подъезда. Воображаемый треугольник, образовавшийся между ЧЕ, женщиной с пятого и мною, конечно, не мог ускользнуть от красного, обмахиваемого белесыми ресницами, единственного, но горящего во тьме ярче иных маяков, сикаевского ока.
– Ну, как знал я. – Сикаев сладко заглотнул и разлопнул в горле небольшой пакетик нашего непрозрачного подъездного воздуха. – Как знал. Ну, обождите. Я вас на чистую воду выведу!
Дверь парадного стукнула еще раз. Послышалось какое-то рокотанье. Я снова сжался в комок: выходить, не выходить? Предотвращать встречу Сикаева, ЧЕ и женщины или не предотвращать? Ведь одним выходом можно все испортить. Хотя можно и поправить.
Я тогда не вышел, и случилось вот что.
Перехватив по дороге женщину с пятого этажа, Сикаев уцепил ее за руку и стал что есть мочи и явно напоказ орать:
– Вот она! Вот она, эта мнимая беженка! Слышите, Василь Семеныч? Я вам ее истинное лицо вмиг приоткрою, как ту червовую масть!
Почему Сикаев решил, что идет Василь Семеныч, – непонятно.
Я уже открыл дверь, чтобы защитить женщину с пятого от кого угодно, пусть даже от главы нашей местной администрации, зобастого индюка с вечно текущим носом, Василь Семеныча, – как вдруг все переменилось. Женщина вырвалась, но не стала спускаться вниз, а с плачем метнулась к себе наверх. Ну а вместо Василь Семеныча снизу отозвался идущий к кому-то в гости лесник Дорофеев. Посрамленный и обманутый собственным, насквозь высверленным милицейскими свистками слухом, Сикаев убрался в свою конуру. А я, я (меня-то слух обмануть не мог!) услышал вместо всего этого дряблого театра теней нечто действительно существенное.
Услышал: где-то недалеко, в сдвоенном холодном стволе дрогнули, но тут же и замерли неизвестно для кого предназначенные пули…
Я стряхиваю с себя воспоминания и снова прислушиваюсь. Но уже не к прошлому, к настоящему.
И в этом настоящем ЧЕ прошел четвертый этаж и поднимается на пятый. Он сопит и про себя что-то считает, а может, проясняет полушепотом карту нашей местности, называя здешние места не Убогой горой, не Пожарским лугом и не Стрелецкими могилами, а специальными военными терминами.
Вдруг сопенье и шепот стихают. Сейчас ЧЕ (Чеглоков Евгений) должен опустить на бетон армейскую, во многих местах продырявленную мишень, и звук ее – глухо-деревянный – через секунду умолкнет…
Но ЧЕ не делает этого, а продолжает упорно и тупо взбираться наверх. Может, он не взял с собой мишень? А ружье взял? Взял. Это слышно по тихому пению стволов. Значит, он не мишень идет расстреливать? Кого же? Неужели ее – одинокую, дивно трепещущую, круглолицую, с двумя светлыми завитками на висках, улыбающуюся, чтобы не плакать, женщину? Нет, чушь. Ее-то за что?
Женщину зовут Марта. Она бывшая смотрительница музея. Ей нет еще и тридцати лет, и она только недавно приехала к нам из Гудауты. Марта наполовину немка. Под Гудаутой она жила с каким-то ингушом: то ли боевиком, то ли проводником. Жила, кажется, против своей воли. Ингуш этот, по слухам, куда-то регулярно исчезал месяца на полтора-два. Во время одной из разборок его убили, причем непонятно кто. Еле живая Марта вырвалась с юга, приехала к родственнице в Подмосковье. Но в день приезда родственница умерла, и теперь Марта живет в ее квартире в “подвешенном” – так говорит Сикаев – состоянии.
Сикаев сразу указал и на то, что приехала к нам Марта зря. Да и некоторые другие жители относятся к ней холодновато-сдержанно. Но это в обыденной, поселково-посадской жизни. А на работе – Марта работает в соседнем совхозе – ее страшно ценят. Потому что, хоть работы совхозной она и не любит, работает за четверых и может двенадцать часов кряду не разгибать спины, заменяя собой полупьяных мужиков и находящихся в непрерывном отгуле парней.
Иногда мне кажется: ЧЕ, Сикаев, Марта и я – мы все однодневная слабая моль! С бархатисто-дряблыми (кроме Марты) телами, с медленно усыхающими крылышками рук, хвостами ног. Поочередно, а иногда вместе, мы словно парим над осушенным руслом реки, над Марьиным лугом, над Инобожской дорогой, над родником преподобного Сергия, над Красными полями. Мы парим и знаем: никто из нас уже не спустится на землю, не будет переворачивать ее вилами, рыхлить граблями, не станет со вздохом изнеможения погружать в унавоженную землю пальцы, не будет эту почву, сладко подергивая краешками ноздрей, нюхать.
Мы сухие и ломкие, а потому – ненадежные и нежеланные. Мы – навсегда изгоняемы ждущей весенней пропашки, мощно гниющей землей!..
Я обрываю мысль, потому что слышу: ЧЕ, и вправду, не взял с собой мишень! Зато, взявшись за ручку квартирной двери на пятом этаже, он тихо отгибает ее: вниз, вниз, вниз!
И здесь, не выдержав, я кидаюсь к собственной двери. Но прежде, чем дверь моя распахивается, я слышу тонкий выщелк чужого замка: скрытно-потайной, военный! Так открывать крепко укупоренную дверь может только боец спецназа. Я выскакиваю на площадку и, выламывая шею, упираю взгляд в верхи лестницы. И вижу ноги ЧЕ. Ноги, которые, по моим расчетам, сейчас должны были втащиться в квартиру N65, отрываются от пола и, сверкнув набойками армейских ботинок, пропадают близ чердачной лестницы. Я слышу, как тихо охает, сама свою дверь и открывшая, Марта. И по звуку ее голоса понимаю: ЧЕ решил пристрелить не ее – себя!
Я не слышу и не могу слышать, как ворочаются мысли в контуженной голове Чеглокова Евгения. Но я хорошо слышу, как он радостно, даже злорадно сопит.
Я срываюсь с места. Однако не так-то просто с третьего этажа, да еще с раздраженным слухом, да с раскуроченным сердцем, с ватными от только начинающего проходить страха ногами, попасть на пятый. Я бегу тяжко, бегу, как бегают только во сне.
Однако это не сон: уже на исходе ступенек четвертого этажа я слышу выстрел. Один-единственный! Я замедляю бег, останавливаюсь, а потом, подкравшись к пожарной лестнице на носках, медленно взбираюсь на чердак.
ЧЕ сидит, привалив себя к каменному широкому дымоходу и блаженно улыбается. Беретка его – на бровях, руки в резиновых красных перчатках раскинуты. Рядом с ним лежит Сикаев с руками, стянутыми за спиной армейским ремнем.
– Ты видишь, что он, пес, придумал? Дырку в потолке пробил и “телескоп” поставил! Ну, я и пугнул его разок. Выстрелил поверх головы. Но ты в ”телескоп” этот не гляди. Я уже глянул. Пес, ах, пес!
На цыпочках, тихо и медленно, иду я к сикаевскому “телескопу”. Что-то удерживает меня, кто-то будто шепчет мне в ухо: не смотри! Но я должен глянуть. Только раз! Одним глазком!
Тем временем ЧЕ встает, лениво подходит к бывшему милиционеру Сикаеву и дает ему пинка в бок. Легонько так дает, дружески, носком сапога.
Правда, вижу я это лишь боковым зрением, потому что уже вплотную пододвинулся к странному сооружению из неширокой пластиковой трубки, нескольких луп и двух-трех консервных банок: к “телескопу” Сикаева. Внезапно я понимаю: “телескоп” скорей всего направлен в квартиру Марты! С волнением и опаской спешу заглянуть я в это самодельное чудище, чтобы увидеть ее: эту трогательно-белокурую вертеровскую девушку.
Я прикладываюсь к “телескопу” Сикаева и вижу: Марта сидит на коленях у этого зобастого индюка, у Василь Семеныча. Она уже успокоилась после выстрела, и лицо ее выражает довольство и покорность, а глаза чисто сияют. Она сидит не шевелясь, но потом вздрагивает и начинает едва заметно спускать с плеча бретельку ночной рубашки. Василь Семеныч блаженно закатывает глазки.
Это как раз про него, про индюка зобастого, месяц назад ЧЕ кричал мне в спину: “Хватит стрелять по мишеням. Теперь надо простреливать порожних людей. Словом простреливать их, словом!”
“Ты думаешь – он человек? – пожимал тогда ЧЕ плечами. – Нет, пустота одна… Помнишь, говорил тебе: встретишь Будду – убей Будду! Встретишь патриарха – убей патриарха. Встретишь пустоту – убей пустоту. Много тут у нас пустоты накопилось”.
Но это ЧЕ говорил тогда. А сейчас он наивно и блаженно спрашивает:
– Ты, наверное, думал, я себя здесь кокну? Ну не балда ты после этого, а?
«Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем лежать».
Эта присказка ЧЕ вспомнилась мне именно сейчас. И я тут же про себя к ней прибавил: лучше слышать, чем видеть!
Я закрываю глаза, отхожу от сикаевского “телескопа”, сажусь на какой-то чурбачок и пытаюсь, как и ЧЕ, блаженно улыбнуться. Но у меня не получается. Хотя закрыть глаза – вполне получилось. Тут же я пытаюсь внушить себе: все, что я видел, – фата моргана, мираж! Нам, остро слышащим, нам, застенчивым и замкнутым людям, “зримость” вещей и явлений ни к чему! А Марта… Марта, действительно, светлая вертеровская девушка, и в гостях у нее никого нет, а стекла сикаевского “телескопа” – гнусный милицейский мираж!
И здесь я наконец-то по-настоящему расслабленно и блаженно улыбаюсь. Слух, только слух! Только слух есть настоящая жизнь! Все прочее – наглый киношный обман!
Я продолжаю улыбаться, потому что слышу эту настоящую жизнь! Слышу леса и округу, чую дерзкие шевеленья в Стрелецких могилах и вздохи старинных гатей. Слышу потрескиванье будущего и хрупкое отмиранье прошлого.
Слышу, слышу!
И не могу из своего слуха вывести только одно: куда, куда, словно покинутый командой корабль, плывет по высохшему руслу реки наш дом?
Господи, да кто ж это знает?
Македонское вино
– Не осерчаете, если потревожу вас?
– Пустое…
– Сегодня такой странный день…
– Я бы скорей сказал – тяжелый.
Сумеречный, запредельный май. С сухими грозами, с улетающей ввысь желтовато-зеленой ольховой пыльцой, с обморочно низкими валами воздуха, неслышно идущими над самой землей.
На столе хлипком, косеньком стоит накрепко впечатанная в грязно-серые доски бутылка. Донце ее залеплено жирным, еще недавно скворчавшим, брызгавшимся и раскапывавшим брызги в стороны кладбищенским стеарином.
Дача, красноватый кремнистый песок, Подмосковье. Уже стукается в ворота сизой голой башкой лето: муторное, мусорное, жлобски взблескивающее мутноватой слезой в алкоголических навыкате глазах. Сейчас, кажется, ворота разъедутся в стороны, лето ввалится во двор и пойдет шататься по ноздреватому от лунок участку: как пьянчужка, с разодранным воротом, с вывернутой до кишок ширинкой.
Не выдерживая густо-налитого невидимой кровью воздуха, не в силах выносить тяжкий летний дух, распирающий квадрат двора, спускаюсь вниз, к зеленоватому, битому, грубо похрустывающему меж камней, зеркалу реки. К тому самому месту, где два года назад мы с ней и встретились.
– …и день странный, и дачи здесь тоже странные. Огромные, а сами без весу. Сколько им может быть лет?
– Пожалуй, за сто перевалило.
– Так я и думала! Ну а жили-то в них, видно, всё господа важные: становой пристав, податный инспектор…
– В них жили балерины Императорского Большого Театра. Для балерин и строили.
Тогда, два года назад, она стояла на каменном горбленном мосту, держалась обеими руками за перила и чтобы лучше видеть полускрытые лиственницами огромные, корабельные, двух и трехъярусные деревянные дачи, время от времени поднималась на носки и радостно встряхивала головой, словно получая от созерцания дач необыкновенное или, может, какое-то изысканное удовольствие.
Я безвыездно прожил на даче всю зиму, большую часть весны, слегка одичал и после краткого разговора, стоя на противоположном конце моста, молчал. Тогда она – все так же держась двумя руками за перила – передвинулась ко мне едва ли не вплотную и робко-вопросительно, но при том и как-то лукаво заглядывая снизу вверх в глаза, полушепотом отрапортовалась:
– Я-у-бе-жала-из-дому…
Мне стало не по себе. В сущности это было невыносимо! Только что – два или три часа назад – моя приятельница, жившая со мной последние полгода, в который раз запричитала: ”Я уйду, уеду…”, – и действительно, собрав кое-какие вещи, уехала. Повторное сопряжение легкой наглецы, наива, а главное, пренеприятная связка глаголов “убежать-уехать” взбудоражили меня. Это наверняка отразилось на моем лице, потому что она тут же добавила:
– Не навсегда, не насовсем убежала… А балеринам здесь, кажется, отдыхалось недурственно! Может сам Государь Император навещал их иногда…
– Да уж. Скорей его приближенные. Те-то здесь времени точно даром не теряли, – как-то совсем уже неприязненно закончил я за нее.
Она обиделась, запнулась на полуслове. Хотела даже развернуться и уйти (во всяком случае, оглянулась назад, в сторону леса).
– Не обижайтесь, – нехотя жуя во рту слово, которое мне совсем не хотелось произносить, сказал я. – Вы что, в детстве балериной быть хотели?
– Представьте, нет. – Она зачем-то снова поднялась на носки, потом опустилась на полную ступню. – Не хотела. Но вот стала же. Не балериной, конечно, а так… Ночной бабочкой… Или, как их теперь в песнях называют… – Она не договорила, что-то острое, дико-злобное, мелькнуло в больших, тепло-блескучих глазах её. Она отступила на шаг, чтобы на этот раз уйти окончательно.
Не скажи случайная знакомая про ночную бабочку, я наверняка так и дал бы ей уйти. Но за её спиной с грубоватыми стонами, – пугая, маня, – пошатывался майский, по краям чуть засвеченный зеленью лес. На фоне леса она показалась мне такой же уязвимой, как первая летняя бабочка, и такой же брошенной, как я сам. Этой брошенности вдруг стало жаль:
– Погодите… Ну что там песня. Мало чего теперь в песни не насуют!
Она вернулась, подняла на меня вмиг увлажнившиеся от радости глаза с чуть розоватыми белками, с желудевым, слабо-коричневым зрачком:
– Вы про бабочку не верьте. Просто я с техникой забарахталась. Порхаю от компьютера к компьютеру. Там, знаете, тоже всё бабочки по экрану… Мельтешат, роятся… У меня есть бутылка вина. Отменного, – голос ее упал до шепота, – но-открытья-его-немо-гу… Немо…
Новая моя знакомая вдруг до жути, до красноты бурой на шее, на щеках, засмущалась, свесила голову.
– Не надо было вам говорить этого.
– Ну отчего же. Как раз – надо. А бутылку я открою. Пойдемте, – неожиданно для самого себя закончил я.
Робко и одышливо, удивляясь происходящему, чуть нелепые в полувесенней жаркой одежде и тяжелой, едва ли не зимней обуви (тянулось и никак не могло окончиться прохладное утро), я – костистый, высокий, она – пухловатая, не выше среднего роста, в короткой, шевелящейся при ходьбе стрижке и с ямочкой на одной из щек, – мы стали подниматься по аллее в дачный поселок.
Ну, ищущие знакомств подмосковно-московские дамы хорошо всем известны: теперь она должна была весело и без удержу, сглаживая безрасчетную свою прямоту, начать без удержу тараторить, должна была разговорами о театре, на худой конец о балете доказывать свою непричастность к жадному и гнусному племени новейших путан.
Но она молчала. Наконец, когда мы одолели пол аллеи, насмешливо, но и с глубоко упрятанной печалью, спросила:
– Вы дачник?
– Квартирант.
– Я тоже снимаю квартиру. Но почти в Москве, на Тайнинке. А здесь была давно, лет пять назад. И вот… Решила заехать. Лес здесь особенный, и болота вокруг удивительные: радостные, веселые! И вереск на них уже зацвел…
Как бывалый загородный житель, я про себя снисходительно ухмыльнулся: вереск на болотах – и точно был, но пока, конечно, не цвел.
Не торопясь, словно нехотя, подошли мы к снимаемой мною даче. Снова налетел знобящий майский ветерок. И в его порыве мне почуялся вздорно-насмешливый голос моей, только что съехавшей с дачи приятельницы: “Не успела я за калитку, а он уже по всему поселку за бабами шастает!”
Это была брехня, и была чушь! Ни за какими бабами по аллеям никогда я не шастал, просто приятельнице отчего-то всегда так хотелось думать. Возмущенный томяще-звонкой глупостью съехавшей приятельницы и ей назло, я резко толкнул калитку.
Целый день мы просидели на даче, забыв про бутылку вина, ради которой на дачу и шли, рассказывали ничего не значащие истории, обнимались и слегка касались друг друга губами, остальное как-то дружно, и не сговариваясь, отложив на вечер. Вечером вышли ненадолго погулять. Возвращаясь, я еще издали заметил: в комнате моей горит свет. Бесшумно отворив калитку, подошел к окну, заглянул за жиденькие шторки: приятельница, утром покинувшая меня навсегда, вернулась. Слегка помедлив, я вернулся к моей новой знакомой, стоявшей поодаль.
– Ты знаешь, моя… Ну, я ведь говорил тебе… В общем, она здесь.
– Принеси мою сумку. Я побегу, пойду…
Даже в полутьме я почувствовал, как она вздрогнула и, уже не переставая, дрожала весь вечер и часть ночи, дрожала так, словно ей вынесли смертный приговор. Да! Верно! Именно такая дрожь, какую видел я когда-то у подсудимой, ждавшей на одном из судебных заседаний приговора, ухватила и хищно трепала ее тогда!
– Принеси… – шепотом повторила она.
На носках вошел я в плохо освещенную каменную дачу, нашел в сенях сумку, мы все так же сторожко выкрались со двора и за калиткой в растерянности остановились.
– Я побегу… Пойду на поезд, – снова забеспокоилась она. Тогда я ухватил ее за рукав куртки и грубо, как-то совсем по-бандитски, поволок в противоположную от станции сторону, к одной из темных, пустых, строенных еще в позапрошлом веке дач.
Мы лихо перемахнули забор и, отколупнув нехитрую защелку, пробрались на веранду. Там было сыро. Я опять почувствовал: спутницу мою крупно и непрерывно бьет дрожь.
– Давай выпьем… Где вино? – Я нетерпеливо полез в ее сумку.
– Не сейчас. Потом…
– Ты вся дрожишь. Выпей – согреешься!
Я выдрал у нее из рук сумку, выхватил из сумки бутылку, сбил с горлышка щелчком акцизную марку, скусил пластмассовый колпачок и, утвердив бутылку на столе, стал большим пальцем продавливать пробку внутрь.
– Мне лучше уйти… – вновь лепетнула она.
Тогда, оставив бутылку, я стал торопливо, не разбирая застежек и пуговиц, раздевать ее.
Ни топчана, ни укладки, ни какого-нибудь рундука на веранде не было. Зато было соломенное, качающееся на двух напольных дугах кресло. На него мы и взгромоздились. Потом, чуть успокоившись, перелегли на пол, постелив на него всю сброшенную с себя одежду. Спутница моя согрелась, дрожь ее стала беззаметней, мельче.
– Ты спас меня, спас… – твердила она, – спас, а я… – Тут, спохватившись, она шлепнула себя пухлой ладошкой по лбу.
– Вино! Теперь можно и выпить!
Было совсем уже темно. Я нашарил на столе спички, отыскал неглубокую мисочку с расплавленным, застывшим, а потом раскрошенным огарком свечи и торчащим из стеариновой каши фитильком, затем “каганец” этот зажёг («каганцом» называла мисочку со стеарином наша соседка, высокая, мосластая, до смешного распрямленная какими-то корсетами и накладками старуха, смертельно боявшаяся электричества и приезжавшая на дачу с инспекционными осмотрами каждую субботу). Нашлись и стаканы. Мы выпили слабо-ароматного, ломящего зубы вина, и я тут же, на полу, в ворохе одежды стал забываться прерывистым и тревожным полусном.
В полусне этом душном, в полусне мучительном, слышны были слова лежавшей рядом женщины. Она восторженным шепотком рассказывала о вине, заменяющем кровь, о винных десятивёдерных бочках, закапываемых где-то на юге при молодом месяце в теплую осеннюю землю, о медленно и глухо вызревающем в бочках царском напитке, о запойной капле, иногда добавляемой в бочку.
В ушах у меня стоял бродильный гул, мельчайшие пузырьки дивного хмеля плыли и лопались в воздухе, тихо-слабо разрывались в мозгу. А в ноздри и в рот лез обморочно-сладкий запах убоины, словно был я укрыт шкурой, содранной ловким драчом с давно издохшей овцы…
Вслед за гулом и запахом убоины посыпались выкрики на непонятном, хотя и явно знакомом по университету языке. Это был греческий разговорный язык “койнэ”. Я его все так же не понимал, но стал вдруг чувствовать ранее от меня скрытую силу, даже мощь этого языка… Вскоре выкрики как-то сами собой, не переводясь на русский, прояснились: они от чего-то предостерегали, чему-то неведомому, а возможно и непоправимому, предшествовали…
После выкриков, медленно и высоко подскакивая на плохо седланных конях, вломились на дачу, прошли ее насквозь, таща за собой обломки дерева, металлические прутья и всяческий лом, всадники в медных, тяжко сверкнувших нагрудниках. Дико громыхнули колесницы. Мелко и гадко орущие рабы провели трех коней в поводу, затем остановили их, принялись окатывать потные лошажьи спины приторным, доводящим до рвотного спазма виноградным суслом, тут же омывки стали собирать в серебряные лохани, стали, захлебываясь, эту бурду пить, а потом, будто дразня кого-то, начали еще гаже, еще мелочней прежнего орать…
Вдруг вся эта галиматья, как мелко исписанная табличка в справочном вокзальном автомате, трепыхнула металлическими крылышками, перевернулась, полыхнула на лету коричневатым торфяным огнем, и, сухо, как зеркало, треснув, шваркнулась оземь, расплавилась.
Я с усилием раздернул веки. Красноватый огонек “каганца” брызгался-трещал высоко над столом в руках у покинувшей меня навсегда университетской приятельницы. Она стояла на пороге незапертой веранды и, поднеся огонек близко к лицу, невидяще жмурилась. Потом как-то безразлично и устало произнесла.
– Так значит это ты Зоя? Про тебя мне, зараза, и говорили…
– Меня зовут Кира, – важничая и моментально по-детски надув свои и без того пухлые губы, сказала лежавшая рядом со мной.
После вина и краткого забытья у меня ломило затылок, покалывало веки, кроме того, сразу стал тяготить повисший в воздухе скандал. Мне казалось – я снова слышу крики, на этот раз женские, слышу свистящую ругань. Сев, я дотянулся до бутылки на губах чуть кислящего, но под нёбом и в горле мягкого и не вызывающего обычной изжоги вина, приготовился из горлышка пить.
Но тут же в ушах засвербели бормотанья из недавней полуяви:
“Вино… Вино… – вздувались и лопались в ушах, в мозгу, в гортани, то ли мои, то ли чужие слова. – Вино сладкое, вино царское, вино многопьяное! Заброди темной тучей, умягчись крохкой землей. Но не забирай мою кровь. Пои, да не допьяна, пои, да не до смерти. Винного хлеба дай и винного мяса, но не топи в черном болоте, не дави тяжкой горой. Дай на иную гору взойти! На горе той сидят три архангела, три царя сидят, три святителя…”
Дальше в уши полезла совершенная уже нелепица.
Сбрасывая наволочь сна, я тряхнул головой, сделал долгий глоток.
– Не пей много…
Кира повисла на руке, отняла бутылку, вскочив на ноги, поставила бутылку на стол. На ней уже была моя рубаха, застегнутая на все пуговки – от шеи до сильно тончающих к коленкам бедер, – и она вновь как в лихорадке болотной дрожала. Правда, на этот раз дрожь была не такой крупной, была даже какой-то радостной. Чуть полноватая, но очень подвижная Кира, колобком подкатилась к стоящей в дверях, встала на цыпочки и, закрыв глаза, неожиданно поцеловала соперницу в подбородок.
– Простите, простите… – лепетала Кира, – ваш муж (зачем она произвела меня в мужья, я так и не понял), ваш муж не виноват… Ни сном, ни духом… Это я… я!
Кира снова поднялась на носки, готовясь во второй раз поцеловать стоящую на пороге. Та отшатнулась, но не уходила.
– Вы же умная, образованная женщина, – опять зачастила Кира. – А здесь вино… Вино и ничего больше… И… и… – радость переполняла Киру.
– Зараза, тварь! Еще рот раскрываешь! От тебя-то и остерегали меня. Из-за тебя я тут околачиваюсь. И зовут тебя по-другому! Ну да ладно. Поглядела, и будет. Оставайся с ней, – приятельница полуобернулась ко мне, – если жить надоело.
– Нет! Не уходите! – вдруг жалостно и надрывно, какой-то неуклюжей ночной птицей выкрикнула Кира.
Она бережно и крепко ухватила мою приятельницу за руки, потянула на середину веранды.
Тем временем огонек “каганца”, давно мигавший последней предсмертной краснотой, погас. На минуту все стихло, стал слышен ровный гомон леса, заполошно свистнула торопившаяся к Москве электричка. На веранде остро запахло вековой сыростью столетних досок. Запах сырости как-то неприятно смешивался с запахом перегоревшего фитиля. Я продолжал по инерции смотреть туда, где стояли две женщины.
Мне казалось, что одна – высокая, белокурая, тонкая – стала вдруг еще выше, волосы ее, как в воде, медленно разошлись в стороны, взметнулись кверху, застыли над головой золотой языческой короной. Засверкал в случайном отсвете далёких фар, не просто красный, – огненно-алый, кровоточащий рот. При этом руки сомкнулись у горла второй, маленькой, пухлой, коротко остриженной женщины. Однако маленькая проворно отошла в сторону, враз согнула – словно готовясь к прыжку – голые ноги в коленях, в руке у нее синеватой сталью блеснул нож…
На старухиной веранде кроме нелепого светильника-каганца – было, конечно, и электричество. Судорожно припоминая, где может быть выключатель, я опрометью вскочил, кинулся к боковой стене, щелкнул пластмассовым рычажком.
Все та же, что и от “каганца” красноватая муть разлилась по веранде. Никакой волосяной короны, никакого ножа с голубеющей сталью не было и в помине. Но то, что я увидел, было никак не лучше: быстрыми, сноровистыми движениями, подымаясь от старания на цыпочки, роняя шепотом какие-то обрывочные слова, Кира раздевала мою неожиданно нагрянувшую приятельницу. Та слепо щурилась, безвольно дергала верхней, капризно изогнутой губкой и тоже дрожала лихорадочной дрожью. Кира сняла уже и кинула на стол легкую кофточку, высмыкнула из юбки и теперь расстегивала сиреневую блузку. Внезапно засмеявшись от счастья, она прикоснулась к ключицам раздеваемой поочередно обеими щеками.
– Помиримся… Помиримся… – лепетала она. – Теперь и вы, и вы меня поцелуйте… Просто так, в знак замирения… Сюда… И… Сюда… – снова и снова становясь на цыпочки, подставляла она свои щеки, шею, висок…
– Ты! – вдруг очнулась полураздетая приятельница. – Ты… Это же мертвячка! – вызверилась она теперь уже на меня. – Куда ты, пентюх, смотрел!
– Нет. Что вы. Даже не думайте. Я живая! Я помирить вас хочу! Укусите, если не верите. Вот мое тело… Берите… Пробуйте…
Продолжая нести тупую околесицу, Кира тем временем сдирала с соперницы последние лоскутки одежды.
– Гадюка… Тварь! – очнулась окончательно университетская приятельница и, разомкнув кулак, неожиданно выпустила острые коготки прямо Кире в лицо. Она целила в глаза, но Кира чуть отступила, и длинный ноготь среднего пальца, падая вниз, глубоко вонзился в пухловатую шею, пониже левого уха.
– Так… так… так… – вышёптывала Кира, – а теперь язычком, теперь губами, прошу вас! – Она вдруг ловко притянула голову соперницы к себе, та мимовольно ткнулась губами в пораненную шею, раздался едва слышный смокчущий всхлип, за ним слабый стон…
– Есть, ее-е-а! – крикнула Кира.
Внезапная перемена произошедшая со всеми нами, поразила меня.
Кира – нежная, чуть полноватая, деликатная и неумелая в любви Кира – зашлась вдруг в наглом, необузданном хохоте и, валясь рядом со мной на тряпки, грубо дернула на себя мою приятельницу. Та, опускаясь на пол, всхлипнула, а затем тихо, но безудержно завыла.
Незадолго перед тем я снова выпил глоток вина из горлышка высокой рейнской бутылки и вдруг совершенно опьянел. Но и сквозь хмель чувствовал в происходящем какую-то опасность и нарастающую по отношению ко мне враждебность. И хотя Кира тут же наглый хохот свой прервала, стала как и прежде смеяться кротко, нежно, – из нее словно бы повыпустили закачанный в ткани и полости тела воздух. Лицо Киры враз исхудало, осунулось, из глаз исчез обширный лаковый блеск, ушла радость, за которую как за соломинку зацепился я утром. Теперь глаза ее выражали хищноватое и жесткое довольство. Казалось, Кира получила то, что желала. Да и еще кое-что в придачу получила!
“Придача”, как мне почудилось, в смутительном ночном свете, состояла вот в чем: это мне предстояло прокусить или проткнуть насквозь бархатную шейку!..
И сейчас Кира, казалось, радовалась именно тому, что так кстати подвернулась моя приятельница, что не я, случайно встреченный, но до темноты в глазах ей понравившийся прохожий, сделал это…
Кира продолжала подталкивать университетскую приятельницу ко мне. Голову мою вертело как в луна-парке, опьянение и дурнота нарастали. Непонятно как – мы соединились. И тут же Кира, изловчившись, прижала свою не засохшую ранку близ уха к губам моей подергивающейся в последних судорогах страсти партнерши. Та, видно не сознавая, что делает, опять с легким хрустом потянула в себя кровь. Кира залилась хриплым звоночком, и я опять услышал в её голосе утреннее счастье.
А приятельница моя замерла, окостенела. Кожа на лице ее стала грубой, свекольной, веки покраснели, по телу спиралью прошла еще одна судорога: на этот раз рвотная…
– Вина… Вина выпейте! – вновь нежная и в меру робкая Кира вскочила, слегка оттягивая книзу влипшую в спину рубаху, кинулась к столу. Она налила четверть стакана, потом, примерившись, добавила и чуть не силой заставила мою приятельницу выпить. Та выпила, шатаясь встала, дошла до соломенного качающегося кресла и, кинув на кресло что-то из одежды, тяжко в него опустилась.
– Она подмешала в вино какой-то дряни, – глядя в заоконное пространство и словно бы в пространство это пророча, сказала деревянным голосом университетская приятельница. – Нам с тобой каюк…
– И не думала, и не думала подмешивать! – прежние извиняющиеся нотки послышались в голосе Киры. – А вино я в лавке беру, на Покровском бульваре. Просто у него вкус такой необычный. Вот мне и понравилось!
Я молчал. Головная боль возобновилась. Странное и непреодолимое влечение к встреченной утром женщине натыкалось на смутные мысли о том, что она возможно не вполне психически здорова: оттого и хрипит здесь сладко, оттого и летает по даче, отяжелев от моего семени, как комар-кровосос нежный!.. “Ну, какой кровосос? – успокаивал я себя, – те кровь пьют, а она наоборот, отдает… Вот только зачем, зачем?”
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































