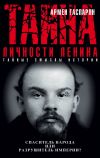Текст книги "Политическая критика Вадима Цымбурского"

Автор книги: Борис Межуев
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Когнитивные аспекты советской реформации
Политические воззрения периода последних лет горбачевской «перестройки» Цымбурский выразил в серии статей, написанных для журнала «Век XX и мир». В числе заместителей главного редактора журнала с 1989 года был советский диссидент, один из лидеров движения неформалов и впоследствии генеральный директор агентства «Постфактум» Глеб Павловский. Имперско-либеральная линия, которая в определенной мере стала проявляться в издании с середины 1990 года, в первую очередь была связана с его личным влиянием. Цымбурского как автора в журнал привел знакомый Павловского, филолог, специалист по древнегреческой литературе и мифологии Гасан Гусейнов. В соавторстве с Гусейновым и другим классическим филологом по образованию Денисом Драгунским Цымбурский опубликовал в журнале с 1989 по 1991 год четыре статьи. Наиболее заметной из них был текст, вышедший в августовской книжке этого ежемесячника под броским заголовком «Империя – это люди».
Авторы решились бросить вызов распространенным в тот момент в демократических кругах представлениям о реакционности империи, заявив, что
«Запад <…> должен сохранить империю – Россию народов», пока она не успела превратиться в политический Чернобыль, угрожающий всему постимперскому миру»[21]21
См.: Гусейнов Г., Драгунский Д., Цымбурский В. Империя – это люди // Век XX и мир. – 1990. – № 8; http://old.russ.ru/antolog/vek/1990/8/dragun.htm.
[Закрыть]. Запад, настаивали авторы, обязан протянуть руку горбачевскому СССР, чтобы не допустить хаоса, взрыва национализма и трайбализма на всем пространстве тогда еще существовавшего, хотя и дышавшего на ладан СССР.
Наиболее интересным моментом этого цикла статей было выдвинутое авторами определение «империи», суть которого можно свести к формуле, по правде говоря, более звучной, чем внятной – «нормы выше ценностей». Основной принцип империи, заявленный тремя либеральными публицистами, – «это общность определенных норм, стоящая выше многообразия сепаратных ценностей и обеспеченная военной, экономической и иными силами». Различие между «нормами» и «ценностями», которое остается, увы, в статьях из «Века XX» совершенно не раскрытым, получает разъяснение в социологии Толкотта Парсонса, которой тогда увлекался Цымбурский. Согласно Парсонсу, «ценности» располагаются на пересечении культурной и социальной подсистем общества, тогда как «нормы» всецело принадлежат сфере «социальности». Проще говоря, «нормы» служат исключительно интеграции индивидов в рамках того или иного общества, тогда как, ориентируясь на «ценности», индивид или группа индивидов может бросить этому обществу вызов от имени неких высших, превосходящих значимость самого этого общества идеалов. Но поэтому, с точки зрения Парсонса, не только «империя», а фактически любое претендующее на устойчивость общество так или иначе вынуждено подчинять «сепаратные ценности» «общезначимым нормам» либо обосновывать эти «нормы» некими высшими и популярными «ценностями».
Очевидно, что в предложенной авторами формулировке нет никакого определения «империи», но есть явное стремление оправдать целостность государства, оставаясь в западнической, принципиально секулярной идейной традиции. Традиции, которая всегда указывала на «законность» и «право» как на некие если не более фундаментальные, то более современные и прогрессивные принципы общежития, нежели религиозные нормы и даже нравственные максимы. Не случайно авторы в откровенной полемике с современными им демократическими публицистами (своего рода идейной предтечей которых выступает в одной из статей диссидент Андрей Амальрик, предсказавший неминуемый распад СССР еще в конце 1960-х) избирают в качестве эталона империи исключительно Рим, а также колониальные европейские империи Нового времени, забывая и про Византию, и про арабский Халифат, и про империю Карла Великого: каждая из этих империй явно не отличалась индифферентностью в отношении «своих» и «чужих» «ценностей».
Теоретическая состоятельность «имперско-либерального» цикла статей Цымбурского, написанных им в соавторстве с Гусейновым и Драгунским, наверное, не имела для них принципиального значения, поскольку перед тогдашними единомышленниками стояла вполне определенная политическая задача – не допустить, чтобы немедленный или же отложенный коллапс социалистической системы привел к краху вестернизационного процесса на евразийском пространстве. В 1989–1991 годах Цымбурский как автор «Века XX» еще вполне определенно воспринимал себя в качестве политического публициста, но не политолога. Надо сказать, что впоследствии именно этот неудачный опыт дилетантского теоретизирования привел к тому, что он упорно не желал вновь становиться публицистом, даже сотрудничая с теми изданиями, в которых именно этот сравнительно легкий жанр был бы наиболее востребован. Кстати, данный нюанс отчасти объясняет явную нелюбовь ученого к его наиболее известной политической статье «Остров Россия», нелюбовь, о которой он неоднократно сообщал в частных беседах с друзьями и коллегами: Цымбурский считал этот труд последним по времени опытом политической публицистики в духе «Века XX». И к этому жанру он не собирался возвращаться. Его тексты на злободневно политические темы, время от времени появлявшиеся в печати и в Интернете, чаще всего представляли собой авторизованную запись его устных выступлений, и эти публикации по качеству не могли идти ни в какое сравнение с его филигранно отработанными «интеллектуальными расследованиями» в области геополитики, теории международных систем или политической когнитивистики.
Между тем, как я предполагаю, именно этот очень внятный политический заказ, который сам перед собой поставил Цымбурский, определил направление исследований в новой для него области политических наук, которую он вынужден был избрать для себя, неожиданным образом оказавшись в 1986 году в Лаборатории анализа и моделирования политических и управленческих решений Института США и Канады. Под крылом тогдашнего заместителя директора Института Андрея Кокошина Цымбурский вовлекается в работу по концептуальному оформлению разоруженческого процесса, вместе с руководителем Лаборатории политологом Виктором Сергеевым он занимается анализом понятий «угроза» и «победа» в советских военных доктринах. К исследованию семантики этих категорий в официальных документах военного ведомства он применяет свои навыки филолога и одновременно хорошо знакомый Сергееву аппарат когнитивной науки – гуманитарной дисциплины, изучающей способы представления в человеческом сознании тех или иных феноменов политики, истории и общественной жизни в целом.
Лично я – полный профан в этой научной дисциплине, и потому о научной весомости когнитивных штудий Цымбурского подробно говорить не буду. Мне интереснее другое: все конкретные направления политологических исследований Вадима Леонидовича, начатые им в сотрудничестве с Виктором Сергеевым или же под его руководством, если посмотреть на них в целостности, представляли собой последовательную программу интеллектуальной модернизации – по Цымбурскому правильнее было бы сказать реформации – советского общественного сознания и, как следствие, общества в целом. Цымбурский как политолог во множестве своих завершенных и незавершенных интеллектуальных предприятий, на мой взгляд, был творцом определенной программы, нацеленной не просто на политическое сохранение советской империи, но и на ее духовное преобразование.
Итогом работы ученого в области анализа военных доктрин СССР и России стал увесистый научный доклад, выпущенный в виде монографии Российским научным фондом в 1994 году[22]22
Цымбурский В. Л. Военная доктрина СССР и России: осмысление понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века. – М.: Российский научный фонд, 1994. Вып. 6.
[Закрыть]. Однако первые результаты исследований группы Сергеева были обнародованы на той самой конференции в Таллине в январе 1989 года, посещение которой стало причиной появления вышеупомянутых «Эстонских заметок». Своего рода синопсис доклада лаборатории Сергеева был опубликован в декабрьской книжке «Века XX и мира» за 1991 год под заглавием «Эволюция фразеологии “победы” в советской военной доктрине»[23]23
Кокошин А., Сергеев В., Цымбурский В. Эволюция терминологии «победы» в послевоенной советской лексике // Век XX и мир. – 1991. – № 12; http://old.russ.ru/antolog/vek/1991/12/kokosh.htm
[Закрыть]. Под небольшим текстом стояли фамилии Андрея Кокошина, Виктора Сергеева и Вадима Цымбурского.
Главным открытием, сделанным в результате исследования, стал факт исчезновения понятия «победа» в военных доктринах позднего СССР и, соответственно, исчезновение представлений о рациональных целях войны. Как показывает Цымбурский, при Сталине главным обстоятельством военной победы оказывалась некая ставка на «постоянно действующие факторы» успеха, под которыми понимались преимущества социалистической системы и ее фундаментальные ценности. Впоследствии же творцы советских военных доктрин соединили ценностный фактор победы с фактором геостратегического преимущества, обусловленным в первую очередь обладанием современным ядерным оружием. Однако эта попытка – Хрущева и Малиновского – уравновесить фактор «правды» фактором «силы» не была доведена до конца, поскольку уже при Брежневе сам ценностный фактор начал мыслиться военными стратегами в качестве отказа от «преимущества», стремление к которому теперь стало уделом империалистических агрессоров. С брежневских времен социалистическое Отечество должно было ориентироваться на «решительный отпор» агрессорам, стремящимся к катастрофическим в ядерный век «победе» и «превосходству». Горбачевскому «новому мышлению» оставалось лишь дополнительно морализировать эту криптопацифистскую модель военного стратегирования, чтобы обосновать целый ряд односторонних уступок в сфере разоружения.
Цымбурский обнаруживал две причины такого явного тупика в области стратегического мышления военных стратегов Советского Союза. Прежде всего над ними тяготел сценарий Великой Отечественной войны – и «угроза», и «победа» всю позднюю советскую эпоху мыслились по аналогии с нападением гитлеровской Германии на СССР в июне 1941-го и взятием Берлина в мае 1945-го. «Война» же воспринималась как полномасштабное вторжение сил противника на территорию СССР или его союзников, которое, после трудного столкновения, должны увенчать отражение нападения врага и его разгром.
Между тем, как заметил Цымбурский, штудируя работы Киссинджера и других западных военных теоретиков, в современной американской мысли клаузевицевское представление о «войне» и «победе» последовательно сменяется как будто предшествующим ему, когда «победа» мыслится не как полное уничтожение врага, а как выбивание у него максимальных уступок. Советские же военные стратегии этот важный сдвиг в восприятии войны проморгали, виной чему отчасти было то обстоятельство, что над ними довлел, как изящно формулирует Цымбурский вместе со своим соавтором Сергеевым, «поведенческий сценарий» великой войны и великой победы. Стратеги все время ведут и выигрывают предыдущие войны, тем большее восхищение вызывали у Цымбурского те западные политические мыслители, которые смогли осмыслить новую ситуацию в сфере политического планирования, определяемую появлением «ядерного оружия» и блокированием масштабных стратегических замыслов в связи с тем же обстоятельством.
Вскрытие причин стагнации советской военной мысли открывало несколько новых направлений исследования: обнаружение смены одного понимания «победы» иным в клаузевицевскую эпоху и затем возвращение к предыдущему в период «ядерного пата» стало отправной точкой для выделения ученым милитаристских циклов в истории Европы[24]24
См.: Цымбурский В. Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // Цымбурский В. Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – С. 65–104; первая публикация: Полис. – 1996. – № 3.
[Закрыть]. Циклов, которые рождал последовательный прогресс средств уничтожения противника, в ряде моментов, в том числе в эпоху Клаузевица, перебиваемый скачкообразным расширением ресурсов военной мобилизации населения. После того как в XVII столетии ружейным залпом оказалось возможно выбить более половины личного состава противника, а противник, соответственно, был в состоянии сделать то же самое, о решительных «победах» и «разгромах» пришлось забыть примерно на 150 лет, пока наполеоновская Франция не решилась на всеобщую мобилизацию мужского населения своей страны. Война приобрела недостающую динамику, а политика – масштабные цели и задачи, включая устранение с исторической сцены целых государств и династий. А затем, спустя 150 лет, пришел век ядерного оружия – и все вернулось на круги своя.
ИСКАНовское штудирование советских военных доктрин явно не прошло для Цымбурского даром: вся серия его геостратегических текстов о разного рода циклах в истории Европы, очевидно, проистекает из этой вроде бы скромной когнитологической задачи – понять, как после Второй мировой войны СССР мыслил свой возможный военный успех.
Однако для осознания целостности гуманитарного замысла Цымбурского важно другое: понимание, что проблемы СССР не столько технологического, сколько интеллектуального порядка. Для их разрешения необходима даже не экономическая реформа, значение которой Цымбурский в тот момент не отрицал, а интеллектуальная критика, и в первую очередь – критика политическая, критика моделей и сценариев в сфере политического целеполагания. Здесь он точно обнаруживает «уязвимое место» советского общественного сознания как такового – недостаточную дифференциацию областей целеполагания и целедостижения.
«Ценности» в советском общественном сознании были еще слабо отделены от «ресурсов», а также от «поведенческих сценариев»: они либо мыслились магически – как некие таинственные энергии, приобщение к которым само по себе делало их адепта непобедимым (в духе пресловутой ленинской фразы «учение Маркса всесильно, потому что верно»). Либо, напротив, считались оправданием отсутствия «силы» (в духе приписываемого Александру Невскому высказывания: «не в силе Бог, а в правде). Между этими полюсами и колебалась стратегическая мысль СССР, как будто не способная рационально отделить «ценности» от других факторов «целеполагания». В более поздней статье «Человек политический между ratio и ответами на стимулы», опубликованной в 1995 году в журнале «Полис», Цымбурский подведет итог своим вместе с Виктором Сергеевым поискам правильной, как он считает, целе-рациональной, модели принятия решений. Этот итог появится как ответ на вопрос, почему эта модель не могла быть сформулирована в острую фазу противостояния с США периода холодной войны:
«Неизменными свойствами советской военной доктрины второй половины века оказываются невыделенность блока “ценностей” в явном виде, их склеивание с другими блоками – то с “ресурсами”, то с “образом мира”, то, наконец, с “поведенческими схемами”. Похоже, отечественная военно-политическая ментальность этих лет проявляет неспособность ориентироваться на ценности, которые не обладали бы некой “магической” властью над миром, иногда откровенно заявляемой, иногда подспудно принимаемой за данность, или, по крайней мере, не предъявляли бы потайных претензий на такую власть, будучи “невротически” упакованы в сверхценные поведенческие схемы»[25]25
См.: Цымбурский В. Л. Человек политический между ratio и ответами на стимулы (К исчислению когнитивных типов принятия решений) // Полис. – 1995. – № 5. – С. 15–33.
[Закрыть].
Мне кажется, этот вывод имеет принципиальное значение не только для Цымбурского-ученого, но и для Цымбурского – потенциального участника процесса реформации советской цивилизации, которая предполагала бы отказ от «магической» ставки на верные (неважно какие – социалистические, демократические, либеральные) ценности как на исключительный фактор успеха и триумфа, но при этом не допускала бы отказа от «ценностей» как таковых. Думаю, что работа в области когитологии вполне корреспондировала с циклом имперско-либеральной публицистики в «Веке XX» – условием вступления СССР в кольцо Демократического Севера была та самая интеллектуальная реформация общественного сознания империи, которая позволяла устранить «магическую» ставку на «ценности» или «поведенческие сценарии». О такой интеллектуальной реформации в брежневские годы на самом деле думали многие интеллигенты – от Георгия Щедровицкого до Юрия Левады. Однако мало кто из них столь ясно, как Цымбурский, понимал, что сделать это можно только в советской империи, еще не сломанной изнутри некими альтернативными сверхмощными по энергетике ценностями. Потому что как только эти «новые» ценности займут место «старых», как только люди решат, что ориентация на какую-нибудь неолиберальную экономическую доктрину неизбежно сулит обществу и человеку успех во всех начинаниях, процесс интеллектуальной реформации будет остановлен, а общество по своему духовному развитию окажется отброшено на столетие назад.
Собственно, это и произошло с беловежской Россией после 1991 года – Цымбурский не предвидел только, что в процессе разочарования уже в «новых» ценностях люди предпочтут отказаться от «ценностного» полагания как такового, в конце концов выбрав беспринципный прагматизм. Впоследствии в этих новых условиях ему придется искать новые опорные точки для своего гуманитарного проекта – и он неожиданно обнаружит их в концепции Шпенглера. Обо всем этом мы расскажем впоследствии. Сейчас же нужно остановиться еще на одном направлении исследований будущего автора «Острова Россия», которое задано все тем же поиском когнитивных оснований для интеллектуального реформирования советского общества.
Новой попыткой соединить филологию и политологию стали опыты Цымбурского о «метаистории и поэтике политики», увидевшие свет в том же октябре 1993 года, что и «Остров Россия», только не в специализированном «Полисе», а в междисциплинарных «Общественных науках и современности»[26]26
Цымбурский В. Л. Метаистория и теория трагедии: к поэтике политики // Общественные науки и современность. – 1993. – № 5–6.
[Закрыть]. Статья, которую Цымбурский уже перед самой своей смертью републиковал в «Русском журнале» под заглавием «Метаистория и теория трагедии»[27]27
Цымбурский В. Л. Метаистория и теория трагедии // Русский журнал. – 4 марта 2009 года; http://www.russ.ru/pole/Metaistoriya-i-teoriya-tragedii.
[Закрыть], стала своего рода введением ко всему последующему творчеству Цымбурского в области политологии – введением, которое позволило ему наметить общегуманитарные основы этой дисциплины. Цымбурский считал возможным рассмотреть каждый эпизод истории (в том числе и истории современной) в качестве того или иного классического жанра – комедии, волшебной сказки или трагедии. Популяризируя идеи в тот момент еще совершенно не известных в России Н. Фрая и Х. Уайта, Цымбурский доказывал, что любое восприятие политической истории просто неотделимо от мифотворчества. Пытаясь обнаружить в истории смысл, мы неизбежно придем к мифу, точнее к нескольким воспроизводимым вновь и вновь однотипным драматургическим сюжетам. А за каждым из них просматривается основной и, может быть, решающий вопрос: как трактовать политический успех (человека, страны или цивилизации) – как заслуженную награду в честном состязании конкурентов либо как симптом гибели миропорядка. И как мыслить неудачу – как безнадежный проигрыш в схватке равных либо как намек на будущее блаженство?
Наличие в средиземноморской культуре наряду с эпическим компонентом, ориентированном на миф об Агоне (честном соревновании конкурентов), мифов Скрытого Блаженства (когда поражение неожиданно превращается в триумф) и Отравленной Удачи (когда триумф зловещим образом несет в себе элементы будущей гибели), является, возможно, главной характеристикой этой культуры. Это и есть то «трагическое начало» в культуре Европы, которое, может быть, в наибольшей мере привлекало к ней Цымбурского. Трагический миф Скрытого Блаженства присутствует в виде основного сюжета европейской религии – распятия и воскресения Христа. Миф Отравленной Удачи, как мы говорили, лежит у истоков ее литературной традиции. Литературным памятником одного мифа является Евангелие, другого – Илиада. Впоследствии Цымбурский не сможет простить Западу прежде всего забвения последнего из этих мифов, отказа от понимания того, что любая удача, и в том числе геополитическая, всегда содержит привкус грядущего коллапса (Цымбурский любил цитировать по этому поводу Жуковского: «Нынче жребий выпал Трое, завтра выпадет другим»). Впрочем, рационалист Цымбурский давал себе и читателю полное право предполагать, что и в таком катастрофическом восприятии триумфа всегда содержится элемент особого мифа, столь же недоказуемого, как и всякий другой миф.
Цымбурский прервал свои исследования «метаязыка» в 1993 году и в конце жизни выражал сожаление, что геополитические интересы отвлекли его от исследования гуманитарных основ истории и политики. В самом начале 2009 года он переиздал в переработанном виде свою статью 1993 года и попытался вернуться к некоторым связанным с ее сюжетами творческим замыслам, в частности к созданию текста о перекличке «Черного человека» Есенина с «Моцартом и Сальери» Пушкина[28]28
См.: Цымбурский В. Л. От «Моцарта и Сальери» к «Черному человеку» / / Русский журнал. – 26 июня 2009 года; http://www.russ.ru/pole/Ot-Mocarta-i-Sal-eri-k-CHernomu-cheloveku. Текст статьи при публикации восстановлен из нескольких машинописных и рукописных вариантов. Гипотеза, что Есенин соотносит лирического героя своей поэмы с Сальери, а не с Моцартом, представляется вполне убедительной, если и не доказанной автором. Однако, возвращаясь несколько раз в течение последних лет своей жизни к тексту о «Черном человеке», Цымбурский хотел обосновать, вероятно, не только этот парадоксальный вывод, но и какой-то иной, глубоко значимый лично для него тезис. Последние строки рукописи наводят на предположение, что этот тезис состоит в тождественности Сальери и Моцарта в сознании не только «неведомого бога» (как это следует из незакавыченной цитаты из «Богословов» Борхеса, на которой обрывается рукописный текст статьи), но также в сознании двух величайших поэтов России – Пушкина и Есенина. Каждый из них чувствовал себя немного Сальери, и каждый ощущал присутствие рядом с собой «черного человека», гнусаво нашептывающего о том, что любой творческий успех есть «лишь ловкость ума и рук». По словам друга Вадима Леонидовича Натальи Михайловны Йова, которая была в курсе всех его замыслов последних лет, перед самой смертью Цымбурский намеревался вновь вернуться к «Черному человеку», чтобы поставить точку и в этом своем труде. Находясь в больнице, он попросил у Натальи Михайловны книги о Есенине – вероятно, именно с целью завершить в оставшееся ему время жизни по существу единственное свое литературоведческое исследование (не считая, может быть, великолепного разбора «Дракулы» Брэма Стокера).
[Закрыть]. Очевидно, он хотел остаться в памяти коллег по политологическому цеху не знаменитым геополитиком, и уж тем более не публицистом, но человеком, раздвинувшим – и очень значительно – гуманитарные горизонты социальной науки. Думаю, что сделать это он смог только потому, что крах прежней интеллектуальной парадигмы политической критики, то есть фрустрация всего проекта советской реформации, был частично (едва ли окончательно) им преодолен при помощи шпенглеровской хронополитики. Как только Шпенглер занял царствующее место в обойме философских авторитетов Цымбурского, стало понятно, зачем России нужна гуманитарная наука и, главное, зачем гуманитарной науке нужна Россия. Увы, эта новая парадигма политической критики сложилась очень поздно, когда страшная болезнь уже поставила работе ученого свои слишком короткие сроки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?