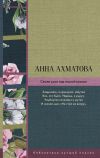Текст книги "Прекрасные незнакомки. Портреты на фоне эпохи"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я понимаю, что Вас так удивляет, что я могу зараз заниматься и литературой, и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикой и считают наукой сухой и бесплодной. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен сочинять что-то несуществующее, что фантазия и вымысел – это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.
Что до меня касается, то я всю жизнь не могла решить, к чему у меня больше склонности – к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и наоборот – в другой раз все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно.
Итак, математика, преподавание, литературные и драматургические опыты, даже попытка сближения со знаменитым путешественником (оказалось, что у Нансена уже есть невеста), и все же – одиночество, тоска по близости, эмоциональный голод…

Софья Васильевна Ковалевская (1850–1891) – русский математик и механик, с 1889 года иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики (получившая ранее это звание Мария Аньези никогда не преподавала)
Но вот в 1887 году на горизонте появляется Он. Это знаменитый однофамилец Софьи Васильевны Максим Ковалевский, русский человек, русский ученый, бунтарь, изгнанник, человек близких убеждений – хотя Софья Васильевна и не была, в отличие от сестры, коммунаркой, членом партии, революционеркой и экстремисткой, она долгое время оставалась близкой к радикальным кругам, она тоже считала (и писала об этом Петру Лаврову из Стокгольма), что «каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства», что «очень полезно распространять всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более что Швеция – такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно». А М.М. Ковалевский Россию уже «покинул внезапно»: любимец студентов, он вынужден был оставить университет, поселился на Французской Ривьере, познакомился с Марксом, читал время от времени лекции в Париже. Этот бородатый гигант, по отзывам многих (в том числе Чехова), – интереснейший собеседник, один из самым умных и образованных русских за границей («Он теперь читает лекции в Париже, – сообщает Чехов в одном из писем. – Повидайтесь с ним, пожалуйста: это большой человек во всех смыслах и интересный…»).
С подачи Софьи Васильевны М. Ковалевский был приглашен в Стокгольм для чтения лекций. По приезде он послал письмецо С.В. Ковалевской и в тот же день получил записку с нарочным: «Жаль, что у нас нет на русском языке слова vàlkommen, которое мне так хочется Вам сказать. Я очень рада Вашему приезду и надеюсь, что Вы посетите меня немедленно. До 3 часов я буду дома. Вечером у меня именно сегодня соберутся несколько знакомых, и надеюсь, что и вы придете». И Ковалевский, конечно, пришел в тот же вечер, встретил много замечательных, даже выдающихся шведов, а главное – впервые увидел хозяйку дома. Позднее он вспоминал:
Для меня центром интереса была, разумеется, моя знаменитая однофамилица. Я проводил свободное время в ее обществе… Мы сошлись приятельски потому, что оба были одинокими на чужбине. Она окружена вниманием, даже восторгом, но без сердечной близости, чувствуя себя все время русской женщиной, оторванной от своей обычной среды, живущей русскими интересами, жаждущей всего больше задушевной беседы о том, что делается по ту сторону Балтийского моря.
Это все правда, но, конечно, лишь полуправда или даже четверть правды (тем более что М. Ковалевский сообщает нам попутно, что Софья Васильевна – не только горячая патриотка, но и совершеннейшая космополитка). Письма Софьи Васильевны в эти дни (и даже первые страницы начатой ею новой повести), содержат восторженные описания внешности этого вальяжного русского барина («настоящий боярин»), этого умницы, блестящего ученого, бунтаря и либерала. Вот одно из таких писем, написанных подруге сразу после отъезда Максима Максимовича из Стокгольма:
Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М… Он такой большой… и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большей частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такой искренностью и сердечностью, которую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему. Я ничем не могу так хорошо выразить произведенное им на меня впечатление, как следующими превосходными стихами Мюссе:
Он весел так – но мрачен вдруг,
Сосед ужасный – чудный друг,
Он мал, но грозен пьедестал,
Он прост, но все уж испытал,
Вот был открыт, но хитрым стал…
К довершению всего – настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем можно было бы выжать из обоих супругов X. вместе, даже если положить их под гидравлический пресс…
Мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове… Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра Божия.
Это письмо влюбленной женщины. Одинокая «королева математики» влюбилась, она встретила героя своего романа, и ей сразу захотелось написать о нем роман, потому что Софья Васильевна еще и писательница. Вскоре она приступает к этому роману, правда, успевает написать лишь несколько страниц, которые при публикации получат название «Отрывок из романа, происходящего на Ривьере»: барышня-бестужевка едет из Италии в Ниццу, и на остановке поезда в Монте-Карло в купе, наступая на ноги дамам, входит Он, ее герой: «Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального… Всего красивее были глаза…» Барышня наивна, и герой посмеивается над ней в душе: «Господи, Боже мой, как благородно. Так мне и сдается, что вчера я все это в последней книжке “Северного вестника” прочитал… Ну, попался я! Авторское самолюбие задел. Никогда мне барышня не простит… однако уж не хватил ли я через край…»
Без сомнения, все это отражает их разговоры и споры. Но нет сомнения и в том, что Максим Ковалевский был увлечен Софьей. Они встречались, вместе путешествовали по Европе, собирались ехать в Италию – они намерены были пожениться. Но после первых восторгов пришли, вероятно, трудности и разногласия, возникли обиды. Вполне возможно, что строгий ценитель М. Ковалевский без восторга высказывался о ее литературных произведениях, на которые Софья возлагала большие надежды.
Подруга и биограф С.В. Ковалевской шведская писательница А.Ш. Лефлер-Эдгрен уделила много места этой последней любовной неудаче Софьи, ее роману с М.М. Ковалевским:
Она познакомилась с человеком, который, по ее словам, был самым даровитым из всех людей, когда-либо встреченных ею в жизни. При первом свидании она почувствовала к нему сильнейшую симпатию и восхищение, которые мало-помалу перешли в страстную любовь. Со своей стороны, и он стал вскоре ее горячим поклонником и даже просил сделаться его женою. Но ей казалось, что его влечет к ней скорее преклонение перед ее умом и талантами, чем любовь, и она, понятно, отказалась вступить в брак с ним, а стала употреблять все усилия, чтобы внушить ему такую же сильную и глубокую любовь, какую сама чувствовала к нему…
Софья бесконечно мучилась сознанием, что ее работа становится постоянно между нею и тем человеком, которому должны были безраздельно принадлежать все ее мысли… Именно в то время, когда самая сильная симпатия неудержимо влекла их друг к другу, она предавалась так страстно погоне за славою и отличиями…
Ее любовь была всегда ревнивой и деспотической, она требовала от того, кого любила, такой преданности, такого полного слияния с собою, какое только в крайне редких случаях было возможно для столь сильно выраженной индивидуальности, для такого даровитого человека, каким был тот, кого она любила. Но, с другой стороны, и она сама никак не могла решиться совершить полный перелом в своей жизни, отказаться от своей деятельности, от своего положения – это было то требование, которое он предъявлял к ней, – и примириться с мыслью быть только его женою.
Все это правда, и ведь Максим был в Париже, когда она упивалась этой двойной премией, этими речами, этой известностью, он видел, как на лице ее проступают все новые морщинки… Он слышал о том, что она напишет (для отдыха) большой роман, а потом еще один, и еще – и жестоко напоминал ей, что писать надо так, как Тургенев, как Чехов, или не писать вообще…
Но он радовался тем счастливым дням, когда «ей нужно было легкое чтение или приятельский разговор», потому что симпатичный «боярин», в свою очередь, не мог не увлечься этой совсем (по нынешним понятиям) молодой, красивой, талантливой женщиной – математиком, писательницей, вообще, женщиной всесторонне одаренной.
C.B., – писал Ковалевский, – была натурой, как теперь говорят, многогранной… Она интересовалась и естественными науками, и историей, и обществознанием. Способность быстрого ассимилирования всякого рода мыслей в любой области и затем критического отношения к ходячим теориям, раскрытия недочетов и слабых сторон в тех или иных построениях была в ней поистине изумительна. А разве это не доказательность и большого ума, и значительной талантливости…
В общем, все дошедшие до нас отзывы свидетельствуют о взаимном увлечении. Ковалевские много времени проводят вместе, путешествуют, живут на вилле Максима в Болье близ Ниццы. Конечно, такой строгий критик и знаток литературы, как Ковалевский (он даже Чехова упрекал в отсутствии мировоззрения и не хотел ставить его на уровень Тургенева) весьма сдержанно отзывался о сочинениях Софьи Васильевны. Подобное отношение болезненно воспринимает любой автор, но даже это пока не может омрачить первые месяцы их увлечения. А что может? Это мы попробуем угадать в свой срок, а пока – путешествия вдвоем, радость откровений и душевной близости.
В Стокгольме Софья представляет Максима великому Норденшельду, в Париже – Мечникову. Правда, Илья Ильич не в духе, он считает, что Ковалевский напрасно дожидался, пока его попросят из университета, – вот он, Мечников, не доставил им этой радости, ушел сам.
В Париже Софья знакомит Ковалевского и с другими знаменитостями. В разговорах двух Ковалевских уже проступают контуры будущей совместной жизни. Он удочерит подрастающую Фуфу: ребенок должен иметь семью… Пока же бедную девочку пристраивают куда-нибудь на все каникулы, чтобы освободить мать для поездок.
Отношения пары однофамильцев почти безмятежны. Можно ли уследить тени минутного сомнения или недовольства в интонациях так легко завоевавшего ее сердце «боярина» Ковалевского? Мне кажется, что можно, – они присутствуют и в поздних, очень сдержанных мемуарных очерках Максима, причем даже не там, где говорится о не слишком убедительных литературных трудах Софьи Васильевны (которые он сам же после ее смерти собрал и издал), а там, где Ковалевский пишет о главном (с точки зрении отечественной жизнеописательной публицистики и истории науки) ее увлечении – о математике. Вот как кончается самый, пожалуй, откровенный пассаж в биографическом очерке Ковалевского, написанном в плену:
В молодости C.B. была очень красива… Испытанное ею за границей одиночество заставило ее искать дружбы, и когда представилась возможность частого общения с не менее ее оторванным от русской жизни соотечественником, в ней заговорило также нечто близкое к привязанности. Иногда ей казалось, что это чувство становилось нежностью. Но это нисколько не мешало ей во всякое время уйти в научные занятия и проводить ночи напролет в решении сложных математических задач…
Не приведи Господь, чтоб о наших любовях вспоминали с такой испуганной осторожностью. Если женщина мчится сломя голову из Стокгольма за тридевять земель на Ривьеру, чтобы обнять любимого, это на осторожном языке мемуариста описано как стремление обрести «возможность частого общения с соотечественником» и как «нечто близкое к привязанности». Боже, какие дубовые эвфемизмы… А вот претензии к проклятой математике в этом пассаже М. Ковалевского вполне живые. «Я, разумеется, не имею никаких данных, – заявляет он, – чтобы позволить себе суждение о том, что была C. B. в своей специальности». И дальше ссылается на проклятую парижскую премию, которая должна, вероятно, свидетельствовать, что C. B. «обнаружила и знания, и оригинальность». Если б не премия, «данные» ему отыскать было б еще труднее. Осталась бы одна антипатия к математике.
Однако проследим эту линию любви и ненависти от самого начала – от первых счастливых дней знакомства в Стокгольме. Сказочные дни узнавания! Они были все время вместе, пока профессор Миттаг-Лефлер не объяснил, что C. B. нужно закончить диссертацию для парижской Академии и лучше бы ему, Ковалевскому, уехать на время в недалекую Упсалу. «Когда я вернулся… – вспоминает Ковалевский, – я нашел C.B. внезапно состарившейся: так сильно было то умственное напряжение, которое ей пришлось пережить. Она только медленно оправлялась от своего переутомления…»
Мы еще вспомним и об этом переутомлении, и об этом внезапном старении – позже, в Париже, а пока их ждал целый год встреч в разных местах Европы, совместного чтения, разговоров, надежд и общих планов… Ну да, речь шла о том, чтобы обвенчаться и чтобы он удочерил бедную ее доченьку Фуфу, которая все детство провела у чужих людей.
А потом пришла великая новость из Парижа: за решение хитрой задачки насчет вращения твердого тела (которую не решил сам Лагранж) Софье Васильевне Ковалевской из Стокгольма (но мы-то с вами знаем, что она из России, из Петербурга, из Полибина) присуждена премия Французской академии, да что там – не просто премия, а двойная премия (двойные деньги, двойные честь и слава). И конечно, всеобщее волнение и восторги – потому что не просто математик одержал победу, а русский математик, более того, русская женщина…
Это был великий день. Вручали диплом под знаменитым куполом Института Франции (под ним и размещаются вальяжно пять французских академий) – было много волнений, много поздравлений и речей. И среди старинных бюстов и бесконечных славословий грузно сидел в сторонке Максим Ковалевский, которому становилось все больше и больше не по себе. Он видел, с какой ненасытной жаждой впитывает Софья Васильевна все эти нескончаемые похвалы, как меняется на глазах ее утомленное лицо – покрывается сетью морщинок, стареет, стареет… Что значит это его неоднократное упоминанье о ее старении, усталости – снова в связи с математикой, о которой мы с вами, разумеется, «не имеем никаких данных», но вот премия, двойная премия, тройная морока… И когда замечают преждевременные (или нет?) морщинки на лице молодой женщины (ей ведь всего 38, или – уже 38), то не значит ли это, что женщина перестает нравиться или чем-нибудь раздражает?
Это был день торжества русской науки, женского равенства (или даже превосходства), красное число феминизма. Но вот не был ли этот день переломным в истории отношений этих двух людей, Максима и Софьи? Разве не опасно, когда замечают и избыток тщеславия, и морщинки, и внезапное старение? Не стало ли это для нее днем еще одной – на сей раз последней – женской катастрофы, во всяком случае – начала катастрофы?
Мне довелось недавно сидеть в великолепном зале под куполом Института. Я выбрал стул (сам выбрал и назвал его «стулом Ковалевского»), уселся на нем в одиночестве, и перед моим взглядом прошла вся суета научных торжеств, весь тот долгий день. Знаменательное начало. Потом уж женское равенство стало одерживать победу за победой. Изысканные, элегантные дамы-террористки стреляли из-за угла в отечественных министров и полицейских, проливали кровь под водительством продажного Азефа, шли на каторгу, обживали тюрьмы…
Вернемся к нашим героям Максиму и Софье.
Они встречались целых два года в Италии, Англии, Швейцарии. Летом, снова сбыв кому-нибудь Фуфу, Софья Васильевна приезжала в приморский Болье. Доченьку мать с собой не брала, видно, разговоры о ее удочерении сами собой иссякли. Все шло к концу. Она еще была и веселой, и резвой, молодая Софья Васильевна, и Ковалевский отмечал, как расцветает она в пору бездумных радостей карнавала в Ницце. Но как ему было забыть, старому холостяку, и ее внезапное «старение», и сердечные приступы, и тщеславные воспоминания о международных и российских поздравительных телеграммах, о все той же академической премии (двойной!)… Дочка Фуфа отмечала, что мама приезжала в Стокгольм грустной.
Особенно грустной была совместная встреча Нового года (1891-го). Ковалевские ездили в Геную, и в канун Нового года Софье вдруг захотелось сходить на знаменитое генуэзское кладбище. Обилием мраморных статуй итальянские кладбища, даже в глухой деревне, превосходят и парижские, и петербургские, ну а генуэзское кладбище и вовсе заповедник погребального искусства. И вот, остановившись перед какой-то беломраморной надгробной красавицей, бедная Софья Васильевна сказала вдруг, что один из них не переживет этот год. И ясно было, о ком идет речь…

Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – русский историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный деятель, один из руководителей русского масонства
Она не хотела возвращаться в Стокгольм. Но он не удержал ее – не хотел, не умел? И она смирилась, а он, вероятно, согласился в душе с тем, что она выберет (должна выбрать) математику. Или литературу (об этом тоже часто шла речь). По дороге на станцию им перебежала дорогу черная кошка, и Софья Васильевна, испуганная, уговорила Максима проводить ее в Канны. Ковалевский позднее писал, что она простудилась еще в Каннах, усугубила простуду в Париже и на пароме по пути в Швецию, что по приезде она сразу слегла и вызвала врача, который поставил неправильный диагноз, а при вскрытии обнаружилось, что у нее еще и слабое сердце. Несмотря на все эти медицинские свидетельства, может, и то было правдой, что ей больше не хотелось жить. Что великая история женской победы привела к трагическому исходу. К гибели прекрасной, талантливой молодой женщины, гибели ее первого мужа, сиротству малолетней дочурки, к горечи друзей, к замешательству (и почти отречению) ее сердечного друга-однофамильца. Он рассказывал позднее, что, получив телеграмму в Болье, двинулся в Стокгольм и уже в Киле получил вторую телеграмму – о смерти Софьи. Максим очень странно выступал на похоронах: говорил от имени «передовой России» и «передовой науки» (но только не от своего). В его речи не было ни единого теплого слова. Покойную возлюбленную он называл Софьей Васильевной…
«Люблю влюбленность…»
(Людмила Вилькина, Минский, Бальмонт, Белый, Брюсов, Розанов, Мережковский, Нина Петровская)
Заря Серебряного века, этого столь высоко чтимого ныне русского ренессанса культуры, искусства и настойчивых духовных поисков, забрезжила еще лет за десять до прихода «календарного» XX века. Забрезжила без особого шума. Не возвещали ее приход ни фанфары, ни пушечная канонада с корабельного борта, ни даже пистолетный выстрел, вроде того, что, глухо прозвучав в 1921 году в пыточном подвале ГПУ, пресек жизнь бесстрашного поэта-конквистадора и заодно прихлопнул яркую эпоху вольного духа и блистательной россыпи талантов.
Знатоки смогли все же отметить, какими были первые ее знаки и веянья, различимые доныне в шелесте страниц при свете настольной лампы. Вот, скажем, вышли три сборника «Русские символисты», составленные самим Валерием Брюсовым – кем же еще? Или, скажем, появился трактат Николая Минского «При свете совести: Мысли и мечты о смысле жизни». Год 1890… Кем был Валерий Брюсов для русского символизма и вообще для новейшей поэзии, объяснять, наверно, излишне. Если б давали поэтам чины, непременно вышел бы он в генералы. Но поэтам таких чинов не давали, а в печальные годы, когда умер Брюсов, генеральские чины были вообще временно отменены в России. Однако отозвавшаяся на смерть Брюсова Цветаева назвала ушедшего групповода символизма применительно к новой манере – героем труда. Тем более было модное названье уместно, что умер поэт с партбилетом в кармане.
Названный нами Николай Минский нынешнему читателю куда меньше известен, чем Брюсов, однако в том 1890-м и его имя было славным. Он считался ведущим поэтом журнала «Вестник Европы», его высоко ценили собратья по рифме, и он даже удостоился особого внимания тогдашней цензуры, которая сожгла тираж одного из сборников его стихов (для тех вегетарианских времен – воистину алый знак доблести). В трактате «При свете совести» предтеча символистов (или даже «отец русского декаданса») Николай Минский развивал идеи своей новой «религии небытия» (меонизма), в которой тогдашний читатель, обожавший всяческие духовно-религиозные искания, без раздражения различал, вероятно, и отзвуки народнических идей, и восточные мотивы, и призывы к жертвенности, и весьма популярное ницшеанство. Мы с вами проследим попутно за извилистым путем Николая Минского, но пока, вступив вослед ему в серебристое мерцанье эпохи, напомним о главных героинях нашего повествованья – o прекрасных женщинах. На обильном пиру века не забудем ни предрассветных звезд, ни деликатного польского тоста «За здрове пенькных пань по раз перфши» («Первый тост за здоровье прекрасных дам»), ни всегда своевременного английского напоминанья “Ladies first”.
Итак, Минский, Брюсов, а также их прекрасные женщины. Вон они уже выходят из тени, эти знаменитые дамы – одна, вторая, третья… Всех нам, конечно, не описать, и даже, пожалуй, не счесть, но мы будем очень стараться…
Первой представлю на ваш суд жену Минского, красавицу-поэтессу Людмилу Вилькину. Жила она не слишком долго, стихов сочинила не слишком много, зато была усердной переводчицей и вдобавок написала множество любовных писем, ибо любила получать письменные (да еще профессионально написанные) признания в любви, обожала волшебные игры флирта, а трагическим перипетиям истинной любви предпочитала влюбленность, о чем и сообщала в своем знаменитом стихотворении:
Люблю я не любовь – люблю влюбленность,
Таинственность определенных слов,
Нарочный смех, особый звук шагов,
Стыдливость взоров, страсть и умиленность.
Люблю мгновенно созданный кумир:
Его мгновенье новое разрушит.
Любовь – печаль. Влюбленность – яркий пир.
Огней беспечных разум не потушит.
Любовь как смерть. Влюбленность же как сон.
Тот видит сновиденья, кто влюблен!
Людмила Вилькина (до того, как перешла в православие, – Изабелла, Бела Вилькина, а по мужу Виленкина или Минская) по-настоящему втягивалась в эти свои влюбленности и умела втягивать в них поклонников. A среди последних, как вы без сомненья заметите, были самые прославленные персонажи Серебряного века. Так что, пожалуй, не ее стихи о влюбленности и даже не солидные тома стихотворных и прозаических переводов (которые, устаревая, как почти любые переводы, замещаются новыми) обеспечили ей место в литературной истории Серебряного века.
Изабелла родилась в Петербурге в семье коллежского асессора Вилькина, женатого на дочери многодетного директора одного из московских банков Афанасия Венгерова. Важно, что с материнской стороны Бела получила литературные интересы и связи. Скажем, ее тетя Зинаида Венгерова была известным историком литературы, литературным критиком и переводчицей. У Зинаиды был вполне прочный роман с поэтом, эссеистом и философом Николаем Минским. Однако когда Минский (ему было уже сорок, или – только сорок, но он успел овдоветь) увидел юную красавицу Белу, его философское спокойствие было нарушено. Разумная Зинаида решила прежде всего порадеть о судьбе племянницы. Она от имени своего любовника-поэта сделала предложения Беле и ничего не потеряла (она вышла замуж за того же Минского в 1925 году, через пять лет после смерти племянницы).
Пока же юная Бела стала женой знаменитого поэта. Впрочем, сердце ее жаждало нового, еще более высокого (и более широкого) признания ее таланта, ума, образованности и, конечно, красоты. Умная тетушка Зинаида, понаблюдав за ней однажды, отметила в письме к близкой подруге, что Бэла «занята “культом своей красоты” и приискиванием поклонников». Заодно наблюдательная тетушка отметила, что здоровьице у красавицы оказалось слабенькое, но зато она делает первые опыты в переводе и, похоже, получается у нее неплохо. Начала Бела с переводов из Метерлинка и оставалась верна этому очень модному тогда автору до конца своих дней. Собственно, в этих тетиных наблюдениях отмечены сразу несколько типичных черт женщины Серебряного века (хотя бы и такой юной, как эта ее племянница) – самовлюбленность и тщеславие, но зато и страсть к литературе, и знание иностранных языков, и открытость европейской культуре. Господи, сколько они напереводили тогда на русский, эти дамы, влюбленные в европейское и родное слово. Кстати, пристрастие к родному слову в значительной степени определяло их выбор достойного любви (или хотя бы флирта) мужчины. Поклонниками Белы стали такие тогдашние литературные знаменитости, как Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Сергей Рафалович, художники Лев Бакст, Константин Сомов. И, наконец, в знатную обойму попал сам Валерий Брюсов.
Кстати сказать, поклонники Белы были не менее наблюдательны, чем ее знаменитая тетушка Зинаида, так что, пройдя через все стадии любовных отношений с Белой (вплоть до самой «опасной»), они тоже не отказали себе в труде сформулировать особенность этой ее «игры в жизнь» (игры вполне типичной для людей того самого века и того самого круга), глубину ее нарциссизма, увлеченности литературной игрой, неудовлетворенности жизнью, ее страхов… «Вы влюблены в себя, – писал ей Мережковский, – и другие люди служат вам только зеркалами, в которых вы на себя любуетесь». Он же отмечал, что Бела хочет быть любимой, не умея любить, что она колдунья, которая «из множества похищенных сердец» варит любовное зелье: «Вы умеете пить вино поцелуев, опьяняясъ и все-таки оставаясь трезвою в опьянении».
Наблюдательный Василий Розанов отметил, что Бела «предпочитает больше грезить нежели видеть».
Долгим и пленительно бесплодным был роман Белы с неукротимым женолюбом Бальмонтом. Бела умела остановить его на «роковой» черте и благодарила за «нетребовательную» любовь.
Некоторые претенденты и интересанты довольно быстро, не успев истратить ценного времени, замечали игровой характер Белиных влюбленностей. И все же не сразу, ибо у тщеславной Белы собралась изрядная коллекция любовных писем. Она время от времени знакомила с ними гостей. Узнав об этом, Розанов страшно разозлился и стал рассылать друзьям «оправдательные» письма. Брюсов же переписал в дневник самый пикантный из показанных ему Белою текстов: «Минская показывала мне письма Бакста, где он соблазнял ее: “Для художника не существует одежд, – писал он, – я мысленно вижу вас голой, любуюсь вашим телом, хочу его”».
В Брюсове Бела встретила опытного бойца и все же, сдается, смогла настоять на своей «шаткой» неприкосновенности: взаимное разжигание страсти – пожалуйста, поцелуи до обморока, но не более того… Под впечатлением их совместного побега в Финляндию Брюсов написал стихотворение «Лесная дева», ей посвященное:
Все было смутно шаткому сознанью,
Стволы и шелест, тени и она,
Вся белая, подобная сиянью.
В дневнике Брюсов записал, что они провели несколько часов в запертом номере отеля, но «только целовались», так что роман был, можно считать, платоническим…
Кроме «Лесной девы» отношения Белы и Брюсова обогатили потомков довольно жеманной, вполне в стиле времени, и обильной перепиской (чуть не полторы сотни писем).
Впоследствии Бела тяжело переживала охлаждение Брюсова. Возможно, она предвидела то, что случилось в 1907 году, когда наконец вышла в свет ее единственная книга стихов («Мой сад») и влиятельный Брюсов жестоко изругал этот сборник в печати. Сближение Минского и его жены с Мережковским и Зинаидой Гиппиус, их живое участие в работе Религиозно-философского общества только усилило враждебность Брюсова. Так или иначе, бедному Минскому пришлось немало похлопотать, пока на «Мой сад» появились положительные рецензии (в том числе Андрея Белого) и Бела смогла утешиться.
Американская русистка Дина Бургин находит в «Моем саду» некие несомненные для нее следы лесбийских пристрастий автора, обычные для лесбийской поэзии обороты речи, отвлеченный образ пассивной возлюбленной, предстающей в виде музейной вазы:
С волнением нежданным пред тобою,
О, бледная подруга, я стою.
Как ты чиста! Влюбленною мечтою
Ловлю мечту прозрачную мою.
Кстати сказать, задолго до американской исследовательницы к подобному же наблюдению пришел поклонник Белы Василий Розанов, написавший в предисловии к этой книжечке: «Удивляюсь, как родители и муж (единственные “законные” обстоятельства в ее жизни) не переселили на чердак или в мезонин эту вечную угрозу своему порядку».
Намеки Розанова показались неубедительными Анненскому, писавшему лишь о нескрываемо лесбийском характере поэзии Софьи Парнок, Зинаиды Гиппиус и Марины Цветаевой. Что касается Людмилы Вилькиной, то даже и без этих весьма невнятно проговоренных лесбийских заклинаний ее «жизнетворчество» и литературные игры, принимаемые ею так близко к сердцу, делают эту красавицу и ее тайный сад (jardin secret) типичным порождением Серебряного века.