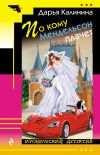Текст книги "Рассказы о детях"

Автор книги: Борис Житков
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Джарылгач
Новые штаны
Это хуже всего – новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: всё время смотри, чтоб не капнуло или ещё там что-нибудь. Из дому выходишь – мать выбежит и кричит вслед на всю лестницу: «Порвёшь – лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот всё и вышло.
Старая фуражка
Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошёл в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Всё время аккуратно, между подвод прямо змеёй, чтоб не запачкаться, не садился нигде, – всё это из-за штанов проклятых. Пришёл, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.
На дубке
Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул её на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок?
Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.
С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей. Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку: очень приятно на судне. Пришлось всё-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дёгтем на носу машину, которой якорь подымают.
С этого и началось
Вдруг бородатый перешёл с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал меня да как крикнет: «Подай ведёрко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведёрко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут – подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом дёготь брызгал, чёрный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведёрко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Всё пропало: брюки серые были.

Что же теперь делать?
Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул; я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведёрка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, – стоял бы я там, ничего б и не было.
Уж всё равно
А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» – и уж ничего не жалел. Скоро весь перемазался.
Пришёл третий
Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут. Я всё Опанасу помогал: то держал, то приносил, и всё делал со всех ног, кубарем. Скоро пришёл третий, совсем молодой, с мешком, харчи принёс и сдачи. Стали паруса готовить, а у меня сердце ёкнуло: выбросят на берег и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.
Стали сниматься
А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему: «Дядя Опанас, – говорю, – дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я всё буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня, – всё вру: папа у меня – почтальон. А Опанас стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.
Так и остался я
Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам всё лопочу: «Я всё буду делать, в воду полезу, куда хотите посылайте». А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной – брашпилем.
Я старался изо всех сил и ни о чём не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.
Сказали – борщ варить
Потом паруса стали ставить, я всё вертелся и на берег не глядел, а когда глянул – мы уже идём, плавно, незаметно, и до берега далеко – не доплыть, особенно если в одежде.
У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.
Какой такой камбуз?
Мне стыдно было спросить, что это – камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из неё труба вроде самоварной. Я вошёл, там плитка маленькая. Нашёл дрова и стал разводить. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что всё кончено. И стало страшно.
Ничего уж не поделаешь…
Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И всё приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза – уж одно море кругом. Дубок наш прилёг на один борт и так и пишет вперёд. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем всё равно, и вдруг я успокоился.

Поужинали – и спать!
Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые – бимсы, от лампочки закопчёны. И сижу с матросами.
А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся. Всё равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут.
Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай» – и показал койку.

Как в ящике
В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лёг в тряпьё какое-то. А как прилёг, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальёт. Всё боялся сначала – вот-вот брызнет. Особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.
Вот когда началось-то!
Проснулся – темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топочут каблучищами, орут, и зыбью так и бьёт; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри всё судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо всё стукаюсь, в потёмках нащупал лесенку и выскочил наверх.
Пять саженей
Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревёт, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай поворот. Клади руля! На косу идём!» Дубок толчёт, подбивает, шлёпает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, – и мне кажется, что мы на месте стоим и ещё немного, и нас забьёт эта зыбь.
Поворот
Пусть куда-нибудь поворот, всё равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орёт с кормы: «Куда, к чертям, поворот, ещё этим ветром пройдём!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»
Сели
Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать просить, чтоб поворот. Не дошёл – так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревёт прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идём!» И вдруг как тряханёт всё судно, что-то затрещало, – я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут ещё раз ударило об дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.

Стало светать
Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Впёрлись в Джарылгач в самый. Ещё растолчёт нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло об дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь всё ходит и через палубу. Я всё ждал, когда тонуть начнём. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.
Второй Джарылгацкий знак
Я залез в кубрик. Пощупал – сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, как даст сильно зыбью в борт. Я вспомнил про дом: бог бы с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил – под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет!
Берег
А наверху погода ревёт, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал – ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто всё сразу спокойней стало: это от свету.
Я выскочил за Григорием на палубу. Море жёлтое и всё в белой пене.
Небо наглухо серое.
А за кормой еле виден берег – тонкой полоской, и там торчит высокий столб.
Вывернуться!
Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли!» А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда, дурак: “В воду, я хоть в воду”, – вот всё через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег, и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня: «Ты что ещё там?» У меня зубы трясутся, а я всё-таки крикнул: «Я на берег!»
С борта
Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмёшь не знай кого, через тебя всё и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он! – и прямо зверем: – Звал тебя кто, чёрта лохматого! Пропадём с тобой, всё равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой верёвки. «Вот, – говорит, – на этой верёвке пускать тебя буду. Будет плохо, назад вытяну. Ты не трусь! А доплывёшь – тяни за эту верёвку, мы на ней канат подадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нём к себе на судно и вытянем». Мне так хотелось на берег, – казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, – говорит Григорий, – вались, Хряп! Счастливо».

На доске
Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперёд так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я всё глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревёт прибой под берегом, рычит, копает песок, всё в пене. Закрутит, думаю, и убьёт, прямо о песок головой. И вот всё ближе, ближе…
Зыбь лопается
Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут верёвка моя вдруг натянулась, и зыбь вперёд пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз – я догадался, что это Григорий с судна верёвкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревёт зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.
За знак
Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне всё казалось, что ещё качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть верёвку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял верёвку на плечи и пошёл. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метёт песком. Еле верёвку вытащил… Смотрю, уж кончилась тонкая верёвка и канат пошёл толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лёг на песок – весь дух из меня вон, пока я тянул.
Вывернулись
Знак дрогнул. Вижу – натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, – здорово затянуло. Судно пошло, канат ушёл в воду, потянулась и верёвка, как живая змейка, так и убегает в море.
Берег или море?
Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой: хватайся, вытащим на верёвке, – я не знал, тут остаться или к Опанасу – и в море. Оглянулся – сзади пустой песок, а всё-таки земля. Я думал, а верёвка змейкой убегала и убегала. Вот доска дёрнулась и поползла. Сейчас уйдёт! Я надумал остаться и всё-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.
Один

Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся – судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь!

Стадо
А вдали я увидел будто стадо. Пошел туда – ну вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шёл со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу – это верблюды. Я совсем близко подошёл – ни одной собаки нет. И людей тоже.
Верблюды
Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошёл вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернётся, ухмыльнется и скажет: «А я…» Ух!.. Я отошёл и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несёт ветер песок, и песок звенит о камыш – звонко и тоненько.

А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало.
И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил, и опять к верблюдам.
Избушка
Я подошёл, встал против одного верблюда. Он стоял как каменный. Я вдруг стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнёт ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся – и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один… всё может быть. Я не оглядывался на верблюдов, а всё бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали избушку.
Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.
Мёртвое царство
В избушке ставни были закрыты, а за плетнём во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошёл избушку – никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошёл. Я боялся сильно стучать, – а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь? Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.
В яслях
Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю – ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.
Ведро
Просыпаюсь – ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из неё свет. Вдруг слышу, кто-то идёт по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»
Домовой
Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достаёт. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тётенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог: «Что ты, – говорит, – пустое болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принёс через минуту фонарь. Вижу – фонарь так в руках и ходит.
Что оно такое – Джарылгач?
Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твоё имя крещёное». – «Митька, – кричу, – Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живёт, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут – рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.
Мамка
Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только всё ревела: поглядит – и в слёзы. «Я, – говорит, – тебя уж похоронила…» Ну, с отцом дома другой разговор был.
Дяденька
Дело было давно – лет тридцать назад. Подрос я, и пришло время меня на работу посылать.
Если в пекарню меня отдать, так мамка боялась, что там простуда: жара да сквозняки. В кузницу – четырнадцати лет – ещё молодой, говорят. А в типографию и слышать не хотела: все наборщики, говорит, пьяницы. И каждый день одни эти разговоры: куда да куда. Хоть обедать не садись. Как будто я в чём виноват!
Вот раз пришёл жилец наш Онисим Андреевич и говорит, что довольно канитель эту тянуть. С самой весны, говорит, языком бьёте, а толку никакого. А я его вот раз-два – и на место поставлю. «Хочешь, – говорит, – пароходы строить?»
Ещё бы, кто не хочет! Пароходы-то!

Мамка опять: в воду там свалится, утонет, и ещё что-то будет. А Онисим Андреевич был немного выпивши и заругался. Говорит, чтоб завтра утром к заводу приходил, у него там знакомый есть.
Всю ночь думал: вот пароходы строим; мачты сейчас ставить, трубу. Главное, думал, трубу – в ней вся сила. Вот чудак был!
Утром, чуть свет – к заводу.
Там ходили в контору, туда-сюда; теперь-то я всё знаю, а тогда страшно показалось. Двор большой, прямо поле целое, по нему всё рельсы, рельсы, и ходят вагончики, а на них краны подъёмные. Много их бегает. Подымет цепочкой груз и тащит. Я всё на них смотрел и о рельсы спотыкался.
А дальше, у самой реки, чего-то нагорожено высоко-высоко, всё железным переплётом, как будто дом какой решётчатый. Это самый эллинг-то и есть, где пароходы строятся.
И оттуда такая трескотня, как будто всё время пальба идёт из пулемётов, и только слышно: дзяв! дзяв! – бахает чем-то по железу.
Пошли туда, а там леса поставлены, вот как дом в пять этажей строят. Леса эти около судна нагорожены. А судно из ржавых листов, толщенных, и листы эти к железным рёбрам рабочие крепят. А по лесам на досках все мастеровые, на полках, как мухи. Мне сразу показалось, что все с пистолетами, только пистолеты на толстых верёвках. Теперь-то я знаю, что это воздушный молоток, и не на верёвке, а это трубка к нему идёт, и по ней сжатый воздух гонят от насоса. А в стволе воздухом работает самый молоток: мечется взад и вперёд, и если к чему ствол приставить, так бьёт шибко, дробно. А тогда мне показалось, что пистолеты.
По лесам сходни, переходы, напихано с яруса на ярус, а мы всё выше, выше лезем; кругом так гудит, в уши бьёт, прямо как тебе по голове кто барабанит. Перелезли на самое судно, на железную палубу. И всё железо, железо кругом. И такой грохот, что я думал – не может быть, чтобы это целый день, это, должно, только сейчас так расшумелись. Нельзя этого стука выдержать. Потом оказалось, что всё время так.
Подводят меня к железному столику, вроде тумбочки. Вижу, наверху уголь горит, а между ножками гармоникой мехи, и ручка сбоку. Мне этот, что привёл меня, показывает на ручку – дергай, значит. Я хотел спросить, что потом делать, и голоса своего не слышу; кричу – и как немой.
Такой грохот, аж стонет железо.
Смотрю, тут двое мальчиков стоят и чего-то греют. Закопчённые такие, чёрные. Толкают меня, чтоб я за ручку дёргал. Я начал дёргать, мехи заработали, уголь горит; они там что-то работают, а кругом такой гром – похоже, что не строят, а ломают со всей силы, и что вот-вот всё завалится, и я сам не знаю, на чём стою и куда в случае чего бежать.
А сам качаю, качаю.

Вдруг один мальчишка меня щипцами в плечо. Я ещё сильнее ручку дёргать, а он опять щипцами – это надо было, чтоб я полегче, а то уголь вон с горна улетает, – этот столик горном называется. Потом мальчишки вытащили щипцами из огня заклёпки – аж белые – и потащили куда-то. А я всё стараюсь.
Какой-то дядя проходил – как толкнёт меня в затылок: что-то показывает. Ничего не понять – грохот, звенит, бахает кругом. Я сильней качать. Он сорвал с меня картуз. Я за картузом – и пустил ручку. Он тогда показывает, чтоб потихоньку. Тут мальчишки снова толкают, тычут чем зря, а я ничего не понимаю. Даже слёзы. Ну, это я больше от дыма – очень едкий. Прямо хоть брось. Так я до обеда мучился.

Вдруг всё сразу замолкло, и тихо-тихо стало. Я даже испугался, не будет ли чего сейчас. А мальчишки мне кричат: «Через тебя пять заклёпок перепалили!»
Я тут первый раз услыхал, что у них голос есть. Все пошли вниз, и я за народом.
Мальчишки ко мне, кричат грубым голосом: «Ты заклёпки не перепаливай, дяденьке скажем, клепальщику, он тебя научит. У нас раз – и готово». И показывают мне дяденьку. Здоровый, страшный такой мне показался, в бороде.
В столовой все клепальщики отдельно сидят и через стол орут, как с того берега. От этой работы они все на ухо туги, и гам такой стоит, как будто драка идёт. А это просто обедают. И раньше чем соседу сказать, в плечо его – раз! Смотрю, мой сидит, всё лицо в гари, и ржа в бороде от железа. Глядит волком. Вынул бутылку, хотел пробку выбить, потом сразу трах горлышком об угол, отбил, выпил половину и соседу ткнул: пей!
А я поневоле около мальчишек держусь, один не найду дорогу на работу. Они говорят: «Идём, до гудка надо, чтоб горно развести». Дорогой они кричат: «У нас, знаешь, не в слесарной. У нас разговору нет. Один, – говорят, – тоже коники строил. Работали в самом дне, в клетке. Так клепальщик раз его по башке ручником – и готово. Так его там и бросили. А чего, – говорят, – на дурака смотреть!»
И все мальчишки курят и через каждое слово ругаются.
Когда я с работы домой пришёл, мамка мне говорит, а я ничего не слышу, как будто от соседей: еле-еле.
Потом, как стал я дальше в завод ходить, сам стал заклёпки греть. Это гвоздь такой, только толстый, и тупой, как обрубленный, и шляпка толстая.
Нагрею заклёпку, несу в щипцах дяденьке, кину – она по железной палубе покатится, он её подхватит щипцами и в дырку, что сквозь листы. Шляпку припрёт колом железным, здоровым, а с другой стороны клепальщик сейчас её, пока горячая, воздушным молотком, этим пистолетом, – трах, трах, тах, тах! – и сплющит; головку с той стороны сделает, и готово. Давай другую, и пошёл. Так листы скрепляют.
Я и курить и ругаться выучился и тоже стал всё срыву: трах, бах и долой. Дома мамка раз плакала. Я пришёл с работы, она мне скорей умыться, а вода здорово горяча была; я – хлоп! – таз перевернул. Сел за стол, как был: даёшь борща!.. Дала. Ничего. И не гудела. А если что говорить станет, сейчас шапку – и за ворота, а то завалюсь спать.

Раз стал форточку отпирать – нейдёт, разбухла, что ли? Я взял полено – раз! – и выставил. Онисим Андреевич заходил, посмотрел. «Клепальщик, – говорит, – натуральный». А я и рад.
Нет, верно, у нас разговор такой: ткнул, пихнул, ударил.
Не помню, с чего это пошло. Стал на меня вдруг дяденька гудеть. Всё ему не так. На работе там разговору никакого не может быть, разве только пинком или тычком, а на дворе он орёт: «Я тебе, такой-растакой, морду набью – и за ворота! Ковыряешься, – говорит, – как жук в навозе. Пойду мастеру скажу, тебя враз с работы долой!» Каждый день у нас так.
А дальше всё хуже; уж и видеть меня не может. Прямо зверем. Жена у него умерла. Я её, что ли, убил? Чего ты меня-то ешь? И что я больше стараюсь, то хуже. То ему рано заклёпку даёшь – гонит, кулаком машет, то опоздал. Заел прямо.
А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне. Туда добраться, как под землю: всё с палубы на палубу, всё железо, всё острое, угольники ребром торчат. Лезешь – темно, как в ящике. Вот с верхней палубы спускаешься по лесенке, а на второй палубе уже темно. И тут же сейчас люк один был такой, что если попадёшь, так лететь десять саженей, и прямо на рёбра железные. Он только одними рейками и был огорожен. Так, на деревянных стоечках, и рейки-то на живинку гвоздиками пришиты. Как спустишься в темноту, идёшь и руку впереди держишь; нащупал рейку около самого этого люка проклятого и сейчас бери влево и иди уж по борту, тут не споткнёшься. Так меня и дяденька учил ходить.
Так вот, работаем мы с ним в самом низу. Он опять меня шпыняет. Даю ему заклёпку, он мне её назад швыряет – значит, пережжено. Я другую – он опять. Да что это, думаю, зверем каким? Третью несу. Он поймал заклёпку да за мной. А там внизу, что в коробке, дым от горна, как в трубе, всё судно гудит, как палят в тебя со всех сторон. Я сам беситься от этого стуку стал. Я ему опять грею, он к горну пришёл, надавал мне по шее и сам стал греть. Ух, обозлился я. Нет, верно, заклёпки я правильно грел. Вот, думаю, это потому, что я сдачи ему дать не могу, он и разворачивается. И стал думать, что я ему сделаю, когда вырасту. Было б что под рукой, так, кажется, раз…
А в обед он опять мне кулаком грозит. Орёт, глухая тетеря, на весь завод: «Сейчас к мастеру пойду, чтобы тут тобой и не воняло! У меня, – кричит, – знаешь: раз, и готово!»
После обеда мне вперёд надо было идти, горно разводить. Я спустился в люк, во вторую палубу, руку впереди держу и иду. Нащупал рейку… и ничего как будто и не думаю. Взял её рукой и держу. Вдруг я её – раз! – и готово. Ей-богу, она еле держалась. Оторвал рейку я, одним словом, и в сторону её, прочь со стоек. Пусть теперь он пойдёт, не найдёт рейки – раз! – и готово. Да я так-то и не думал, а злился только. Стал в темноте, в сторонке, и жду. Вот уж гудок, пошла работа, всё судно загудело.
Вижу, дяденька в просвете люка, что вверху, показался. Потом полез по лесенке, и больше не видно. Темно там, и не слышно ничего – так грохочет кругом. А я стою и жду, дух зашибло во мне. Сейчас… сейчас… И вдруг захотел крикнуть со всей силы: «Дяденька, дяденька, стой!» Да ведь не слышно, а подскочить не успею всё равно, и ноги как примёрзли. Я к лесенке наверх и побежал вон с судна. А потом думаю: а вдруг он и прошёл, как-нибудь да и прошёл? И побежал опять туда, где мы работали. Иду и говорю: «Дай бог, чтоб был, ну, дай бог, чтоб был!» И боюсь идти, а ноги сами так и тащат.
Наши там, а дяденьки нет. И вот клепальщик показывает рукой: борода – значит, дяденька-то – где? Идёт, что ли? Я головой помотал и прочь, и бежать, бежать! Думаю, лежит он теперь там, в трюме, разбитый, – не может быть, чтобы живой. А сам думаю: «Ведь могла же рейка сама упасть, еле ведь держалась. И без меня могла упасть». Бегу, а сам вою. И бегу, где б народу меньше. И кому сказать? Полдвора перебежал и вижу – по рельсам кран ползёт и листы несёт, а на кране машинист. Я кричу ему. Не помню уж, что кричал. А он не слушает, смотрит, куда листы положить и чтоб не переехать кого. А я рядом бегу, падаю, и опять бегу, и кричу, и вою.
Он остановился, опустил листы и потом ко мне: «Чего там?» – говорит. Я вою – он ничего понять не может. Слез с крана. Я кричу: «Упал дяденька, – говорю, – с палубы в трюм, там лежит!»
Тогда он в машине что-то сделал. «Сейчас», – говорит. Тут уж я заревел и хотел бежать. А он кричит: «Стой! Как же найдём без тебя?» Побежал я за ним. Он там к мастеру; все смотрят. Мастер кого-то позвал, чтобы воздух застопорить.
Сразу всё остановилось – тихо. Вот страшно стало! «Коли стонет или кричит, услышим». Свечку принесли. Я смотрю: как я рейку оторвал, так она там и лежит. «Тут», – говорю.
Все собрались кругом. Меня спрашивают: «Ты видел?»
А я весь трясусь, и зубы трясутся.

Тут верёвку принесли и говорят: «Спуститься надо, сначала посмотреть, есть ли там он».
А я кричу, как лаю точно: «Я, я, меня спустите!»
Привязали меня, дали свечку. Я в этот пролёт, как в гроб, спускаюсь. Думаю: если он живой, буду его целовать, дяденьку милого моего, лишь бы хоть чуточку живой только. И смотрю всё вниз, а что на верёвке я, это я и забыл, и что высоко. Свечка мало светит. Я до самого дна дошёл, и нет его, нет там дяденьки. Я стал кричать: «Дяденька, а дяденька!» Гудит в железе мой голос. Я на верёвке походил туда-сюда – нет, и не видно, чтоб был.
Глянул вверх – чуть светлый круг видно, люк это проклятый. Стали меня подымать. А там уж свет электрический протянули, и полна палуба народу, и все на меня смотрят, а я ничего сказать не могу, как закаменел.
И вдруг смотрю: стоит среди людей мой дяденька, живой, совсем живой, и всё на меня смотрит. Я как брошусь к нему и тут заорал со всего голоса; кричу: «Дяденька, миленький, родненький!» И заревел.
А он нагнулся, гладит меня и совсем добрый-добрый, гладит меня и орёт хрипло: «Чего ты, шут с тобой? Да милый ты мой!» – и даже на руки поднял.
А это он тогда минул люк стороной и пошёл за инструментом, там и завозился – оттого его тогда внизу с нашими и не было. Стали работать, хватились, а меня тоже нет. Потом, когда воздух стал, наши подождали-подождали, да и вылезли поглядеть, что случилось, чего это весь завод стоит. А тут я. Ну, вот и всё.