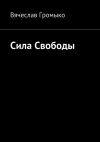Текст книги "Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя"

Автор книги: Брене Браун
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Брене Браун
Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя
© 2017 by Brénе Brown
© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2019
© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2019
© Серия «Сам себе психолог», 2019
© Перевод с английского языка, Трускова Е., 2019
* * *
Моему отцу: ты всегда поощрял меня смело высказываться и отстаивать свою точку зрения, даже когда был совершенно не согласен.
Спасибо!
Первая глава
Человек из ниоткуда, родом отовсюду
Я начинаю новую книгу, и меня накрывает привычный страх, ведь результаты долгих исследований и личные выводы зачастую противоречат общепринятым убеждениям и устоявшимся обычаям. В голову лезут малодушные мысли: «Да кто я такая, чтобы опровергать мнения большинства? Буду продолжать в том же духе – настрою всех против себя».
Чувствуя неуверенность и уязвимость, я ищу поддержки у первопроходцев и революционеров – их смелость так ярка и заразительна! Я пересматриваю записи их выступлений, читаю книги, ищу любую информацию: интервью, заметки, лекции – все что угодно. В минуты отчаяния и смятения я мысленно обращаюсь к ним за помощью. И вот великие смельчаки словно садятся рядом со мной и подбадривают. К тому же я не смею кривить душой и выражаться туманно, чувствуя, что они заглядывают через плечо.
Конечно, так было не всегда. Работая над первой книгой, я шла совершенно другим путем: думала о критиках и скептиках. Усевшись за письменный стол, я вспоминала назойливых и неприятных коллег, вредных профессоров, строгих критиков и злобных онлайн-троллей. «Напишу так, чтобы даже им не к чему было придраться, – и дело в шляпе!» – думала я. Ничего хорошего из этого не выходило: пытаясь всем угодить, я вяло и пространно описывала будни ученого-социолога – это скорее походило на путевые заметки позапрошлогодней давности. Читатель скучал, мои научные выводы казались несвежими (ну разумеется, ведь я надежно маскировала их безликими фразами, чтобы никому не противоречить).
Со временем я поувольняла всех скептиков и паникеров с должности внутреннего критика и стала вдохновляться опытом людей, меняющих мир своей искренностью, яркостью и даже дерзостью. Эти творческие бунтари сами могли при случае «уесть» кого угодно. Например, Джоан Роулинг, автор обожаемых мной книг о Гарри Поттере, буквально спасает меня, когда нужно рассказать, что, проводя научные исследования, я получила ключ, открывающий ворота в удивительный новый мир, полный необычных идей. Я прямо-таки слышу, как Джоан говорит: «Новые миры важны, но их нельзя описывать монотонно. Расскажи истории, из которых состоят твои миры. Неважно, чем они отличаются от реальности – в этих историях каждый сможет увидеть себя».
Писательница и активистка белл хукс[62]62
Глория Джин Уоткинс настаивает на том, чтобы ее псевдоним «белл хукс» писался со строчной буквы. – Примеч. перев.
[Закрыть] приходит на помощь в пылу острых споров при обсуждении расовых, гендерных и классовых вопросов. Благодаря ей я знаю: преподавание сродни священнодействию, и дискомфорт в процессе обучения чрезвычайно важен. Когда я что-то рассказываю, у меня за спиной стоят Эд Кэтмелл, Шонда Раймс и Кен Бернс[63]63
Эд Кэтмелл (англ. Ed Catmull – руководитель студии Pixar, Шонда Раймс (англ. Shonda Rhimes) – сценарист, режиссер и продюсер, создательница «Анатомии страсти», Кен Бернс (англ. Ken Burns) – кинорежиссер и продюсер. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Они шепчут на ухо подсказки, замечают, когда я нервничаю, тороплюсь и перескакиваю с темы на тему, пропуская важные детали и диалоги. «Пригласи нас в свою историю», – настойчиво просят они. На моей стороне многие музыканты и художники и, конечно же, Опра[64]64
Опра Гейл Уинфри (англ. Oprah Gail Winfrey) – американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель. – Примеч. перев.
[Закрыть]. Со стены рабочего кабинета на меня смотрит ее совет: «Проявлять смелость в жизни и в работе и никого при этом не разочаровать – невыполнимо!»
Но самая верная и постоянная из всех моих вдохновителей, пожалуй, Майя Энджелоу. Я узнала о ней, изучая поэзию в колледже, и за последние тридцать два года перечитала все ее произведения. Первое же стихотворение Still I Rise[1]1
Maya Angelou, And Still I Rise: A Book of Poems (New York: Random House, 1978).
[Закрыть] («Я поднимаюсь») перевернуло мой мир – столько в нем было мощи и красоты! Я искала книги, тексты, интервью Майи – все, что могла раздобыть, – и все это оказывалось близким. Ее строки, такие радостные и беспощадные, исцеляли, поддерживали, направляли, воодушевляли.
Но с одной цитатой Майи я была не согласна до глубины души. Я случайно услышала ее рассуждения о принадлежности и причастности, готовясь к курсу лекций о расовых и классовых вопросах в Хьюстонском университете.
В 1973 году доктор Энджелоу сказала Биллу Мойерсу в телевизионном интервью[2]2
Интервью с Биллом Мойерсом, впервые показано в эфире 21 ноября, 1973 г. Bill Moyers, A Conversation with Maya Angelou, Bill Moyers Journal, original series, Public Broadcasting System.
[Закрыть]:
«Свобода начинается с осознания того, что ты – человек из ниоткуда. Ты часть каждого уголка земли и в то же время не принадлежишь ни одному конкретному месту. Цена свободы высока. Награда велика».
Услышав это впервые, я возмутилась: «Что за ерунда? Какой жестокий мир рисует Майя – в нем ни у кого нет своего места! Что это за кучка одиноких и несчастных людей? Вряд ли Майя понимает важность причастности – врожденной человеческой потребности чувствовать себя частью чего-то большего».
Двадцать лет я злилась на Майю. Всякий раз, когда эта цитата попадалась мне на глаза, я чувствовала прилив ярости: «Зачем она так говорит? Это же неправда. Причастность – естественная человеческая потребность. Как можно жить, ни к кому и ни к чему не привязываясь?»
Мой гнев не угасал по двум причинам. Во-первых, Майя Энджелоу стала мне настолько близка, что я с трудом выносила разногласия в чем-то настолько принципиальном. А во-вторых, я всю жизнь отчаянно старалась вписаться и очень страдала, если ничего не получалось. Мне претила мысль о том, что свобода – это отсутствие причастности, ведь я постоянно чувствовала себя неприкаянной, и никакой свободы это чувство мне не приносило.
Поиски причастности начались с раннего детства: мне постоянно казалось, что я нахожусь не на своем месте. В 1969 году я пошла в детский сад в Новом Орлеане. Этот изумительный город в то время был буквально поражен расизмом (сегрегация в школах была отменена как раз в 1969-м). Я не очень понимала, что происходит, но видела яростный протест моей матери: она часто высказывалась публично и даже написала в местную газету Times-Picayune, обличая то, что сейчас мы назвали бы расовой дискриминацией. Я видела ее увлеченную борьбу, но не вникала. В то время мама была для меня лишь желанной гостьей в детской да замечательной портнихой: помню, как она сшила себе, мне и моей кукле Барби одинаковые ярко-желтые платья в клеточку.
Переезд из Техаса в Новый Орлеан дался мне непросто. Я ужасно скучала по бабушке и надеялась завести новых друзей в школе и в нашем многоквартирном доме. Но это оказалось совсем непросто. Все крутилось вокруг пофамильного списка учеников – от учета посещений уроков до выбора гостей на день рождения! Однажды мама моей одноклассницы помахала этим списком перед носом моей мамы: «Смотри-ка, всех черных девочек в классе зовут Кассандра!»
«Хм, – подумала мама. – Может быть, поэтому белые одноклассницы не зовут Кассандр на дни рождения…» Дело в том, что наше с мамой первое имя – Кассандра, хотя обычно нас знают по вторым именам. И в списке учеников я значилась как Кассандра Брене Браун.
В детстве меня не звали на некоторые дни рождения по той же причине, по которой недавно группа афроамериканских студенток в конце семестра подарила мне открытку с подписью: «Ладно, мы поняли, вы и правда Брене Браун». Они записались на мой курс о правах женщин – и чуть не упали со стульев, увидев меня у доски. Кто-то в зале спросил: «Неужели вы Кассандра Брене Браун?» Вообще-то да. Как-то раз в Сан-Антонио я пришла на собеседование – хотела устроиться секретарем по совместительству в частную клинику. Меня снова поприветствовали словами:
«Надо же, вы – Брене Браун! Какой приятный сюрприз!» Конечно же, я развернулась и ушла, не дождавшись начала встречи. Меня тепло принимали афроамериканские семьи школьных друзей, но было заметно, как непривычно им видеть в гостях белого человека. Для кого-то я была первой белой, вошедшей в дом. Это сложно осмыслить, когда тебе четыре и ты пришла к другу, чтобы поиграть и съесть кусок именинного пирога. Кажется, что чувствовать себя своей в детском саду легко, но уже тогда я оказалась чужой среди своих.
Через год мы переехали в Гарден Дистрикт – другой район Нового Орлеана. Оттуда отцу было ближе ездить на работу в университет. Меня перевели в католическую школу, в которой я оказалась единственной некатоличкой. Я снова не вписывалась! Год или два я терпела насмешки, меня часто одергивали, со мной не хотели играть. Как-то раз меня вызвали к директору. Я подумала, что меня ожидает сам Господь Бог! Но это был всего лишь священник. Он протянул мне отпечатанную вручную копию никейского Символа веры[3]3
Никейский Символ веры – молитва, в которой содержатся все основные положения и догматы католической церкви.
[Закрыть]. С его помощью я прочитала всю молитву вслух, строчку за строчкой. После этого он отпустил меня, написав родителям записку: «Теперь Брене – католичка». Следующе несколько лет в Новом Орлеане прошли безоблачно: я ко всему привыкла и даже стала наслаждаться жизнью – ведь у меня появилась самая лучшая на свете подруга Элеонор!
А потом наша семья снова переехала.
В четвертом классе – в Хьюстон. В шестом – в Вашингтон. В восьмом – обратно в Хьюстон. Подростку и так живется непросто, а мне снова и снова приходилось быть новенькой в классе.
Моим единственным приютом была семья. Менялись школы, лица соседей, одноклассников и учителей, но дома меня всегда ждали мама и папа. Их крепкий союз и наша близость благополучно компенсировали неспособность найти свою компанию. По крайней мере, дома я всегда чувствовала себя на своем месте.
А потом что-то сломалось. Когда мы вернулись в Хьюстон, брак родителей затрещал по швам. Это происходило медленно и мучительно для всех нас. В довершение ко всему прочему в восьмом классе я решила податься в чирлидеры.
Мы приехали в самом конце учебного года, и я вполне успевала пройти отбор в команду чирлидеров. Мне безумно хотелось стать одной из девушек в яркой форме, танцующих в перерывах футбольных игр. К тому времени родители уже постоянно ругались, и хотя стены заглушали то, что они говорили друг другу, интонации не оставляли сомнений в том, что происходит очередной скандал. Группа чирлидеров казалась мне спасением. Вообразите: стайка девушек в бело-синих топах, коротких юбках, светлых сапогах, одинаковых париках, маленьких белых ковбойских шляпах и с ярко-красной помадой на губах маршируют в перерыве матча под аплодисменты толпы футбольных болельщиков, не покидающих свои места, чтобы посмотреть тщательно отрепетированное представление. Вот он, выход – безупречное, идеально организованное убежище.
У меня за плечами были восемь лет балетной практики. Казалось, этого вполне достаточно, чтобы разучить чирлидерский танец, а после двух недель на жидкой диете (все претендентки сидели на овощном супе и воде) я просто не могла не пройти контрольное взвешивание. Сейчас я бы ни за что не позволила двенадцатилетней девочке сесть на жесткую диету, но тогда это никого не удивляло.
Пожалуй, никогда в жизни я ничего не хотела так сильно, как стать чирлидером в том году. Идеальная точность движений, синхронность, яркие костюмы – я была уверена, что идеально впишусь в команду. У меня появится своя старшая сестренка: она придумает, как украсить мой школьный шкафчик для личных вещей, мы станем ночевать в гостях друг у друга и ходить на свидания с футболистами. Я посмотрела фильм «Бриолин» как минимум сорок пять раз, и вот наконец у меня тоже должна была начаться яркая жизнь старшеклассницы с эффектными музыкальными номерами и жаркими танцевальными вечерами!
А самое главное, я смогу стать частью тесной группы, слитой настолько прочно, что все ее части двигаются как единый механизм. Именно этого мне так страстно хотелось – чувствовать себя полностью своей.
В Хьюстоне у меня не было подруг, поэтому пришлось готовить танец в одиночку. Он оказался простым – джазовый номер под оркестровую версию популярной песни Swanee. Танец сочетал плавное скольжение, особые жесты руками – задорные «джазовые ладошки» – и высокие взмахи ногами. Я могла поднять ногу выше всех девочек, ну разве что кроме Ли-Энн. Чтобы не сбиться от волнения в день просмотра, я зазубрила номер так, что могла танцевать даже во сне. Я и сейчас помню его кусочки.
Конечно, в день выступления я страшно нервничала. Голова кружилась с самого утра – то ли от нервов, то ли от жидкой диеты. Мама отвезла меня в школу и оставила во дворе одну. Я до сих пор с грустью вспоминаю, как заходила в здание в одиночестве, а остальные девочки встречали подруг, вылезавших из родительских машин, и радостно бежали к школе, держась за руки. Правда, в тот день у меня нашлась проблема посерьезнее.
В раздевалке я с ужасом поняла, что не так одета: у меня еще не было костюма правильных цветов, которые носили в новой школе. А все остальные девочки уложили волосы, ярко накрасились и облачились в атласные синие шорты или короткие белые юбки и нарядные золотистые блузки и топики. Даже их бантики представляли собой всевозможные сочетания белого, синего и золотого. У меня же не было ни макияжа, ни костюма – я переоделась в серые хлопковые шорты и черный спортивный купальник. Все сияли, а я выглядела как унылая жертва родительского развода.
Мой вес оказался на целых три килограмма меньше. Стоило бы радоваться, но я видела, как некоторые девочки спрыгивали с весов и в слезах убегали в раздевалку, и меня это ужасно огорчало.
Нам раздали номерки, мы их прикрепили на одежду английскими булавками. Выходили в группах по пять или шесть человек. Голова кружилась, но танец я знала прекрасно. Мне казалось, что я отлично выступила и место у меня в кармане. Мама забрала меня домой, осталось дождаться объявления результатов: их обещали вывесить на школьной доске ближе к вечеру. Время тянулось как резина.
Наконец наступил вечер, и мы подъехали на парковку моей новой школы. Вся семья – мама, папа, брат и сестры – остались ждать в машине. Потом родители собирались отвезти нас в Сан-Антонио к бабушке с дедушкой.
Я вошла в школу и направилась к информационной доске у спортивного зала. Рядом шла девочка, с которой мы танцевали в одной группе, – яркая, эффектная, да еще и звали ее Крис (унисекс-имена тогда были в моде, и я ей, конечно, завидовала).
Я принялась искать свой номер на листке с результатами. Если он был в списке – тебя взяли. Если не было – все пропало. Я танцевала под номером 62, поэтому впилась глазами в колонку шестого десятка: 59, 61, 64, 65. Я перепроверила. Меня в списке не было. Я прожигала взглядом проклятую доску, но от этого мой номер, увы, в списке не появился. Тут Крис завопила от радости и принялась прыгать. Ее отец выскочил из машины, подбежал, поднял ее и закружил, как в кино. Позже я подслушала на переменке, что танцевала-то я хорошо, но для чирлидера мне кое-чего не хватало. Бантика. Лоска. Подруг. Костюма и макияжа. Причастности к группе.
Меня снова отвергли. Едва ли я когда-нибудь чувствовала себя более скверно.
Я вышла из школы и села в машину. Родители не задали ни одного вопроса и не произнесли ни слова. Это молчание – как нож в сердце. Мало того, что я не смогла влиться в группу чирлидеров – я не вписывалась даже в собственную семью! Отец в школе был капитаном футбольной команды, мама – капитаном чирлидеров. А я была никем. Они стыдились меня и стыдились за меня. Мои родители высоко ценили умение выглядеть круто и быть своим в тусовке. Я не была крутой. Тусовка меня отвергла.
А теперь и семья тоже.
Многие тут пожмут плечами: к чему вспоминать ерундовую детскую неудачу, с которой уже давно пора бы справиться и забыть (так и вижу хэштег #проблемыпервогомира). Но позвольте рассказать, что эта история значила лично для меня. Было ли так на самом деле или мне только показалось, но в тот момент я почувствовала, что перестала быть частью семьи – первичной и важнейшей социальной группы. Если бы родители утешили меня, сказали, что гордятся моей смелостью (ведь я попробовала) или встали бы на мою сторону и подтвердили, что это ужасно несправедливо и я больше всех заслуживаю места в команде (чего я на самом деле хотела), эта история не повлияла бы так сильно на мою жизнь и не определила бы мою профессию!
Писать об этом оказалось труднее, чем я ожидала. Пришлось найти в iTunes песню, под которую я танцевала в тот день. Когда она заиграла, я разревелась. Я не горюю из-за того, что не стала чирлидером. Я плачу о девочке, которую не смогли утешить в день отказа, которая не понимала, что с ней происходит и почему все складывается именно так. О родителях, не сумевших помочь мне пережить боль и уязвимость, потому что они и сами не умели их переживать. О родителях, не умевших стоять на стороне собеседника, утешать или хотя бы говорить о случившемся, предлагать другой выход – создавать другую историю взамен той, в которой социально значимые группы раз за разом отвергают меня. К счастью, мои папа и мама не привили нам уверенность в том, что родительская забота прекращается, когда дети покидают отчий дом, – мы вместе учились говорить о смелости, уязвимости и истинной причастности. Это настоящее чудо!
Отвержение семьей жалит больнее всего, с этим не сравнятся даже крайняя бедность или жестокое обращение. Оно разбивает сердце, ранит душу, лишает чувства самоценности. Когда наше сердце разбито, душа стонет от боли, а чувство самоценности растоптано, есть только три варианта развития событий. Я их постоянно наблюдаю как в собственной жизни, так и в ответах участников моих исследований.
Первый: продолжать жить в боли, глушить ее на время разнообразными зависимостями и вовлекать в свои страдания окружающих.
Второй: отрицать боль, украдкой подсовывать ее окружающим, передавать детям по наследству.
Третий: найти смелость признать свою боль и выйти на новый уровень сострадания и эмпатии, позволяющий сопереживать себе и другим, замечать, когда кому-то тоже плохо.
Много лет я была адептом первых двух эмоциональных реакций – к счастью, у меня хватило сил встать на третий путь.
После той истории в моей семье все стало только хуже. Родители часто сцеплялись не на жизнь, а на смерть. Говорить по-другому они разучились. У меня складывалось впечатление, что все семьи нормальные, и только мои мама и папа находится на грани развода – я очень стыдилась их проблем. Брат и сестры приводили домой друзей, и те звали наших родителей мистер и миссис Би, как будто между ними царила полная идиллия. Но я-то знала, как они ругались, и понимала: мы совсем не похожи на благополучные семьи, которые показывают по телевизору.
Конечно, когда ты видишь только проблемы своей семьи, тебе кажется, что у всех других все не так плохо. Мне неоткуда было узнать, что многие семьи неидеальны, а родители – просто люди, которые пытаются справиться с жизненными трудностями, не наломав слишком много дров. Я не могла правильно оценить ситуацию, а родители не объяснили, что семейные неурядицы – вполне обыденная история. В то время я в полной уверенности считала себя единственным человек в городе, а может, и во всем мире, попавшем в такую передрягу (и это несмотря на то, что наша школа была одной из первых по количеству самоубийств среди учеников, о ней даже говорили в новостях). Только много лет спустя, когда мир изменился и люди начали говорить на сложные темы, я осознала, как часто внешне идеальные родители расставались, разводились, попадали в больницы или вообще умирали.
Возможно, тишина – самое страшное испытание для ребенка. Если в это время никто не поделится опытом переживания чего-то похожего, его верными спутниками становятся лишь придумывание одиноких историй и ощущение никчемности. Так получилось у меня. Вместо того чтобы синхронно танцевать в перерыве футбольного матча, я прятала травку в кресле и дружила с хулиганами, пытаясь стать частью хоть какой-нибудь тусовки. Я больше никогда не пробовала проходить отбор. Вместо этого я упорно старалась вписаться, как бы трудно мне это ни давалось. Мне было необходимо перестать чувствовать себя чужой и уметь становиться своей где угодно.
Когда родители ругались, брат и сестры приходили ко мне в комнату, и мы вместе ждали окончания ссоры. Как старшая сестра, в попытке защитить себя и младших, я решила использовать новоприобретенные навыки «своего человека». Если я научусь понимать, что послужило причиной очередного скандала, я смогу совершить чудо: починить родительский брак и спасти нашу семью. Когда мне удавалось погасить ссору, пользуясь своими наблюдениями и выводами, я чувствовала себя супергероем. Если ничего не выходило – винила себя в невнимательности и принималась изучать факты еще более тщательно. Именно тогда я стала увлеченно собирать и анализировать данные, прячась от уязвимости в этом кропотливом занятии. Я словно решила не жить, а наблюдать за жизнью глазами равнодушного исследователя.
Моя карьера строилась на навыках, которыми в детстве я отгородилась от боли. Наверное, если бы меня взяли в чирлидеры и родители жили мирно, все бы сложилось иначе. Но все пошло так, как пошло. Я настолько привыкла наблюдать, записывать, сверять и анализировать, что с готовностью занялась исследованиями профессионально. Я была уверена, что наблюдение за паттернами поведения приведут меня к глубокому осмыслению человеческих чувств и отношений и к пониманию того, как следует поступать мне, чтобы вписаться в очередную группу. Я увлеченно вычисляла, чего хотят другие, о чем они думают, почему они что-то делают – и ликовала, когда мои выводы работали. Я стала экспертом в подстройке под других, настоящим хамелеоном… и утратила контакт с собой.
Благодаря исследовательским навыкам я познакомилась с кучей замечательных людей – можно сказать, что в процессе глубинных интервью я узнала их лучше, чем они знали себя. Но сфокусировавшись на окружающих, я совершенно потеряла себя. К двадцати одному году я поступила в колледж, ушла из него, пережила развод родителей, полгода автостопила по Европе и вовлекалась во все опасные и дурацкие затеи, кроме, разве что, тяжелых наркотиков. Я стала уставать. Энн Ламотт в своей заметке[4]4
Пост Энн Ламотт (англ. Anne Lamott) на Фейсбуке от 7 июля 2015 года начинается со слов: «On July 7, 1986, 29 years ago, I woke up sick, shamed, hungover, and in deep animal confusion».
[Закрыть] упоминает фразу, брошенную одним из ее друзей-трезвенников. Эти слова точно описывают и мою попытку побега: «В конце концов, я деградировала быстрее, чем снижались мои притязания».
В 1987 году я познакомилась со Стивом. Неизвестно почему, но рядом с ним я могла чувствовать себя собой – я помнила это ощущение из детства, когда дружила с Элеонор. Стив меня разглядел. И хотя в то время я все еще занималась саморазрушением, он увидел и принял настоящую, живую меня. У него тоже была семейная травма, наша боль оказалась похожей – впервые каждый из нас нашел того, с кем можно было об этом поговорить. Мы раскрывались друг другу, висели на телефоне по десять часов. Вспоминали родительские ссоры, говорили об одиночестве, с которым сражались, делились горечью от непринадлежности к «своей стае».
Все началось с дружбы, но она быстро уступила место романтике, и мы начали встречаться. Меня сшибало с ног понимание, что меня видят. Иногда любовь Стива казалась дорогим подарком. Иногда я его ненавидела. Он открывал мне меня, и смотреть на это было невыносимо больно. Я горевала по девочке, которая не вписывалась ни в одну компанию. Я с горечью понимала: пора разобраться в том, кто я такая, что мне нравится, во что я верю и куда хочу идти. Стив очень меня поддерживал.
Так что нет, Майя Энджелоу, нет ничего хорошего в том, чтобы ничему не принадлежать! Я все еще не понимала, о чем она говорила.
Через семь лет мы поженились. Стив закончил медицинский и устроился на работу, а я занялась написанием диссертации. В 1996 году, сразу после защиты, я решила расквитаться со своими зависимостями. Я бросила и пить, и курить. Любопытно, что мой первый куратор из общества анонимных алкоголиков сомневался, не лучше ли мне сходить на собрание созависимых. Куратор общества созависимых отправил меня обратно к анонимным алкоголикам. Как вариант, предложил сходить на встречу людей, страдающих от компульсивного переедания, поскольку я «не совсем похожа на алкоголика». Представляете? Даже анонимные алкоголики не приняли меня в группу!
Еще один куратор предположила, что у меня целый букет зависимостей – проще говоря, что было поблизости, в то я и вцеплялась, лишь бы не страдать от уязвимости. Она посоветовала пойти на ту встречу, где я почувствую себя уютно – и неважно, что там обсуждают, если в результате мне удастся бросить пить, курить, душить других заботой и переедать. «А-а-а, ну понятно!»
Первые годы наш брак штормило. Работа и учеба отнимали последние деньги, заодно выматывая нервы и истощая нас со Стивом интеллектуально. Никогда не забуду слова университетского психолога: я жаловалась, а она вдруг ответила: «Да вы вообще можете скоро развестись. Он тебя любит сильнее, чем ты его».
Мой путь от попыток вписаться в группу к настоящей причастности начался лет в двадцать и занял пару десятков лет. К тридцати годам я отказывалась от одного саморазрушительного хобби за другим: даже перестала биться за перфекционизм! Мне все еще трудно дается озвучивать непопулярное мнение – даже в работе, – но кое-что точно поменялось. Теперь я реагирую по-другому, когда не нахожу на доске своего номера. Вместо того чтобы молчать и долго сгорать от стыда, я начала говорить о своих чувствах, страхах и боли, задавать вопросы о том, что для меня важно и почему для меня важно именно это. Готова ли я пожертвовать всем остальным ради того, чтобы в моей жизни царил идеальный порядок? Нет! Когда не приняли тему моей диссертации по качественным методам исследования, я все равно ее написала. Меня убеждали не изучать чувство стыда – я не послушала. Сказали, что я не смогу стать преподавателем или писать книги, которые будут интересны людям, – но я все равно это сделала.
Меня шатало из крайности в крайность: сначала я страстно хотела войти в тусовку, потом решила во что бы то ни стало отличаться, противостоять, бунтовать. Но это две стороны одной медали. Мне до сих пор важно ощущать себя частью группы, и если благодаря своим решениям я не вписываюсь в рамки своей профессии, мне становится страшно и неуютно. Это не идеальный расклад. Но я знаю: цена отказа от непопулярного мнения и согласия с тем, с чем я на самом деле не согласна, будет слишком высокой – здоровье, брак, трезвость. Даже если мне важно быть частью команды, эти три пункта еще важнее.
В 2013 году серия неожиданных событий привела меня к одному из важнейших моментов жизни. Я получила приглашение от Опры Уинфри на обожаемое мною шоу Super Soul Sunday.
За день до этого я отправилась поужинать с моим менеджером Мердоком, колоритным шотландцем, всю жизнь живущим в районе Вест-Виллидж. Из ресторана мы пешком направились в отель. Мердок остановился и тихонько спросил: «Где ты сейчас, Брене?»
Я проворчала: «На перекрестке улиц Мичиган и Чикаго» (чувствуя, что вредничаю от дискомфорта и уязвимости). Он не отставал: «Весь ужин ты где-то витала. Вежливо и дружелюбно поддерживаешь беседу, но совершенно не вовлечена. Что с тобой?»
Я выдохнула и ответила честно: «Завтра Super Soul Sunday. Мне страшно. А когда я боюсь, то как будто выхожу из тела – поднимаюсь над собой и просто наблюдаю вместо того, чтобы самой все проживать».
Мердок кивнул: «Ага. Знаешь, это настолько важное событие, что ты расстроишься, не прожив его целиком. Попробуй вернуться. Будь собой, если сможешь».
Наутро, пока я одевалась на встречу с Опрой, пришло сообщение от дочери. Она спрашивала, отдала ли я в школу записку с разрешением поехать на экскурсию? Я ответила утвердительно. И чуть не заплакала: это мне себе надо написать записку с разрешением перестать бояться и почувствовать радость сегодняшнего события! Так все и началось.
Я воровато оглянулась и убедилась, что в гостиничном номере на меня никто не смотрит (ведь я решила сделать что-то очень странное). Затем подошла к столу, села, достала из сумки для ноутбука пачку стикеров и написала на верхнем:
«Разрешение веселиться, быть вне себя от радости и вести себя смешно».
Эта бумажка стала первым из сотен стикеров с разрешениями, которые я регулярно сочиняю до сих пор. Да я готова прочитать короткую лекцию об их пользе каждому, кто уделит мне пять минут внимания! Это отличный способ установки намерения. Но помните, тут все, как с запиской в школу: вы разрешаете ребенку пойти в зоопарк, но, чтобы в него попасть, надо обязательно поехать на автобусе. Зафиксируйте намерение, а затем идите к нему! В тот день я все-таки села в свой «автобус».
Та записка была моей попыткой наконец-то принадлежать себе – и никому больше. Съемка с Опрой началась очень мило. Сначала мы обе разволновались перед камерой, увидев друг друга впервые, но уже через пару минут мы смеялись и весело перебивали друг друга. Она оказалась именно такой, какой я ожидала. Доброй и неистово горячей. Нежной и уверенной. Интервью промчалось незаметно. Когда время вышло, Опра посмотрела на меня и сказала: «Часа оказалось мало. Надо снять еще один эпизод». Я неуверенно огляделась по сторонам, как будто ожидала, что кто-то начнет ругаться, услышав ее предложение.
«Вы серьезно?» – спросила я.
Опра улыбнулась в ответ: «Серьезно. У нас осталось много тем для разговора». Прищурившись, я вглядывалась в темноту студии, гадая, где находится будка продюсера, и переспросила: «Думаете, это стоит предложить?»
Опра опять улыбнулась: «Кому предложить-то?» Она не вредничала. Думаю, ее правда повеселил мой вопрос.
«Ох, действительно. Простите, пожалуйста. Я согласна. Но ведь нужно сменить одежду, чтобы не получилось, что я два эпизода выгляжу одинаково. Черт, а я не привезла ничего, кроме блузки, джинсов и ковбойских сапог».
«Сапоги с джинсами – не беда. А блузку я одолжу».
Опра встала с кресла, чтобы переодеться, но задержалась на минутку, что-то вспомнив: «Знаете, сегодня в студию пришла Майя Энджелоу. Хотите повидаться с ней?»
Я застыла. В ушах зазвенело, слало трудно дышать. Да такого просто не может быть!
«Брене? Вы меня слышите? Хотите повидаться с Майей?» Я еле сидела.
Опра не отставала: «Вам интересно?»
Я вышла из оцепенения и прямо подпрыгнула: «О боже мой, ну конечно же, да!!!»
Опра взяла меня за руку и провела в гримерку рядом с той, где я готовилась к съемкам. Мы вошли, и первое, что бросилось мне в глаза, – большой телевизор у противоположной стены. На экране были видны два пустых стула – студия, из которой мы только что вышли.
Майя Энджелоу посмотрела мне на меня. «Добрый день, доктор Браун», – сказала она. – «Я смотрела ваш эпизод».
Я подошла, пожала протянутую руку и ответила: «Для меня большая честь познакомиться с вами. Вы и ваши произведения – огромная часть моей жизни».