Текст книги "Свобода и закон"
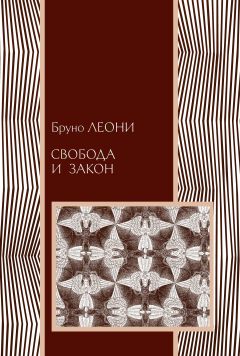
Автор книги: Бруно Леони
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Экономисты не отрицают, но и не учитывают непосредственным образом того, что каждый экономический акт, как правило, является также и юридическим актом, последствия которого могут быть принудительно обеспечены правительством в случае, если стороны сделки не будут вести себя так, как это ожидалось бы в соответствии с их соглашением. Лайонел Роббинс отметил в своей книге «Природа и значение экономической теории» (Lionel Robbins, The Nature and Significance of Economics, 1932), что и в наши дни экономисты редко исследуют взаимосвязи экономики и права, и хотя эту взаимосвязь никто не оспаривает, на нее обычно не обращают внимания. Многие экономисты спорили о различиях между производительным и непроизводительным трудом, но немногие исследовали то, что Линдли Фрезер в монографии «Экономическая мысль и язык» (Lindley Frazer, Economic Thought and Language, 1947) называет «контрпроизводительным» трудом, то есть трудом, который приносит пользу работнику, но не тем, на кого – или против кого – он работает. «Контрпроизводительный» труд, например, труд нищих, шантажистов, грабителей и воров, остается за пределами экономической теории; вероятно, потому что экономисты уверены в том, что «контрпроизводительный» труд обычно нарушает закон. Таким образом, экономисты признают, что обычно они учитывают только те полезности, которые совместимы с законом большинства стран. Итак, взаимосвязь экономики и права подразумевается, но экономисты редко рассматривают ее в качестве объекта, достойного их изысканий. Например, они изучают обмен благами, но не поведение в процессе обмена, которое делает обмен благами возможным и регулируется, а иногда – принудительно обеспечивается законом во всех странах. Поэтому свободный рынок иногда кажется чем-то более «естественным», чем государство, или, как минимум, чем-то независимым от государства, если не чем-то, что нужно поддерживать «вопреки» государству. На самом деле, рынок не более «естественен», чем государство, и оба этих института не более естественны, чем, к примеру, мосты. Люди, которые этого не знают, должны серьезно относиться к песенке, которую когда-то распевали на Монмартре:
Voyez comme la nature a en un bon sens bien profond
А faire passer les fleuves justement sous les ponts.
(Глянь, смысла здравого хватает у Природы
Недаром под мостом прокладывает воды.)
Конечно, экономическая теория не оставляет без внимания то, что именно государство обеспечивает людям практические полномочия, позволяющие им избежать на рынке принуждения со стороны других людей. Роббинс удачно подчеркнул это в книге «Теория экономической политики в английской политической экономии» (Lionel Robbins, The Theory of Economic Policy in English Political Economy, London, 1952), отметив, что «мы получим совершенно искаженный образ» значения той доктрины, которую Маршалл назвал системой экономической свободы, «пока мы не увидим ее в сочетании с теорией права и функций правительства, которую ее авторы, начиная с Адама Смита, также поставили на обсуждение». Как говорит Роббинс, «идея свободы в вакууме была им совершенно чужда». Однако Роббинс также отметил, в книге «Экономическое планирование и мировой порядок» (Economic Planning and International Order, London, 1937), что классики экономической теории уделили слишком мало внимания тому, что международная торговля не могла возникнуть просто как следствие теоремы сравнительных издержек, но потребовала определенной международной юридической организации, чтобы противостоять врагам мировой свободной торговли, которых, в определенной степени, можно сравнить с врагами свободной торговли в отдельно взятой стране, например, с грабителями и ворами.
С другой стороны, то, что во всех политических обществах принуждение неизбежно связано со «свободой», привело к появлению идеи о том, что в этих обществах «увеличение свободы» может быть каким-то образом совместимо с «увеличением принуждения», или, как минимум, создало для этой идеи благоприятные условия. В свою очередь, эта идея была связана с путаницей в значениях терминов «принуждение» и «свобода», которая возникла главным образом не в результате пропаганды, а из-за неопределенного значения этих слов в обычном употреблении.
Мизес говорит, что «свобода» – это человеческое понятие. Следует добавить, что характеристика «человеческий» верна в том смысле, что, когда мы употребляем этот термин в обычном языке, мы всегда подразумеваем некое предпочтение со стороны людей. Однако это не означает, что о человеке можно сказать, что он «свободен» только от власти над ним других людей. Можно также сказать, что человек «свободен» от болезни, от страха, от нужды, так как все эти выражения используются в обычном языке. Это поощрило некоторых людей рассматривать «свободу от принуждения со стороны других людей» и, например, «свободу от нужды», как аналогичные примеры, не замечая, что речь идет о совершенно разной «свободе». Путешественник может умирать от голода в пустыне, куда он пожелал отправиться в одиночку, без всякого принуждения со стороны других. О нем нельзя сказать, что он «свободен от голода», но он есть и был совершенно «свободен от принуждения и давления» других людей.
Некоторые мыслители, и в древности, и в наше время, пытались связать то, что некоторые люди не свободны от голода и болезней, с тем, что другие люди в том же обществе не свободны от принуждения со стороны своих собратьев. Конечно, взаимосвязь очевидна, когда кто-то находится в рабстве у тех, кто с ним плохо обращается и, скажем, доводит до голодной смерти. Но эта связь совсем неочевидна, когда люди не являются рабами других людей. Тем не менее некоторые мыслители ошибочно считали, что во всех случаях, когда кто-то нуждается в чем-то, что ему необходимо, или просто в чем-то, чего ему хочется, он был несправедливо «лишен» этой вещи теми людьми, у которых она есть.
История до такой степени полна примерами насилия, грабежа, вторжений и т. д., что это заставило многих мыслителей утверждать, что в основе частной собственности лежит просто насилие и в силу этого ее следует рассматривать как нечто неисправимо противозаконное – и в наше время, и в древние эпохи. Например, стоики считали, что первоначально вся земля была общей собственностью всех людей. Они называли эту мифическую ситуацию communis possessio originaria (исходным общим владением). Некоторые отцы Церкви, особенно в романских странах, разделяли такие взгляды. Так, св. Амвросий, знаменитый архиепископ Милана, в V веке н. э. писал, что Природа позаботилась о том, чтобы земля со всеми ее дарами и богатствами находилась в общем достоянии людей, а право частной собственности порождено человеческим насилием. Он цитирует стоиков, которые утверждали, что все на земле и на море было сотворено для общего пользования всех людей. Амвросиаст, ученик св. Амвросия, говорит, что Господь дал людям все в общее достояние, и это относится к солнцу и к дождю так же, как и к земле. То же самое говорит св. Зенон Веронский (в его честь названа одна из самых красивых романских церквей – Сан Дзено) о людях, живших в древнейшие времена: «У них не было частной собственности, но все у них было общее: солнце, дни, ночи, дождь, жизнь и смерть, и все эти вещи были даны божественным Провидением всем им в равной мере, без исключения». Он же добавляет, явно соглашаясь с идеей происхождения частной собственности из насилия и тирании: «Частный владелец, без сомнения, подобен тирану тем, что один имеет полную власть над вещами, которые были бы полезны другим людям». Почти ту же самую идею можно найти несколько столетий спустя в трудах некоторых канонистов. Например, автор первого свода канонического права, так называемого decretum Gratiani (декрета Грациана), пишет: «Тот, кто намерен удержать больше вещей, чем ему нужно, – грабитель».
Современные социалисты, включая Маркса, выступили просто-напросто с исправленной версией той же самой идеи. Например, Маркс различает несколько стадий в истории человечества: первая стадия, на которой производственные отношения были отношениями сотрудничества, и вторая, на которой некоторые люди впервые получили контроль над факторами производства, тем самым поставив меньшинство в положение, когда его кормит большинство. Древний архиепископ Медиоланский выразил бы то же самое менее замысловатым и более энергичным языком: «Природа породила право на общее достояние; насилие породило частное право».
Конечно, возникают вопросы: как можно говорить об «общем достоянии»? Кто установил, что все вещи находятся в «общем владении» всех людей, и почему? Обычный ответ стоиков, их последователей и отцов Церкви первых веков христианства состоял в том, что если луна, солнце и дождь общие для всех людей, то нет оснований считать, что и другие вещи, например земля, не являются общими. Эти сторонники коммунизма не удосужились изучить смысл слова «общий». Тогда они знали бы, что земля не может быть «общей» для всех людей в том же смысле, что солнце и луна, и что в силу этого обработка земли сообща – это совсем не то же самое, что прогулка при лунном или солнечном свете. Современные экономисты объясняют, что различие заключается в том, что, в отличие от дефицита земли, дефицита лунного света не существует. Несмотря на тривиальность этого утверждения, подразумеваемая аналогия между редкими вещами, вроде пригодной для земледелия земли, и вещами, имеющимися в избытке, вроде лунного света, для многих людей была убедительной причиной заявлять, что «неимущие» пали жертвами «принуждения» со стороны «имущих»; что последние незаконно лишили первых некоторых вещей, изначально бывших «общими» для всех людей. Терминологическая путаница вокруг использования слова «общий», свойственная стоикам и отцам раннего христианства и сохранившаяся у современных социалистов всех цветов и оттенков, как я полагаю, тесно связана с тенденцией, особенно ярко проявившейся в наше время, использовать слово «свобода» сомнительным образом, связывая по смыслу «свободу от нужды» со «свободой от принуждения со стороны других».
В свою очередь, этот случай путаницы связан с другим. Когда лавочник, врач или адвокат ждут клиентов, каждый из них может ощущать, что их возможность заработать на жизнь зависит от этих клиентов. Это верно. Но если клиент или покупатель не появляются, то нельзя, не выходя за рамки принятого словоупотребления, сказать, что клиенты (или покупатели), которые не приходят, принуждают лавочника, врача или адвоката к голодной смерти. Действительно, никто никого не принудил тем, что не пришел. Если предельно упростить ситуацию, можно допустить, что клиентов (или покупателей) вообще не было. Если теперь предположить, что клиент приходит и предлагает врачу или адвокату очень маленькую оплату, то невозможно сказать, что этот конкретный клиент «принуждает» врача или адвоката согласиться на эту оплату. Можно относиться с презрением к человеку, который, хорошо умея плавать, не бросается на помощь тонущему, но нельзя, оставаясь в рамках принятого словоупотребления, сказать, что, отказавшись от спасения утопающего, этот человек «принудил» его утонуть. В этой связи я должен согласиться со знаменитым немецким юристом XIX века Рудольфом Иерингом, возмущавшимся бесчестностью уловок, которые в шекспировском «Венецианском купце» использовала Порция против Шейлока, представляя интересы Антонио. Можно относиться к Шейлоку с презрением, но нельзя сказать, что он «принудил» Антонио или кого-либо другого заключить с ним соглашение – соглашение, которое в данных обстоятельствах предусматривало смерть последнего. Единственное, чего хотел Шейлок, – принудить Антонио исполнить обязательство по договору после того, как тот его подписал. Несмотря на эти очевидные обстоятельства, люди часто склонны судить Шейлока так же, как они судили бы убийцу, и осуждать ростовщиков, как если бы они были грабителями и пиратами, хотя ни Шейлока, ни обычного ростовщика нельзя правомерно обвинить в том, что он кого-либо принуждает занимать у него деньги под ростовщические проценты.
Несмотря на различие между «принуждением» в смысле реальных действий, направленных на причинение кому-то вреда против его воли, и поведения, подобного шейлоковскому, многие люди, особенно европейцы в последнее столетие, пытались привить обычному языку терминологическую путаницу, в результате которой человека, который никогда не связывал себя обещанием совершить нечто ради других людей и который, соответственно, ничего ради них не делает, обвиняют в так называемом бездействии и осуждают, как если бы он «принудил» других что-нибудь делать против их воли. С моей точки зрения, это не соответствует нормальному словоупотреблению во всех тех странах, которые мне знакомы. Вы не «принуждаете» человека, если просто не делаете по отношению к нему чего-то, что вы не обещали сделать.
Все социалистические теории насчет так называемой эксплуатации работников работодателями – и шире, эксплуатации «имущими» «неимущих» – в конечном счете основаны на этой терминологической путанице. Во всех случаях, когда самозваные историки промышленной революции в Англии XIX века говорят об «эксплуатации» рабочих работодателями, они подразумевают именно то, что работодатели использовали против рабочих «принуждение», чтобы заставить их согласиться на низкую зарплату за тяжелую работу. Когда законы вроде Акта о профессиональных спорах 1906 года в Англии предоставили профсоюзам привилегию незаконными способами принуждать работодателей соглашаться на их требования, подразумевалось, что наемные работники были более слабой стороной и в силу этого работодатели могли «принудить их» согласиться на низкую, а не на высокую зарплату. Привилегия, установленная Актом о профессиональных спорах, была основана на хорошо знакомом европейским либералам того времени принципе, который полностью соответствовал значению «свободы» в обычном языке: вы «свободны», если вы можете принудить других людей отказаться от использования принуждения по отношению к вам. Неприятность состояла в том, что если принуждение, право на которое было предоставлено профсоюзам, было принуждением в обычном значении, соответствующим значению этого слова в обычном языке, то «принуждение» со стороны работодателей, для предупреждения которого вводилась привилегия, не соответствовало смыслу слова «принуждение» в обычном языке – ни в то время, ни сейчас. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, мы должны будем согласиться с Фредериком Поллоком, который написал в книге «Деликтное право» (Frederick Pollock, Law of Torts, 1888), что «юридическая наука, разумеется, не имеет никакого отношения к эмпирической силовой операции над страной», которую британские законодатели сочли возможным совершить посредством Акта о профессиональных спорах 1906 года. Следует также сказать, что обычное словоупотребление не имеет ничего общего с тем значением слова «принуждение», которое сделало его в глазах британских законодателей подходящим инструментом для того, чтобы совершить над страной такую силовую операцию.
Непредвзятые историки, например, Т. С. Эштон, доказали, что общее положение беднейшей части населения Англии после наполеоновских войн объяснялось причинами, не имевшими ничего общего с поведением в этой стране предпринимателей новой промышленной эры, а корни бедности следует искать в куда более ранних периодах английской истории. Более того, экономисты часто показывали – как приводя неоспоримые теоретические аргументы, так и анализируя статистические данные, что высокие ставки заработной платы зависят от соотношения между инвестированным капиталом и количеством работников.
Но не в этом состоит ключевой пункт нашей аргументации. Если вкладывать в слово «принуждение» настолько разные значения, как те, о которых мы только что рассказали, то можно легко прийти к заключению, что предприниматели времен Промышленной революции в Англии, например, «принуждали» людей жить в старых и дурно влияющих на их здоровье лачугах потому, что они не построили для своих работников достаточное количество хороших новых домов. Точно так же можно было бы сказать, что промышленники, которые не делают гигантских инвестиций в оборудование, вне зависимости от возможной прибыли, «принуждают» своих работников довольствоваться низкими ставками заработной платы. На практике этой терминологической путанице способствуют некоторые лоббистские и пропагандистские группы, заинтересованные в том, чтобы создавать персуазивные определения «свободы» и «принуждения». В итоге людей можно осудить за «принуждение», которое они якобы совершают по отношению к людям, с которыми они никогда не имели ничего общего. Так, пропаганда Муссолини и Гитлера перед Второй мировой войной и во время нее включала утверждение, что народы других стран, в том числе находящихся далеко от Италии и Германии, например, Канады и США, «принуждали» итальянцев и немцев довольствоваться своими скудными сырьевыми ресурсами и относительно небольшой территорией, несмотря на то, что ни Канада, ни США не захватили ни пяди итальянской или немецкой территории. Точно так же после последней мировой войны многие, особенно представители итальянской «интеллигенции», говорили нам, что богатые земельные собственники юга Италии несут ответственность за нищету бедных работников-южан и что жители Северной Италии непосредственно отвечают за депрессию на глубоком юге, хотя и не существовало никаких серьезных доказательств ни того, что богатство некоторых земельных собственников юга Италии было причиной бедности работников, ни того, что относительно высокий уровень жизни в Северной Италии был причиной низкого уровня жизни на юге. Исходный тезис, лежавший в основе всех этих идей, состоял в том, что «имущие» Южной Италии принуждали «неимущих» мало зарабатывать, а жители Северной Италии «принуждали» тех, кто живет на юге, не развивать промышленность, а довольствоваться доходами от сельского хозяйства. Нужно также отметить, что похожая терминологическая путаница лежит в основе многих требований и установок правящих элит некоторых бывших колоний, например, Индии или Египта, по отношению к народам Запада (включая США).
Время от времени это приводит к бунтам, беспорядкам и другого рода враждебным действиям со стороны людей, которые чувствуют себя «жертвами» принуждения. Другой, не менее важный результат – это законы, постановления и договоры как на национальном, так и на международном уровне, предназначенные для того, чтобы помочь якобы страдающим от «принуждения» людям противодействовать этому «принуждению» с помощью законодательно установленных процедур, привилегий, гарантий, иммунитетов и пр.
Итак, путаница в словах приводит к спутанным чувствам, и в результате возникает эффект резонанса, который запутывает все еще больше.
Я не так наивен, как Лейбниц, полагавший, что многие политические и экономические проблемы можно улаживать не посредством споров (clamoribus), а посредством каких-нибудь вычислений (calculemus), которые дали бы заинтересованным людям возможность согласиться хотя бы в принципе относительно предмета спора. Однако я настаиваю на том, что разъяснение терминологии, вероятно, принесло бы людям больше пользы, чем обычно считается, если бы только люди находились в том положении, когда они могут извлечь эту пользу.
Глава 3. Свобода и верховенство права
Не так легко понять, что англоговорящие люди имеют в виду под выражением rule of law[20]20
А. К. Романов определяет этот термин следующим образом: «…принцип англо-американского права, предусматривающий верховенство права над законом» (Романов А. К. Правовая система Англии. М.: Дело, 2000. С. 333). – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. За последние семьдесят или даже пятьдесят лет значение этих слов изменилось и это выражение стало восприниматься и в Англии, и в Америке как несколько устаревшее. Тем не менее некогда оно соответствовало идее, которая (как отметил Хайек в своей первой лекции о свободе и верховенстве права, с которой он выступил в Национальном банке Египта в 1955 году) «во всех западных странах если и не воплотилась в жизнь, то полностью завоевала умы», так что «мало кто сомневался в том, что эта идея предназначена для того, чтобы править миром»[21]21
F. A. Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law (Cairo: Fiftieth Anniversary Commemoration Lectures, National Bank of Egypt, 1955), p. 2. Практически тот же текст был опубликован Хайеком в книге The Constitution of Liberty.
[Закрыть].
Написать полную историю этих изменений пока еще нельзя, потому что они еще продолжаются. Более того, это запутанная, фрагментарная, нудная история, которая, сверх того, скрыта от тех людей, читающих только газеты, журналы и романы, не имея вкуса к юридическим тонкостям, например, к таким подробностям, как делегирование судебной власти и законодательных полномочий. Но эта история касается всех западных стран, которые все еще объединяет не только юридический идеал, зафиксированный в словах «верховенство права», но и политический идеал, обозначенный словом «свобода».
Я бы не рискнул утверждать, как Хайек в упомянутой выше лекции, что «судьба нашей свободы решается в ходе технического спора о деталях административного права». Я бы предпочел сказать, что судьба свободы решается во многих местах: в парламентах, на улицах, в домах и, в конечном счете, в умах чернорабочих и хорошо образованных людей, например, ученых и университетских профессоров. Я согласен с Хайком в том, что в этом отношении мы сталкиваемся с тихой революцией. Но я не согласился бы ни с ним, ни с французским профессором Рипером, что эта революция – нет, государственный переворот – совершается либо исключительно, либо главным образом специалистами: юристами и государственными чиновниками. Иными словами, медленные, но непрерывные изменения в значении словосочетания «верховенство права» – это не результат «революции менеджеров», если использовать меткое выражение Бернема. Это гораздо более широкий феномен, связанный со многими событиями и ситуациями, подлинный смысл и значение которых трудно установить и о которых историки говорят в обтекаемых выражениях, вроде «общая тенденция нашего времени». Процесс, посредством которого в последние сто лет слово «свобода» стало приобретать разные, несовместимые между собой значения, был связан, как мы видели, с терминологической путаницей. Другой случай терминологической путаницы, менее очевидный, но не менее значимый, могут обнаружить те, кто достаточно терпелив, чтобы исследовать тихую революцию в использовании выражения «верховенство права».
Со времен Монтескье и Вольтера исследователи из континентальной Европы, несмотря на всю их мудрость, ученость и восхищение британской политической системой, были не в состоянии правильно понять значение британской конституции. Вероятно, из тех, на кого распространяется эта критика, самым известным является Монтескье, особенно его прославленное истолкование разделения властей в Англии – несмотря на то, что его толкование (многие назвали бы его «перетолкованием»), в свою очередь, оказало огромное влияние на сами англоговорящие страны. Выдающиеся английские ученые, в свою очередь, подвергались аналогичной критике за свои истолкования конституций стран континентальной Европы. Вероятно, самый знаменитый из этих ученых – Дайси, неверное истолкование которым французского droit administratif (административного права), по мнению другого известного английского исследователя, Карлтона Кемпа Аллена, было «фундаментальной ошибкой» и одной из причин, по которой развитие правового государства в современных англоязычных странах пошло по тому пути, по которому оно идет сейчас. Дело в том, что в Англии никогда не существовало разделения властей, хотя в это в свое время и верил Монтескье, а французское droit administratif, итальянское diritto administrativo или немецкое Verwaltungsrecht[22]22
И то, и другое, и третье переводится как «административное право» и обозначает примерно то же, что «административное право» в российском понимании. – Прим. перев.
[Закрыть] нельзя отождествить с тем administrative law[23]23
Буквальный перевод с английского – «административное право»; имеет мало общего с тем, что мы на континенте обозначаем теми же словами. – Прим. перев.
[Закрыть], которое Карлтон Аллен Кемп и большинство современных английских исследователей имеют в виду, когда они говорят о последних изменениях в системе судебной и исполнительной власти Соединенного королевства.
После долгих раздумий над этим я склонен прийти к заключению, что даже более фундаментальное значение, чем ошибочные истолкования Дайси, с одной стороны, и Монтескье – с другой, имели ошибки тех исследователей и обычных людей, которые попытались воспроизвести в континентальной Европе британское «верховенство права» и вообразили себе, что континентальная имитация английской или американской системы (например, немецкое Rechtsstaat, французское e'tat de droit или итальянское stato di diritto[24]24
И то, и другое, и третье буквально переводится как «правовое государство». – Прим. перев.
[Закрыть]) получилась действительно очень похожей на английское rule of law. Даже Дайси, который обладал трезвым взглядом на некоторые важные в этом отношении различия, а кроме того, как полагают некоторые, был предубежден по отношению к французам и к континентальным конституциям, считал, что в начале нашего века разница между английским и американским «правовым государством» и конституциями государств континентальной Европы была не очень велика: «Если ограничить наши наблюдения Европой ХХ века, вполне можно утверждать, что сегодня в большинстве европейских стран верховенство права почти так же укоренилось, как и в Англии, и что, во всяком случае, частные лица, которые не вмешиваются в политику, могут чувствовать себя в безопасности – как по отношению к правительству, так и ко всем остальным – до тех пор, пока соблюдают закон»[25]25
Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (8th ed.; London: Macmillan, 1915), p. 185.
[Закрыть].
С другой стороны, некоторые континентальные исследователи, например, великие французские конституционалисты (garantistes) Гизо и Бенжамен Констан, а также германские теоретики правового государства (Rechtsstaat) Карл фон Роттек, К. Велькер, Роберт фон Моль и Отто фон Гирке полагали (я сказал бы, что ошибочно), что они описывают и рекомендуют гражданам своих стран такой тип государства, который очень похож на Англию. В наши дни Хайек попытался показать, что немецкая доктрина Rechtsstaat, до того как в конце XIX века ее извратили реакционные (reactionnaires) сторонники историзма и позитивизма, внесла большой вклад, если не практический, то теоретический, в идеал «правового государства».
Этот идеал и идеал Rechtsstaat до того, как его извратили, действительно имеют много общего. Почти все черты, которые так блистательно описал Дайси в указанной выше книге, объясняя, что представляет собой английское «правовое государство» («rule of law»), можно найти также в конституциях стран континентальной Европы, начиная с французской конституции 1789 года и до наших дней.
Верховенство закона (supremacy of the law) было главной характеристикой, которую выявил Дайси в своем исследовании. Он цитирует старый закон английских судов: «La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley il mkme et toutes ses sujets sont rule's, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inheritance sera» («Закон выше короля, потому что и король, и все его подданные подчиняются закону, и без него не было бы ни короля, ни королевства»). Согласно Дайси, верховенство закона было, в свою очередь, принципом, который соответствовал трем другим представлениям и, соответственно, подразумевал три разных сопутствующих друг другу значения словосочетания rule of law: 1) отсутствие у правительства произвольных полномочий наказывать граждан или совершать действия, направленные против жизни и собственности; 2) подчинение любого человека, вне зависимости от его ранга и состояния, общему закону страны и судам общей юрисдикции; 3) господство духа законности (legal spirit) в английских институтах благодаря тому, что, как объясняет Дайси, «общие принципы английской конституции (например, право на личную свободу и право на свободу собраний) являются результатом судебных решений… в то время как во многих иностранных конституциях гарантии личных прав вытекают из общих (абстрактных) принципов конституции»[26]26
Ibid., p. 191.
[Закрыть].
Американцы могут сомневаться в том, относил ли Дайси американскую систему к тому же классу, что и системы континентальной Европы. Американцы выводят, или, возможно, выводят, свои личные права из общих принципов, сформулированных в их конституции и первых десяти поправках к ней. Собственно говоря, Дайси рассматривал США как типичный пример страны, живущей в условиях «верховенства права», потому что она унаследовала английские традиции. Он был прав; это видно, если, с одной стороны, принять во внимание то, что отцы-основатели сначала не считали необходимостью письменную фиксацию билля о правах – они даже не включили его в текст конституции – и, с другой стороны, то значение, которое судебные решения обычных судов в сфере прав индивидов имели и продолжают иметь в политической системе США.
Хайек, один из современных выдающихся теоретиков «верховенства права», рассматривает четыре его характеристики, которые в основном, хотя и не полностью, совпадают с описанием Дайси. Согласно Хайеку, всеобщий характер, равенство и определенность закона, так же как то, что дискреционные полномочия административных органов на применение мер принуждения (административное вмешательство по отношению к индивидам и их собственности) всегда можно оспорить в суде, составляют на практике «самую суть дела, ту решающую точку, от которой зависит, восторжествует верховенство права или нет»[27]27
F. A. Hayek, op. cit., p. 45.
[Закрыть].
На первый взгляд, теории Хайека и Дайси различаются только в мелких деталях. Действительно, Хайек подчеркивает разницу между законами и указами в связи со «всеобщим характером» закона и отмечает, что закон ни в коем случае не должен относиться к конкретным индивидам и вступать в силу в случае, если в момент его вступления в силу можно предвидеть, каким конкретным индивидам он поможет или повредит. Однако это можно считать особого рода развитием идеи Дайси о том, что «верховенство права» означает отсутствие у правительства произвольной власти. В свою очередь, равенство в описании Дайси воплощается во второй характеристике «верховенства права», а именно в том, что каждый человек, независимо от его ранга или состояния, подчиняется ординарному закону (ordinary law) страны.
В этой связи мы должны отметить разницу между интерпретациями равенства или, как минимум, между их прикладным использованием у Дайси и у Хайека. Хайек, подобно Карлтону Кемпу Аллену, упрекает Дайси за фундаментальную ошибку в интерпретации французского административного права (droit administratif). Дайси, согласно сэру Карлтону и профессору Хайеку, был неправ, когда считал, что французское и вообще континентальное административное право (droit administratif), по крайней мере в зрелой стадии развития, было более или менее произвольным правом, поскольку не было связано с обычным судопроизводством. Согласно Дайси, только суды ординарной юрисдикции – и в Англии, и во Франции – могли действительно обеспечивать защиту граждан, применяя ординарный закон страны. То, что полномочия рассматривать иски граждан к государственным чиновникам были предоставлены специальным судебным органам, например, conseil d’е'tat во Франции, казалось Дайси доказательством того, что на континенте не уважают принцип равенства закона для всех граждан. Чиновники, выступая в этом качестве в процессе против обычных граждан, были «в известной степени выведены из-под действия ординарного закона страны». Хайек обвиняет Дайси в том, что тот оказал негативное влияние на создание и развитие институтов, способных посредством независимых судов контролировать новую бюрократическую машину, возникшую в Англии, находясь в плену ложной идеи, что особые административные суды всегда будут представлять собой отказ от ординарного права страны и тем самым отказ от «верховенства права». На самом деле, conseil d’е'tat предоставляет рядовым гражданам во Франции, так же как и в большинстве стран Западной Европы, объективную и действенную защиту от того, что Шекспир назвал бы «чиновной наглостью».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































