Текст книги "Дата Туташхиа"
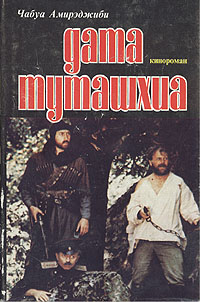
Автор книги: Чабуа Амирэджиби
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– На каком основании? – От былого веселья не осталось и следа.
Хасан быстро пришел в себя.
– На основании доноса этого болвана! – Хасан глядел прямо на Маруду. – Он заявил, что двух бараков, которые вчера пропали у кабардинцев, увел Махмуд… Арестовывай, говорит, не сомневайся, я сейчас, пообещал, приведу свидетелей.
На другой день шапочник Гедеван божился, что звон затрещины, которую полицмейстер отвесил городовому, слышали в его мастерской.
Маруда на всякий случай перебрался поближе к дверям.
– Ваше благородие! – тут уж вскипел Махмуд. – Это оскорбительно! Обвинять меня в краже двух овец… двух жалких ягнят! Вам ли не знать… В Армавире пропал тендер паровоза, в Баку исчез караван верблюдов с грузом… Но двух баранов! Ай-ай-ай! Какое унижение! Какой стыд!
– Да, ваше благородие, двух! – упорствовал Хасан.
– Что двух?
– Двух баранов, – так он мне сказал. – Хасан был столь искренен, что во мне шевельнулась жалость.
– Храни господь нашего государя императора! – Шевелихин всем корпусом повернулся к портрету царя. – Как править государю, когда его подданные такие болваны? Каково править этой швалью? Отец ты наш многострадальный.
В скорбной позе Хасана-городового было сейчас столько благоговения и участия, что мне почудилось, я вижу слезы.
– Довольно. – Шевелихин вернулся к делу и протянул ладонь к Маруде.
Мой хозяин положил на нее увесистую пачку ассигнаций. Пять целковых, которые он мне обещал, тоже были в этой пачке.
– Ваше благородие, – напомнил о себе Махмуд, – этот мерзавец еще и оштрафовал меня на двадцать пять рублей!
– Вернуть!
Едва Хасан пришел в себя от наглости Махмуда, сообразил, что отвечать, и открыл рот, как Махмуд опередил его:
– Ваше благородие! Помните, вы спрашивали о лошадях Бастанова?
Полицмейстер замер.
Двадцать пять рублей мигом перекочевали из кармана Хасана в карман Махмуда.
– Сегодня мне говорили, Бастанов нашел своих лошадей.
Это известие привело Шевелихина в отличное расположение духа, он велел Хасану и полицейским всыпать Маруде пятнадцать розог, сел вместе с Махмудом в фаэтон и укатил.
Когда во дворе полицейского участка секли моего хозяина, Хасан-городовой усердствовал особенно.
Я вернулся домой. Луки не было. На столе лежал червонец. В слезах я бросился искать Луку – думал, где-нибудь на базаре да найду его. Уже стало темнеть. Нашел я только Селима-бочара.
– Лука? – сказал он. – Лука в наших местах уже навел порядок. Теперь подался другие края исправлять!
Я долго и безуспешно искал его и с течением времени перестал надеяться, что встречу человека, который в детстве так благотворно повлиял на меня и память о котором я по сей день храню в сердце с чувством глубочайшего почтения.
Через несколько лет мы с братом продали дом и переселились в Ростов. Там у нас были родственники. Я нанялся посыльным в гостиницу. Позже меня взяли в ресторан официантом. Я уже не надеялся встретить Луку, но судьба свела меня с ним. Он остановился на день в нашей гостинице. Встреча обрадовала нас обоих. Вечером я пришел к нему с обильным ужином на подносе. Мы долго сидели, вспоминали, смеялись.
– Вспоминать весело, – сказал Лука, – теперь все смешно. Но если подумать, знаешь, что получается? Маруда годами обирал людей, согласен?
– Конечно.
– То, что я сделал, сделано было как будто из сострадания к незнакомым людям – доконал я Маруду, перестал он обманывать людей. А что из этого вышло? Ты и сам знаешь, дела Маруды день ото дня шли хуже и хуже. Гусей он не смог выкупить, задаток потерял, спился с горя и умер в Пашковской. Это – одно. Другое – ты потерял выгодное место. Много я потом думал, где там бродят мои двойняшки, холодные и голодные. Хасана-городового со службы выгнали – это третье. Гедевана целый год таскали в участок, извели вконец – это уже четвертое. Махмуд – ты, верно, слышал – за свой номер просидел полгода в тюрьме. Это – пятое. А теперь самое важное: люди, видно, жить не хотят без того, чтобы их не гнули, не обманывали, не обдирали. Марудиному предприятию пришел конец, так на его место сел Гришка Пименов и на трех картах с тех же людей на базаре стал драть вдесятеро. Ничего путного из моих дел не вышло. Видишь, сколько дурного я тебе перечислил? Одно зло. Я в книгах читал и от людей слышал: увидишь кого в беде, поступай, как сердце велит, и будь доволен тем, что получится. Пусть это правда, все равно еще надо подумать, достойны ли люди того, чтобы в их дела приличный человек впутывался. Запомни мои слова, но знаешь, я и сам еще не пойму, где здесь правда. Думать надо и опыт нужен, чтобы понять…
Мы простились. Нам суждено было встретиться в Тифлисе, в губернской тюрьме. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Граф Сегеди
…В 1893 году имя Туташхиа всплыло одновременно в делах нескольких жандармских управлений Северокавказских губернии. В то время именно здесь усиленно распространялась нелегальная литература. Ко всему в канцелярию шефа жандармов поступило агентурное донесение о готовящемся покушении на его высочество великого князя. В довершение преступники личность которых не была установлена, вырезали в Кавказской семью богатого купца, похитив деньги и драгоценности на крупную сумму. Генерал Шанин, приехавший специально из Петербурга изучив материалы, высказал уверенность, что на Северном Кавказе действует хорошо законспирированная политическая организация с базами в Закавказье, иными словами – на территории, мне подведомственной. Из его заключений явствовало, что солидная сумма была похищена у купца с целью финансировать террористический акт и что если не главой, во всяком случае одним из главарей-организаторов всего этого был… Дата Туташхиа. Мне, таким образом, предъявлялось обвинение и предписывалось принять меры, тем более что шеф жандармов настоятельно требовал разъяснений по поводу всего случившегося, ликвидации групп, ведущих подрывную деятельность, и ареста Туташхиа.
Мне надлежало в этой связи определить и уточнить почерк преступлений Туташхиа, новое криминальное амплуа которого, кстати, казалось мне высосанным из пальца. Я получил все имеющиеся материалы по его делу и взялся за их анализ. Мимоходом замечу, хотя это и не относится к предмету моих записок, что заключения генерала Шанина оказались поверхностными и беспочвенными. Управление жандармерии раскрыло под конец дело. Сведения о готовящемся покушении на великого князя и попытка увязать убийство купеческой семьи с политическими мотивами оказались несостоятельными. Кроме того, в процессе следствия выяснилось, что ни политические преступники, ни участники убийства вовсе не были знакомы с Туташхиа.
Нечто иное привлекло мое внимание: изучение материалов о Туташхиа в новом, отчетливом свете показало мне этого человека и привело к любопытному заключению. Первое и важнейшее, что бросилось в глаза, – это, если можно так выразиться, отсутствие почерка преступлений Туташхиа, другими словами – совершенные им преступления не были отмечены печатью какого-нибудь одного способа, метода исполнения, тем более системы, и, таким образом, приписать Туташхиа неизвестно кем совершенное преступление было так же легко, как преступление, инкриминируемое Туташхиа, приписать другому. Его дело включало множество разнородных преступлений, но невозможно было разобраться, какое на самом деле совершил он и какое ему приписано. Мне было крайне необходимо установить его криминальный тип, криминально-психологический портрет. Материал, основанный на домыслах и гипотезах, на это не годился. После месяца работы мне стало очевидно лишь то, что у Туташхиа не было ни программы действий, ни определенного политического кредо. По-видимому, все его поступки были следствием аффекта, вызванного ситуацией. Я убедился также в одном крайне важном обстоятельстве: его известность и влияние были безмерно велики среди населения. Подобные авторитеты во время стихийной смуты становятся вождями черни. Из материалов явствовало, что народ ждал своего пропавшего идола и не скрывал ожидания. Здесь уже требовалось сделать решительный шаг. Наряду с другими мерами по поимке преступника мы обещали за его голову награду в пять тысяч рублей. Туташхиа словно только этого и ждал – не прошло и месяца со дня объявления награды, как он вернулся и должным образом отметил свое возвращение на родину: вместе с анархистом Бубутейшвили ограбил в Поти ростовщика Булава.
Тогда я не понимал, что заставило его вернуться в Грузию и с прежней удалью, проворством и энергией возобновить игру с огнем.
Никифоре Бубутейшвили
Наши люди готовили террористический акт. Позарез нужны были деньги. Мне дали задание раздобыть три тысячи. Я знал, где их взять, но нужен был надежный, годный к таким делам человек. Дата тогда только-только вернулся. Я пришел в Самурзакано и спросил про Туташхиа у одного из наших. Скрывается, говорит, где-то на побережье у гуртовщиков.
Человек мне нужен был для того, чтобы экспроприировать деньги у ростовщика Кажи Булава. Жил он на окраине Поти. В одиночку это дело не провернуть – ростовщик знал меня как облупленного. Политика штука такая – по пустяку не попадайся. Ты завалился, кандалы на каторге таскаешь, а за идею бороться кто будет? Обыватель? Правда, Дата Туташхиа ни про политику, ни про партии слушать не хотел, политически темный был человек, ко что хуже царя и жандармов никого быть не может – знал отлично. Был он мне побратимом – отказать права не имел.
Нашел, значит, я Дату, сказал о деле. Сколько требуется, спрашивает. Три тысячи – говорю. Столько денег – где взять? Я ему про ростовщика, а он и говорит:
– Лучше почту брать!
Чего захотел! Охота, говорю, связываться с почтарями и казаками, когда ростовщик сам в руки плывет. Но Дата заладил свое – «лучше почту», и ни с места! Пришлось агитировать, убеждал, разъяснял, что за человек этот ростовщик. Он, говорю, пиявка, паук, удав на теле народа и все такое. Вроде бы дошло, но все равно твердит про почту. Выхода не оставалось – напомнил о побратимстве. Нужно, дескать, позарез, а ты побратима бросаешь. Уломал-таки. Ладно, говорит, будь по-твоему, может, впрямь от ваших хлопот полегчает людям, и пошел со мной.
Я уже говорил, что логово Кажи Булава было на окраине Поти. Иначе как логовом его жилье назвать было нельзя. Жил он в кукурузном амбаре, не поверите, именно в амбаре, а не в доме или какой-нибудь там лачуге. Амбарчик был шагов этак пять в длину, три – в ширину, изнутри и снаружи обмазан навозом, посередине – простыня, грязная, вся в заплатах. Получалось вроде бы две половины: по одну сторону простыни жена и шестеро детей, по другую – сам со своими денежками. Деньги у него были здесь, в амбаре, – это точно, верный человек навел, соврать не мог. А вот где именно, в каком углу, – сам черт не узнает. Припугнуть надо бы как следует, струсит, сукин сын, и отдаст – куда ему деваться…
До того жаден был, даже собаку не держал.
Перемахнули мы через забор, луна вовсю светит, видно как днем. Сразу у забора, под грушей, свинья привязана, хрюкает себе. Подкрались мы к хибаре, маузеры – наготове. Единственное оконце настежь открыто, и дух из него такой прет – прямо с ног валит. Прислушиваемся: дети всяк на свой лад сопят. Заглянули: сам их благородие хозяин на коряге сидеть изволят, пальцем в носу ковыряют, на огарок уставился. О чем, интересно знать, думает, подлец?
Наверное, залог втрое дороже ссуды сорвал – вот теперь и сидит, мечтает, чтобы должник хоть на денек срок просрочил, – продаст Кажашка залог, тройной барыш схапает.
Прикрыл я лицо башлыком, сунул маузер в оконце:
– А ну отворяй, живо!
Нет, это самому надо видеть – словами не расскажешь! Ростовщик застыл, как гончая в стойке, палец в носу, глаза – в дуло, оторвать не может. Щелкнул я курком. Ростовщик вскочил, бросился открывать. Дата вошел, велел хозяину сесть. Осмотрелся, скинул бурку, в угол бросил. Сел за стол, выложил два маузера и глядит на ростовщика. Тут бы и жать на него, давить, духа не дать перевести, а Дата молчит себе, время тянет. Опомнится он сейчас, придет в себя, и тогда пиши пропало – хрен из него выжмешь, это уж точно! А Дата молчит. Надоело ему, видно, глядеть на Кажашку, нашел себе занятие – стал стены, пол, потолок разглядывать, и долго так, задумчиво. Вижу, уходит добыча. Влез я в оконце по пояс и ростовщику маузером в рыло:
– Деньги на стол, сукин сын! Мигом!
Кажа Булава осторожненько обернулся и морду перекосил – то ли улыбается, то ли заревет сейчас.
– Откуда деньгам взяться? Были б деньги, жил бы я в этой конуре!
И пошел плести – опомнился, пес! Теперь бы жать и жать, а то совсем уйдет!
– Гони деньги, тварь, тебе говорят! А то мигом на тот свет Отправишься! Живее, кому сказано!
И опять маузером в рыло, будто курок вот-вот спущу.
– Пощадите, – канючит ростовщик и поднимается.
В углу стоял огромный, обитый железными обручами сундук. Вытащил ключ, поднял крышку. И пошел выкидывать черкески, седла, сабли, кинжалы – целую гору наворотил! И как быстро – откуда только прыть взялась? Стоит сундук пустой, а Булава опять вздыхает и канючит:
– Вот… все, что есть… Все.
Я Дате киваю: пусть поглядит, нет ли еще чего. Он пошарил по дну, вытащил толстенную книгу. Стал он ее листать – все страницы в записях, пометках, даже рисунках, а между страницами… записки, векселя, долговые обязательства.
– Дай-ка сюда, – говорю.
А Кажашка как заверещит:
– Годжаба, Цабу, Бики, Кику, Цуцу, Доментий!.. Отнимают разбойники нашу книгу! Беда, дети мои, беда!
Дата окаменел. Да и я, признаться, не ожидал такого визга – смешался, чего греха таить! А из-за простыни как посыпалась ребятня, мал мала меньше, тощие, кривоногие – и ну орать, ну выть, господи ты боже мой! Шабаш! Видит Кажа Булава, сволочь хитрая, что мы растерялись, упускаем момент, упускаем, и давай давить – шлепнулся на спину, копытами своими колотит, орет-надрывается:
– Беда! Беда!
Тут слышу – скрипнула калитка. Соображаю: Кваква, жена Кажашкина, из порта вернулась. Такими деньжищами, мерзавец, ворочал, а жену, у которой шестеро на руках, посылал еще в чей-то лабаз за трешку в месяц полы вылизывать. Мне-то на все наплевать – черт с ней, с Кваквой, с лабазом, со щенками ее, да только при экспроприациях и других подобных операциях хуже нет, как на бабу нарваться. Завоет, заголосит – на пять верст в округе полицию поднимет. Я – к калитке, и под грушей, где свинья привязана, какого-то черта чуть с ног не сбиваю… Кваква! И уже вопит!
Я ей маузером в зубы. Не поверите, крик, как струна, оборвался! И в амбаре вдруг все стихло! До сих пор не знаю, как сумел Дата унять эту осатаневшую свору. Только и дети, и папаша-подлец разом заткнулись. Это – спасибо, но что с бабой дальше делать? Медлить нельзя – ведь она сейчас разом придет в себя и пойдет кусаться, плеваться, царапаться – тогда только ноги уноси, не до денег будет! Сорвал я с себя ремень, стянул дуре руки за спиной – не развяжешь. На голове у нее платок, я платок сорвал, под ним – второй. Один я ей в глотку, да поглубже, другим морду обмотал, узлом на шее завязал и тут же под грушу ее и свалил. Свинью с цепи спустил, на ту цепь – Квакву.
– Не хрюкать, понятно? – И бросился в Кажашкино логово.
Подобрался к оконцу, шевельнуться боюсь: а ну Кажашкин выводок опять визг поднимет. И что же слышу? Кажашка Булава и Дата Туташхиа спокойно так, будто кумушки на посиделках, языками чешут.
– Одних расписок у тебя больше, чем на сто с лишним тысяч, – увещевает Дата Кажашку, – а детей, плоть и кровь свою, в гнилой норе держишь…
– Так я ведь и сам из этой норы, как изволили вы заметить, Дата-батоно, не вылажу.
Я осторожно заглянул в окно. Вижу – Кажашка, как и было, лежит на полу.
– О том и речь, – говорит Дата. – Для кого копишь ты эти деньги? Поднимись и сядь. Только кричать не вздумай. Никто твоего воя не боится.
Ростовщик это и сам знал. Он на жалость бил – оттого и вопил.
Туташхиа при случае так говорить умел, хоть змею из норы выманит. «Пусть поговорит, – подумал я, – авось без шума, тихо-мирно вытрясет ростовщика».
– Нет, ты отвечай, когда спрашивают, – не отступал Дата. – Зачем тебе столько денег, если ты и себя, и детей в этой дыре гноишь?
Тут свинья, которую я отвязал, рылом отворила дверь амбара. На шее – большущее ярмо, чтобы сквозь заборы не пролазила. Топчется на пороге, по глинобитному полу пятачком шарит. Никто и ухом не повел.
– Сто тысяч, Дата-батоно, всего сто тысяч, разве это деньги? Вон в порту грек Сидоропуло, слыхали, наверное?..
Старшая дочка Кажашки цыкнула на свинью, а папаша разбойник ей:
– Не гони ее, доченька, пусть поищет, может, чего и найдет. Зачем добру зря пропадать?.. – И снова к Дате: – Так я, значит, про Сидоропуло, про грека. У него уже миллион. На второй перевалило.
Кажашка все молол без умолку, но Дата уже не слушал его. Он думал. Наконец поднял побратим руку:
– Да, сгубили тебя деньги, Кажа Булава. Жаль мне тебя… Керосин у тебя найдется? – спросил он, помолчав.
– Керосин? Откуда у меня керосину взяться? У богатых ищи керосин, Дата-батоно.
– Ну, хорошо. А вот скажи мне, если б случился пожар и cгорело бы все твое логово, и седла, и черкески, и кинжалы, книга с ними, и деньги, которые, это уж точно, где-то здесь припрятаны, что бы ты тогда стал делать, скажи мне, ради бога?
У ростовщика кровь отхлынула от лица, клянусь прахом своего отца, стал он зеленый, как кукурузный стебель.
– Господи, воля твоя, – пошел он креститься часто-часто. – Что вы, Дата-батоно! Сколько сил я на эти гроши угробил! На другой раз… на второй заход не набрать мне сил. Не вытяну, помру!
– Ну и ну! – удивился Туташхиа. – Стало быть, все с самого начала начнешь?
Ростовщик сник весь, но от прямого ответа успел увильнуть.
– Вы про керосин спросили, Дата-батоно. Не берите греха на душу, не пустите детей по миру.
По миру, думаю, может, оно и лучше, чем дохнуть с голоду при таком папаше.
– Да, спета, видать, твоя песенка! – говорит ему Дата. – Мучиться тебе и маяться, Кажа-бедолага!.. Ну да ничего не поделаешь! Нам деньги нужны. Силой будем брать – боюсь, помрешь, а я греха на душу не возьму. Давай так: ты мне даешь взаймы три тысячи, и не будь я Дата Туташхиа, если не верну.
Услыхал ростовщик про долг, обрадовался, будто дарят ему его денежки.
– Были б у меня деньги, Дата-батоно!.. Зачем взаймы – так бы отдал! За такими, как вы, доброе дело не пропадет.
Меня аж затрясло.
– Эй, Дата Туташхиа, – кричу ему в окошко, – про залог не забудь, расписку ему, сукину сыну, расписку…
Не понял побратим насмешки.
– Осел ты, – отвечает, а сам в окошко уставился. – Будь у меня такой залог, стал бы я в этом смраде душиться. – И опять глядит на Кажашку.
Надоело мне слушать их болтовню, а главное, не похоже было, чтобы Дата от Кажашки с деньгами ушел. Ворвался я в эту чертову нору и – в ноги ростовщику несколько зарядов.
– Раскошеливайся, сука шелудивая, а не то вмиг околеешь! Пошевеливайся, гад!
Дети, как кузнечики, попрыгали на отцовский топчан и ну голосить, окаянные. Свинья с перепугу ткнулась рылом в плетеную дверь. Рыло-то просунула, а дальше ярмо не пускает. Ни туда, ни сюда, мечется, визжит, как перед убоем. На чердаке куры квохчут, о крышу бьются. Вся лачуга ходуном ходит. Сейчас, думаю, рухнет – минуты терять нельзя. Рукоятью маузера саданул ростовщику в ребра, в харю двинул – он встать и соизволил. Отодвинул сундук, под сундуком, вижу, дверца не дверца, заслонка не заслонка, что-то железное, он и ее отодвинул, лег на пол, свесился по пояс в подвал. Торчат у меня под носом Кажашкина задница да короткие толстые ноги.
– Быстрей, – кричу, – быстрей, Кажашка, подлец! – а сам пинком его, пинком.
Поглядел я на Дату, а его как пыльным мешком ударили, стоит бледный, подбородок дрожит, от детей глаз отвести не может, а они надрываются. Сбились на топчане, как волчата, и воют, того и гляди кинутся и загрызут. Спасибо, вид у маузера что надо, не очень-то покидаешься, а то бы загрызли, ей-богу! Ростовщик в яму свесился и как сдох: и дальше ни на вершок, и обратно не вылазит. Чуда ждет. Дернул я его за ногу.
– Вылезай, тащи, что ведено! Как цыпленка разорву!
Поднялся Кажа Булава – в лице ни кровинки. В руках – мешочек. Вырвал я мешочек – ничего, тяжеленький, не иначе как золото!
– Нет моей Кваквы, – блеет эта тварь, – шиш бы вы у меня что взяли!
– Ищи свою Квакву под грушей, она там на цепи, не бойся, не убежит.
Дата как услышал это, еще бледнее стал, сгреб свою бурку – и к двери, а в дверях свинья застряла, не выйдешь. Свинья крутится, амбар трясется. Туташхиа вышиб дверь ногой, свинья – во двор задом, Дата – следом.
– Сколько здесь?
– Пять… Но вам-то ведь три…
Я чуть со смеху не умер… Отмочил Кажашка напоследок!
Мешочек – за пазуху, а тут Кваква как завопит! Дата у нее кляп изо рта вытащил, это уж точно. Кваква волком завыла. Дети от материнского крика и вовсе ошалели. Надо было ноги уносить.
Добежал я до груши. Кваква орет – ушам больно. Дата с цепью возится, никак не развяжет. Луна светит себе. За забором какие-то тени мельтешат. Не понравилось мне все это.
– Брось ты ее, Дата! Найдется, кому суку с цепи спустить. Бежим!
А он не уходит, цепь из рук не может выпустить.
– Караул!.. Утащили шарамыжники мое добро! Всё забрали! Держи их! Бей! Насмерть бей!! Это Дата Туташхиа! За его голову пять тысяч дают! Караул, люди!
Стоило этому болвану выкрикнуть имя Даты Туташхиа, как тени за забором тут же исчезли.
Дернул Дата еще раз цепь – сорвал наконец. Выскочили мы на дорогу, за нами Кваква, руки-то у нее ремнем опутаны, цепь волочится, по булыжникам гремит, но Кваквину глотку не заткнешь. Обернулся я, выпустил на ходу две пули в воздух. Отстала, но орет пуще прежнего.
– Дата Туташхиа, – слышим мы за спиной. – В долг я тебе эти деньги дал, в долг! Ты просил, я дал! Вернешь, если ты Дата Туташхиа, а не вор, как твой дружок!
Хорошо еще, проценты не просит, говорю.
Словом, ушли мы, сели в седла.
– Говорил я – почту бы лучше, – сказал Дата.
Да, неладно вышло, что самому мне пришлось к ростовщику в нору лезть. Но что было делать, когда Дата сплоховал?
Через два года наши люди попались – по другим делам. Судили шестерых. Меня жандармы разыскивали, и я сам на суде быть не мог, но люди рассказывали, как и что было. Выяснилось, что террористический акт, для которого мы с Датой Туташхиа пять тысяч экспроприировали, не состоялся. Деньги, которые я сдал в кассу организации, были отосланы нашим в эмиграцию. Царские сатрапы на суде так дело повернули, будто эмигранты все деньги проиграли в карты и с девками прогуляли. И меня замарали; их послушать, так выходило, будто Бубутейшвили только четыре тысячи в партийную кассу сдал, а тысячу присвоил. Но ведь организация велела достать три тысячи, а я принес четыре! Имел право преследуемый анархист оставить себе на пропитание долю того, что сам раздобыл, или не имел? На какие средства, интересно, я должен был существовать и работать?
Дата Туташхиа, конечно, мог и не знать, что жандармерия и полиция умышленно марают борцов за свободу и счастье народа. Измышляя про нас всякую грязную клевету, они таким способом стараются опорочить саму идею. Но это-то он должен был знать, что нелегальная жизнь требует больших расходов. После процесса я как-то встретил Дату. Он едва со мной поздоровался. Спрашиваю: может быть, я обидел тебя чем? Нет, мотает головой. Но я пристал в одну душу. Дата молчал, молчал, а потом и говорит:
– Дрянь, оказывается, ваши люди, да и ты не лучше.
С тем и ушел – слушать меня не стал. Ничего не поделаешь. Политически неграмотный был человек. Читать-то он любил, да все только книги, которые мозги засоряют. В ходе борьбы потери неизбежны. Потеряли мы Дату Туташхиа. С того раза никогда ни с какой организацией ничего общего он не имел. Один шел.









































