Текст книги "Коридоры власти"
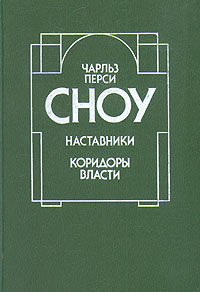
Автор книги: Чарльз Сноу
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
14. Унижение перед друзьями
Через неделю после дня рождения Лафкина мы были на приеме у американского посла; я стоял в переполненной гостиной, оглушенный веселым гомоном. Мы с Маргарет обменялись несколькими слонами с женой Дж.С.Смита, племянника Коллингвуда. Я встретил ее впервые. Это была невысокая, тоненькая, темноволосая женщина, сдержанная и не слишком разговорчивая, по-своему привлекательная. У меня мелькнула мысль, что мне почему-то давно не попадалось имя ее мужа в официальных отчетах о парламентских дебатах. Она отошла от нас. Кто-то окликнул Маргарет, а я вдруг очутился лицом к лицу с Дэвидом Рубином.
Еще раньше я попросил официанта положить побольше льда в мой стакан с виски. Стекло было такое тонкое, что пальцы у меня тотчас занемели от холода. Я стал трясти рукой, чтобы восстановить нарушенное кровообращение, а Рубин смотрел на меня с печальным schadenfreude[4]4
злорадство (нем.)
[Закрыть]. И тут к нему подошел один из советников посольства, явно искавший его в толпе гостей. Он отлично меня знал, но поздоровался как-то натянуто. Сказав несколько любезных фраз, он извинился и отвел Рубина в сторону.
На миг я остался один среди шумной толпы. Увидев через головы окружавших меня люден светлую шевелюру Артура Плимптона, молодого американца, который ухаживал за дочерью Фрэнсиса Гетлифа, перехватив его взгляд, я поманил его к себе, но, пока он проталкивался через толпу, Рубин с дипломатом успели вернуться.
– Надо сказать Льюису, – проговорил Рубин.
– Конечно, все равно через час это будет всем известно, – ответил дипломат.
– В чем дело?
– Не знаю, в курсе ли вы уже, – сказал он, – дело в том, что ваши и французские войска направлены в Суэц.
Я выругался. Оба привыкли видеть меня сдержанным и спокойным и, когда я вдруг вышел из себя, несколько смутились.
– Но разве вы этого не ждали?
Мне еще летом приходилось слышать всякого рода предсказания по этому поводу, но я считал их пустой болтовней.
– Господи боже мой, – сказал я, – ведь имел я право надеяться, что у нас сохранились какие-то крохи разума. Разве мог человек в здравом уме принимать это всерьез?
– Боюсь, что теперь вам придется принять это всерьез, – сказал дипломат.
Тут к нам подошел Артур Плимптон. Он поздоровался с моими собеседниками, потом посмотрел на меня и сразу же спросил:
– Что-нибудь случилось, сэр?
– Да, Артур, случилось – мы окончательно рехнулись.
Он мне очень нравился. Это был грубовато-красивый молодой человек лет двадцати трех. Конечно, с годами скулы обозначатся резче, а ярко-голубые глаза глубже уйдут в глазницы. В нем уже и сейчас чувствовалось больше жесткости, чем в любом англичанине его лет. Он был неглуп, самонадеян, даже немного дерзок, впрочем не без приятности. Кроме того, он был внимателен, хотя в эту минуту ничего лучшего не придумал, как раздобыть мне еще виски.
Артур и Дэвид Рубин убедили нас с женой уехать с приема; не прошло и получаса, как мы все четверо, расположились в одном из кабачков в Сент-Джонском лесу. Немного поостыв, я понял, что их очень удивило возмущение, с каким мы приняли новость. Но оба они были люди доброжелательные и тактичные. Им хотелось развеять наше дурное настроение. Сперва они избегали разговоров на больную тему, но, заметив, что от этого мы только больше мрачнеем, Артур, как более молодой и прямолинейный, решился. Он спросил, что именно тревожит нас больше всего.
– Спросите лучше, что нас не тревожит! – вспыхнула Маргарет.
Артур не сумел сдержать улыбку. Глаза ее сверкали, краска залила даже шею. Он не ждал, что из нас двоих она окажется более горячей, более непримиримой.
– Ничему они не научились, и никуда они не годятся, – сказала она. – Мне всегда претила эта их политика… Очень жалею, что мы оказались к ней причастны.
– Я только надеюсь, – сказал Дэвид Рубин с печальной насмешливой улыбкой, – что этот номер у вас пройдет, раз уж вы рискнули пуститься в такую неблаговидную авантюру.
– Интересно, как это он может пройти? – воскликнул я. – Вы что, забыли, в каком веке мы живем? Неужели вы думаете, что мы сумеем удержать в повиновении Средний Восток при помощи двух-трех дивизий?
– Не знаю, как это примут у нас, в Америке, – сказал Артур.
– А как это вообще можно принять? – огрызнулся я.
Рубин пожал плечами.
– Страны, у которых власть ускользает из рук, неминуемо делают глупости, – сказал я. – Это, впрочем, относится и к правящим классам, может, и вы окажетесь когда-нибудь в таком положении.
– До этого еще далеко, – уверенно сказал Артур.
– Да, пока далеко, – подтвердил Дэвид Рубин.
Мы с Маргарет остро чувствовали свое унижение, и друзья как могли старались нас развеселить. В редкие в тот вечер просветы, когда ко мне возвращалась способность рассуждать беспристрастно, мне казалось, что они должны бы занимать позицию прямо противоположную. Дэвид Рубин был человек глубокий, сложный и умудренный жизнью. Его дед и бабка были выходцами из Польши, в жилах его не текло ни капли английской крови, но, как ни странно, именно он слепо любил Англию, хотя трудно представить человека с более зорким глазом на все плохое. Ему совсем не нравилось покровительственное отношение английских ученых мужей, но все равно он был влюблен в Англию и этим чуть-чуть напоминал Бродзинского – своего противника в науке. Он любил нарядную, приукрашенную Англию, которая у нас с Маргарет вовсе не вызывала умиления. На первый взгляд это может показаться удивительным, но он любил ее куда больше, чем Артур Плимптон, такой же англосакс, как и мы, который был вхож к Диане Скидмор и ее великосветским знакомым, знал наше привилегированное общество не хуже, чем свое американское, и не слишком уважал и то и другое.
Будь Артур англичанином, я в первые же пять минут нашего знакомства определил бы, к какому кругу он принадлежит. А так я мог лишь сказать, что он человек состоятельный. И только Диана разъяснила мне, что такое определение слишком скромно. Мысль о том, что он может жениться на Пенелопе Гетлиф, отнюдь не приводила Диану в восторг. Она считала, что дочь ученого, пускай даже маститого, ему не пара. Она уже подыскивала ему более подходящую невесту.
Вопреки всему этому, а может быть, именно поэтому Англия вовсе не внушала Артуру особого благоговения. В тот вечер – первый вечер Суэцкого кризиса – он высказывал мысли самые возвышенные, притом вполне искренне, и всячески поносил английское правительство. Впрочем, я прекрасно помнил, как однажды, рассуждая о капиталистических предприятиях и, в частности, о том, какими способами увеличить собственное состояние, он высказывал мысли, столь мало возвышенные, что рядом с ним коммодор Вандербильт показался бы человеком излишне щепетильным. Как бы то ни было, в этот вечер он был исполнен чистых и благородных надежд.
Слушая его, Маргарет, более чистая душа, чем я, несколько приободрилась. Что касается меня, то я совсем пал духом. Мне вспомнились молодость, родной город, мои сверстники – такие же отличные молодые люди, взрывы благородного негодования и мечты, – мечты куда более смелые, чем его, по такие же чистые. Я примолк, слушая с пятого на десятое спор, который вели Артур и Маргарет с Дэвидом Рубином, чья речь становилась все более витиеватой и все менее понятной. Потом я стал делать Маргарет знаки – не пора ли домой. Оставаясь там, я бы только впал в еще большее уныние и еще больше напился.
Только когда мы с Маргарет собрались уходить, в Артуре взыграло греховное начало. Может, речи его и были преисполнены чистоты, однако он не счел недостойным использовать благоприятное впечатление, произведенное на Маргарет, и стал уговаривать ее пригласить Пенелопу погостить у нас, а заодно – будто случайно – пригласить и его. Должно быть, он хотел вырвать ее на время из-под домашнего влияния. Но в тот вечер я во всем был склонен видеть одно худое и потому решил, что он, как и многие другие знакомые мне очень богатые люди, просто норовит сэкономить за чужой счет.
15. Самозащита
Воскресный день выдался мглистый. Небо затянулось осенней синеватой дымкой. Мы с Маргарет отправились пешком на Трафальгарскую площадь. Дальше Хэймаркета пройти не удалось. Маргарет шла оживленная, раскрасневшаяся – ее тянуло вновь, как когда-то в юности, окунуться в самую гущу «демоса». Ей было легче, чем мне, перенестись в прошлое; она невольно надеялась еще раз пережить радостное воодушевление тех дней, как надеялась, что места, где мы хоть раз побывали вместе, навсегда сохранят для нас искру прежнего очарования. Ею не так владела тоска по ушедшему времени, как мною, и, однако, мне кажется, она гораздо легче могла вновь ощутить его. На площади гремели речи протеста. Мы слились с толпой, стали ее частицей. Давно уже я не испытывал этого чувства, но сейчас оно охватило меня с той же силой, что и Маргарет.
В последующие дни, где бы я ни был – в учреждениях, в клубах, на званых обедах, – всюду страсти были накалены так, как этого не бывало в «нашем Лондоне» со времен Мюнхена. Как и в дни Мюнхена, люди стали уклоняться от приглашений в дома, где можно было нарваться на ссору. На этот раз, однако, водораздел проходил не там, где прежде. Гектор Роуз и почти все его коллеги – высшие государственные чиновники – в свое время горячо поддерживали Мюнхенское соглашение, теперь же, хоть все они и были консерваторы и по характеру и воспитанию должны были стоять за правительство, они не могли примириться с таким поворотом событий. Удивил меня Роуз.
– Не хочу зарекаться, дорогой Льюис, – сказал он, – тем более, что в скором времени мои поступки ни для кого, кроме меня самого, интереса представлять не будут, но, признаться, не понимаю, как я сумею убедить себя снова подать голос за консерваторов.
Он был раздосадован, потому что, против обыкновения, узнал обо всем только в последнюю минуту, но, кроме того, он был глубоко возмущен.
– Я уже примирился с тем, что умственный уровень этой публики оставляет желать лучшего. – (Он имел в виду политиков, изменив на этот раз привычке подобострастно именовать их «наши хозяева».) – В конце концов почти за сорок лет мне так и не удалось растолковать им разницу между точной и неточной формулировкой. Но я не могу примириться, решительно не желаю мириться с тем, что они ведут себя глупо и безответственно, как настоящие попугаи. – Роуз подумал минуту и, видимо, счел это сравнение достаточно удачным.
Он сидел за своим письменным столом, отгороженный от меня вазой с цветами.
– Скажите, Льюис, – продолжал он, – вы ведь, кажется, находитесь в дружеских отношениях с Роджером Куэйфом. Во всяком случае, в более дружеских, чем то, какие обычно бывают между государственным чиновником, пусть даже не совсем типичным, и политическим деятелем – пусть тоже не совсем типичным.
– В какой-то степени вы правы.
– Он не мог оставаться безучастным зрителем. Вы что-нибудь слышали?
– Нет, ничего, – сказал я.
– Ходят слухи, будто он выступил на заседании кабинета с возражениями. Любопытно было бы узнать, так ли это. Я на своем веку повидал немало смелых министров, которым, стоило им попасть на заседание, смелость тотчас изменяла.
В голосе Роуза прозвучали непривычно резкие нотки. Он продолжал:
– Так вот, дорогой Льюис, было бы невредно, а может быть, даже отчасти и полезно, если бы вы намекнули Куэйфу, что многие относительно разумные и не лишенные чувства ответственности люди вдруг обнаружили, что выполняют свою разумную и ответственную работу в обстановке сумасшедшего дома. Ему невредно будет об этом услышать, а я был бы вам весьма признателен.
Даже Роузу было нелегко в этот день взять себя в руки и вернуться к своим обязанностям, к своей «разумной и ответственной работе».
А Том Уиндем и его приятели – рядовые парламентарии – были рады и счастливы. «Наконец-то я могу высоко держать голову», – заявил один из них. В те дни я не видел Дианы Скидмор, но слышал, что все ее окружение дружно поддерживает политику правительства в отношении Суэца. В то время как государственные чиновники были глубоко удручены, политические деятели ликовали. Сэммикинс, против обыкновения, оказался заодно со своими приятелями и ликовал больше всех. У него на то была особая причина. Выяснилось, что он единственный сторонник сионистов в своей фракции правого крыла. Возможно, это был просто каприз, по он обратился к израильскому командованию с просьбой зачислить его офицером в действующую армию и теперь бурно радовался, что успеет до старости еще разок повоевать.
Журналисты и политические комментаторы разносили слухи по клубам. Мы то принимали все эти слухи с полным доверием, то не верили ничему – в дни политических кризисов люди подвержены и легковерию, и подозрительности, совсем как в минуту отчаянной ревности: ничто не кажется невозможным. Поговаривали, будто среди депутатов, обычно поддерживающих политику правительства, есть и несогласные. Я своими ушами слышал, как Кейв и кое-кто из его коллег отзывались о событиях с той же горечью, что и служащие Государственного управления и интеллигенция. «Это последний залп Итона и нашей гвардии», – сказал один молодой консерватор. Но как мы могли этому помешать? Сколько членов кабинета голосовало против? Собирается ли подать в отставку такой-то? А самое главное, как вел себя Роджер?
Как-то утром, в перерыве между заседаниями кабинета, Роджер вызвал меня к себе, чтобы дать какие-то указания насчет работы комитета ученых. Он ни словом по обмолвился о Суэце, и я решил, что сейчас не время заводить об этом речь. Во время разговора вошла секретарша и доложила, что пришел мистер Кейв. Примет ли его министр?
Едва Роджер услышал это имя, его взорвало:
– Ни минуты покоя не дадут! Господи боже мой, ну почему никто из вас по позаботится, чтобы мне не мешали?
Он помрачнел, сказал, что занят по горло, что его совсем задергали: пусть она придумает какую-нибудь отговорку. По секретарша не уходила, она знала не хуже Роджера, что из всех его сторонников в консервативной партии Кейв самый талантливый. Она понимала, что не принять его было бы ошибкой. Наконец Роджер крайне нелюбезно сказал:
– Ладно уж, ведите.
Я собрался уходить, но Роджер, нахмурясь, покачал головой. В дверях появился Кейв – грузный, мешковатый, он шел, высоко подняв голову, глаза поблескивали из-под густых нависших бровей. Роджер уже овладел собой и встретил его вполне дружелюбно. Кейв первый заговорил о главном:
– Веселенькие дела творятся, а?
Он обронил еще несколько замечаний – любезных, чуточку ехидных, не требовавших от Роджера ответа. И вдруг заговорил серьезно:
– По-вашему, эта история не чистейшее безумие?
– Что я, собственно, должен на это ответить?
– Видите ли, – сказал Кейв, – я пришел поговорить с вами от лица кое-кого из ваших друзей. Может быть, есть что-то такое, чего мы не знаем, что заставило бы нас переменить точку зрения?
– Странная мысль.
– Вот что, Роджер, – сказал Кейв. Теперь, отбросив подковырки и насмешливый тон, он говорил веско и внушительно. – Я спрашиваю серьезно. Есть тут что-то, чего мы не знаем?
На сей раз Роджер ответил дружелюбно и непринужденно:
– Ничего такого, что заставило бы вас переменить мнение.
– Ну, раз так, то я вам скажу, что мы об этом думаем: это идиотство. Это ошибка, и притом грубейшая. Этот номер не пройдет!
– Мнение как будто не такое уж оригинальное.
Ни Кейв, ни я еще не знали тогда, что накануне ночью кабинету стало известно «вето» Вашингтона.
– Не сомневаюсь, что вы это мнение разделяете. Вот только в какой мере вам удалось довести его до тех, кому ведать сим надлежит?
– Не хотите ли вы, чтобы я рассказывал вам, что происходит на заседаниях кабинета?
– Случалось, вы кое о чем и проговаривались. – Кейв слегка повысил голос и смотрел исподлобья.
При мне Роджер никогда не бывал резок, разве из чисто тактических соображений, но тут он вышел из себя. Лицо его побелело, голос стал хриплым и сдавленным.
– Вот что, – закричал он, – я еще с ума не сошел! Конечно, это не самый блестящий ход английской политики со времен тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года. Какого черта! Неужели вы думаете, что я не вижу того, что видите вы? – Эта вспышка была груба и безобразна. Конечно, несладко было выслушивать неприятную истину, да еще от Монти Кейва – умнейшего человека и первого соперника. Но дело было не только в этом, просто это была последняя капля.
– И вот еще что, – выкрикивал Роджер. – Хотите знать, что я сказал на заседании кабинета? Извольте. Ничего я не, сказал.
Кейв пристально смотрел на него, ничуть не растерянный – его не так-то легко было испугать взрывами чувств, – но удивленный. Немного погодя он спокойно сказал:
– А следовало бы.
– Вы так думаете? Пора бы вам лучше знать жизнь. – Роджер повернулся ко мне: – Вот вы, кажется, воображаете, что знаете, что такое политика. Пора бы и вам кое-чему научиться. Повторяю, я не сказал ничего. Мне осточертело объяснять каждый свой шаг. Но поймите, это как раз и есть ваша пресловутая политика. Что бы я ни сказал, толку не было бы ни на грош. Когда эти господа закусили удила, можно было заранее сказать, чем все кончится. Да, я умыл руки. Да, я промолчал и тем самым дал согласие на шаг, неоправданный и непростительный, вы еще даже не представляете, какой непростительный. И я еще должен вам что-то объяснять! Что бы я ни сказал, никакого толку не было бы. Результат был бы один: новый человек, не успев еще укрепиться среди них, потерял бы и те крохи влияния, которые у него сейчас есть. Я не риска боюсь. Вы оба видели, как я пошел раз на неоправданный риск.
Он имел в виду тот случай, когда ему пришлось вступиться за Сэммикинса. Он говорил с безмерной злобой, словно громил чье-то легкомыслие, а может, и хуже чем легкомыслие.
– Если я действительно хочу осуществить то, что задумал, я не имею права рисковать ради удовольствия полюбоваться собой. Я могу пойти на риск только один раз. И я с таким же успехом могу проиграть, как и выиграть.
Он громче обычного щелкнул пальцами.
– Если я не добьюсь того, что, по нашему общему убеждению, сделать необходимо, этого, наверно, никто не добьется. Ради этого я пойду на такие жертвы, на которые вы оба с вашим чистоплюйством никогда не пойдете. Я не стану вылезать с бесполезными протестами. Можете считать меня оппортунистом и приспособленцем. Пожалуйста, сколько угодно. Но я не желаю, чтобы вы оба учили меня благородству. Благородным я кажусь или презренным ничтожеством – совершенно неважно. Лишь бы удалось! Я воюю на одном фронте. И это тяжелый бой. И никакие ваши поучения не заставят меня воевать на два фронта, или на двадцать фронтов, или как там еще, по-вашему, я должен воевать.
Он замолчал.
– По-моему, все по так просто, – сказал Монти Кейв. – Вам не кажется, что совсем не трудно находить оправдания своему бездействию, когда это бездействие вам выгодно?
Гнев Роджера погас так же неожиданно, как и вспыхнул.
– Если бы я всякий раз без нужды лез на рожон, вам бы от меня большой пользы не было, да и вообще не стоило бы мне за это дело браться, – уже спокойно сказал он.
Для человека действия – а он, как и лорд Лафкин, был прежде всего человеком действия – Роджер обладал редкостной способностью взвешивать и оценивать свои поступки. Однако, услышав эти слова, я подумал, что так же ответил бы любой знакомый мне человек действия или политический деятель. Все они – начиная с политиков в масштабе колледжа, вроде моего старого друга Артура Брауна, и кончая государственными деятелями, вроде Роджера, – обладали особым даром: умели подавлять сомнение в собственных силах и не быть в иных случаях излишне щепетильными. Дар не слишком возвышенный, однако натуры более утонченные – Фрэнсис Гетлиф, например, – на горьком опыте убеждаются, что без него становишься не только уязвимей, но и оказываешься в весьма невыгодном положении в житейских битвах.
16. Предлог для разговора
Дни Суэцкого кризиса остались позади. Монти Кейв и два других товарища министра вышли из правительства. От званых обедов в иных домах все еще благоразумнее было уклоняться. Но уклониться от посещения палаты лордов, где должен был выступить с речью Гилби, я не мог.
Ничего драматического в данном случае никто не ждал. В зале, куда более пышном, чем палата общин, где поражали глаз яркие краски, великолепные витражи, бронза и алый бархат галерей, на красных скамьях удобно расположилось человек сорок. Если бы не просьба Роджера, я и не подумал бы слушать Гилби. Представитель правительства, выступавший по поводу программы обороны, изрекал нескончаемые общие фразы, что, по мнению Дугласа Осбалдистона, должно было действовать на слушателей успокаивающе. Оппозиция выражала тревогу. Один дряхлый пэр бормотал что-то загадочное о пользе верблюдов. Некий молодой пэр рассуждал о базах. Затем с одной из задних правительственных скамей поднялся Гилби. Вид у него был больной, хотя мне показалось, что на самом деле он не так уж плох. И я подумал, что он во что бы то ни стало хочет превзойти Питта-старшего. Однако я его недооценивал. Все эти годы, связанный официальным текстом, он обычно мямлил, терялся и не раз заставлял нас краснеть. Выступая по собственной инициативе, он оказался весьма красноречив и страстен – точь-в-точь актер старой школы.
– Милорды, я очень хотел бы предстать перед вами в военной форме, которую всегда носил с величайшей гордостью, – начал он своим высоким, чистым, звенящим тенором. – Но если человек не настолько здоров, чтобы сражаться, он не вправе надевать мундир. – Медленно подняв руку, Гилби приложил ее к сердцу. – Всего несколько дней назад, милорды, я бы все отдал, лишь бы быть здоровым и сражаться. Когда премьер-министр, да благословит его господь, принял историческое решение, справедливость и мудрость которого неоспоримы, когда он принял решение, что мы должны силой оружия восстановить мир в зоне Суэцкого канала и защитить наши неотъемлемые права, я почувствовал, что впервые за последние десять лет могу смотреть людям в глаза. В те дни все истые англичане могли смело смотреть в глаза всему миру. Неужели, милорды, истым англичанам это право дано было в последний раз?
Как всегда, лорд Гилби рисовался. Как всегда, рисуясь, он был совершенно искренен.
Однако при всей своей искренности он был далеко не так прост, как казался. Начал он речь за упокой своей любимой Англии, но вскоре стало ясно, что это для него удобный случай свести счеты с теми, кто выставил его из министров. Он не был умен, но в известной хитрости отказать ему было нельзя. У него получалось, что его личные враги и есть враги Суэцкой кампании внутри правительства. Поскольку, согласно клубным сплетням, Роджер был против этой авантюры, Гилби решил, что именно этот интриган и возглавил силы, которые вытеснили его из министерского кресла. Как все тщеславные и недалекие люди, Гилби не умел прощать. Не собирался он прощать и на этот раз. Тоном умудренного опытом государственного деятеля, ни разу не упомянув имени Роджера, он выразил сомнение относительно обороноспособности страны и деятельности «интеллектуальных аферистов», которые рады бы превратить нас всех в мягкотелых слюнтяев.
Один знакомый, сидевший тут же на галерее, написал на конверте: «Да это нож в спину!» – и передал его мне.
Гилби заканчивал:
– Милорды! Я был бы счастлив, если бы мог заверить вас, что безопасность страны находится в надежных руках. Давным-давно я не страдал бессонницей. Но последние горькие ночи я провел без сна, спрашивая себя: можем ли мы снова стать сильными? Ибо только в этом наше спасение. Чего бы нам это ни стоило, ценой каких угодно лишений, но мы должны восстановить свою былую мощь, чтобы наша страна могла защищать себя. Многим из нас, милорды, жить осталось уже недолго. Меня это не пугает, не пугает никого из нас – только бы знать в свой смертный час, что родина в безопасности.
И Гилби снова медленно приложил руку к сердцу. Опустившись на скамью, он достал из жилетного кармана коробочку с таблетками. С ближайших скамей раздались одобрительные возгласы, крики «Правильно! Правильно!», Гилби положил в рот таблетку и закрыл глаза. Несколько минут он сидел так, с закрытыми глазами, держась за сердце. Затем отвесил поклон лорду-канцлеру и удалился, опираясь на руку какого-то молодого человека.
Когда я рассказал об этом представлении Роджеру, он принял это хладнокровнее, чем другие дурные вести.
– Если нужно подложить кому-то свинью, аристократы переплюнут кого угодно. Видели бы вы, как обделывают эти дела родственнички моей жены. Большая все-таки помеха буржуазное воспитание со всякими там нравственными устоями.
Он говорил спокойно. Мы оба понимали, что отныне враги наши – отдельные люди и целые группы – станут явными. В обществе, построенном по образцу нашего или американского, продолжал он, крайне правые всегда будут вдесятеро сильнее крайне левых. Он и раньше имел случай в этом убедиться. Гилби не одинок, за ним выступят и другие.
Да, Гилби не был одинок. Я понял это, когда несколько дней спустя к нам заглянула Кэро. Она, как и вся ее родня, была ярой сторонницей Суэцкой кампании. У себя дома во время званых обедов она говорила об этом совершенно открыто, тогда как Роджер обычно отмалчивался. Уславливались ли они об этом заранее, или все ходы в игре были известны им наизусть, так что и уславливаться было незачем? Неплохое тактическое преимущество для Роджера иметь жену из родовитой семьи, которая превозносит политический курс правящей партии. Но было ли это тактическим ходом и уславливались ли они заранее или нет, Кэро душой не кривила. В те дни люди как будто разучились притворяться. Слушая Кэро, глядя в ее смелые, дерзко-наивные глаза, я был возмущен до глубины души, но ни на секунду не усомнился в ее искренности. Она полностью разделяла чувства лорда Гилби касательно Суэца, и по тем же причинам. Больше того, она уверяла, что эти чувства разделяют и избиратели Роджера, в том числе многие бедняки.
Она уговаривала меня поехать как-нибудь с ней к его избирателям, да так настойчиво, что я заподозрил тут какую-то заднюю мысль. В конце концов я сдался. Как-то днем в ноябре она повезла меня в свою так называемую «контору». Ехать пришлось недолго: избирательный округ Роджера находился в одном из благополучных районов Кенсингтона. Мы ехали по Куинсгейт, улице, еще хранившей приметы былой добропорядочности: мимо скромных гостиниц, доходных домов, дешевых меблированных комнат, студенческих общежитии, мимо той части Кромвел-роуд и Эрлс-корт, где полным-полно статисток, студентов-африканцев, художников. Все они сейчас выбрались на улицу погреться на осеннем солнышке, и, наверно, сказал я Кэро, тревоги лорда Гилби так же далеки от них, как заботы какого-нибудь японского даймио.
– Большинство из них вообще не голосует, – только и ответила Кэро.
Ее «контора» помещалась где-то на задворках в одном из тесно поставленных, однотипных домиков, как две капли воды похожих на те, мимо которых я возвращался в детстве домой из школы. Оказалось, что каждый понедельник от двух до шести Кэро сидит в «парадной» комнате одной из своих «подружек» из числа избирательниц – здоровенной женщины с типично ист-эндским выговором. Она сразу же заварила нам чаю. Держалась она с Кэро запанибрата и была, по-видимому, в восторге, что может называть знатную даму просто по имени.
На первый взгляд было непонятно, почему Кэро обосновалась именно здесь. Этот район избирательного округа поддерживал другого кандидата. За место в парламенте Роджер мог не беспокоиться: превратись он сегодня в гориллу, кенсингтонский район все равно продолжал бы голосовать за него. Но здесь Кэро находилась в гуще рабочего класса. Среди здешних бедняков, люмпен-пролетариев, она могла надеяться заполучить для Роджера несколько лишних голосов; а остальные с той же чисто английской флегматичной безучастностью будут по-прежнему отдавать голоса-другой горилле, лишь бы та выступала в парламенте против Роджера.
Итак, Кэро обосновалась в душной, тесной комнате, готовая разговаривать с любым посетителем, который заглянет сюда в эти часы. Окно смотрело на соседние дома, стоявшие так близко, что можно было различить все сучки и задоринки на дверях. Первые посетители Кэро – или, точнее, ее клиенты – были сплошь сторонники консервативной партии, пожилые люди, жившие кто на доход с маленького капитала, кто на пенсию. Что заставляло их покидать свои комнатки в высоких и узких, как башни, старых домах Кортфилд-гарденс или Неверн-сквер и ехать сюда? Главным образом желание поговорить с кем-то, думал я.
В большинстве это были люди одинокие, никому не нужные – они сами готовили себе обед и ходили в библиотеку за книгами. Кое-кому просто хотелось поговорить о своих молодых годах, о лучшей жизни, которая миновала безвозвратно. Они были безнадежно одиноки в человеческом муравейнике – одиноки и напуганы. Мысль о бомбах не давала им покоя, и, хотя некоторые не могли бы сказать, для чего они живут, умирать им вовсе по хотелось. И вообще «смерть так неопрятна», с напускным хладнокровном заявила одна старая дама, преподававшая тридцать лет назад в пансионе для благородных девиц. Я не мог бы найти для нее слов утешения – смерть действительно неопрятна, но для того, кому страшно, кто всеми брошен, одинок, – она тяжелее вдвое. Я не мог бы найти слов утешения, а Кэро утешала, и не потому, что была отзывчивей, не потому, что разделяла их страхи (в смелости она не уступала своему брату), – нет, просто она держалась как-то по-товарищески, неназойливо, буднично, почти сухо, своим поведением она словно говорила: «Все мы смертны, все там будем».
Клиенты «из благородных» (среди них были люди и чудаковатые, прибитые жизнью и старающиеся из последних сил сохранять приличия) действительно все до одного оказались за вооруженное вмешательство в Суэце. Тут не было ничего удивительного. Гораздо больше удивили меня те, которые пришли позже, когда закончился трудовой день. Это были жители окрестных улочек – пестрый люд, плотным кольцом окружавший зажиточное ядро огромного, беспорядочного, никогда по замолкающего города; они работали в метро, на мелких фабричках, охотно покупали билеты денежной лотереи и делали ставки на лошадей у уличных букмекеров. Все они были членами профсоюзов и голосовали за лейбористскую партию. Приходили они сюда поговорить по делу, главным образом о жилье, иногда о школе. Кэро отвечала тоже деловито, энергично – да, этот вопрос поднять можно, нет, это не входит в компетенцию…
Нескольким она дала совет, на какую лошадь поставить завтра, дала не «de haut en bas»[5]5
свысока (франц.)
[Закрыть], а потому, что сама увлекалась скачками, пожалуй, еще больше, чем они. Держалась она вполне этично, но все же разок-другой упомянула о Суэце. Иногда о нем заговаривали посетители. Правильно она мне раньше говорила: люди, которые никогда в жизни не подали бы голоса за кого-нибудь из ее «сословия», которые не скрывали, что они против «господ», сейчас, сбитые с толку, обиженные, были на ее стороне и на стороне лорда Гилби, а отнюдь не на моей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































