Текст книги "Я уезжаю!"
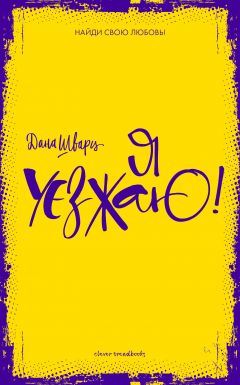
Автор книги: Дана Шварц
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 7
– УВЕРЕНА, ОНО ЗДЕСЬ, за этим углом, – говорит мама уже в четвертый раз за двадцать минут.
Солнце садится, прячась за неровными крышами, испестрившими своими зигзагообразными тенями улицы. Моя вера стремительно убывает вместе с ним. Я переживаю, хочу пить, и у меня болят ноги – будь проклята Лена с ее болтовней про неизменно модных парижанок, – потому что мы ходим кругами в каком-то непонятном районе города, а на мне – балетки. И там, где кожа соприкасается с обувью, остаются глубокие красные следы.
Должно быть, мы забрели не в самый лучший квартал. Огромные трехэтажные магазины со знакомыми люксовыми брендами сменили узкие ювелирные лавки и дешевые магазины одежды, чьи окна закрыты решетками. Вместо светловолосых женщин в льняных платьях, спешащих на поздний завтрак независимо от времени суток, мы встречаем тощих панков с анархистскими символами на рваных футболках и ботинках, которые на вид тяжелее меня, и мужчин с пивными животами в заляпанных майках. Когда мы проходим мимо, некоторые из них отвешивают скабрезные шуточки – это понятно по манере и тембру голоса даже без знания французского. Но мама с решительным видом продолжает идти.
– Le Henrique, – бормочет она себе под нос.
– Ты уверена, что зашла бы так далеко от кампуса? – Вопрос вполне разумный, хотя в моих устах звучит как нытье и обвинение.
– Уверена, – отвечает она, но не может скрыть сомнения в голосе.
Повернув еще два раза не туда, мама заметно ускоряет шаг. Я стараюсь не думать о содранной коже на ногах.
– Pardone, – обращается она к усатому незнакомцу. Она настигает его так быстро, что я не сразу соображаю, когда слышу ее голос. – Le Henrique? Владелец – американец?
– Oui! Oui! – с энтузиазмом подтверждает мужчина.
Я ни слова не понимаю из его речи, но замечаю, как с маминого лица улетучивается паническое выражение. Мужчина говорит еще какое-то время – не могу не отметить, что занимает это дольше, чем объяснение дороги к бару. Слова сопровождаются резкими взмахами рук.
Вскоре мы снова отправляемся в путь. По новой улице, которой тут не должно быть, но за последние несколько минут она необъяснимым образом материализовалась. Париж превратился в сумеречный лабиринт. Мы еще некоторое время сворачиваем, пока не оказываемся перед уличным художником, которого точно уже встречали.
– Это не та дорога, – вполголоса произносит мама.
Я проверяю часы на телефоне.
– Почти половина четвертого. Нам уже пора в Делакруа.
Мама смотрит на меня так, будто мое присутствие для нее – полный сюрприз.
– Мы уже почти пришли, – настаивает она. – Я правда очень хочу, чтобы ты увидела это место.
Я беру себя в руки и напоминаю:
– Мам. Я не хочу туда идти, мне нужно попасть в музей. У меня и так будет там всего час.
Она еще раз озирается по сторонам, выискивая хоть что-то: какой-нибудь ориентир или вывеску Le Henrique, которая внезапно должна появиться на пройденных нами магазинах. У нее взгляд – как и тогда: когда я вернулась со школы домой, а она сказала, что они с папой хотят со мной «поговорить». Не могу этого видеть. Тоже оглядываю улицу, гадая, не может ли Le Henrique появиться из воздуха между двумя зданиями, как дом № 12 на площади Гриммо в «Гарри Поттере». Но вижу лишь торговца рыбой и мастерскую по ремонту обуви. Снова гляжу на маму, и она наконец покорно опускает плечи. Наши поиски окончены.
До музея Делакруа мы добираемся довольно быстро.
– Вот видишь, мы это сделали, – говорит мама. – Смотри, люди еще идут.
Она права: в двери музея, над которыми растянут баннер с лицом художника, заходит хорошо одетая пара.
Мы пересекаем внутренний двор – я ковыляю, как могу, в своих балетках, похожих на средневековые орудия пыток, – и влетаем в музей подобно марафонцам, достигшим финишной черты.
– Два взрослых, – просит мама, когда мужчина за стойкой поправляет воротник.
– Ах, прошу прощения, но мы не пускаем в музей за час до закрытия.
Однако извинений в его голосе даже не слышно.
– Но мы только что видели, как вошли два человека! – восклицаю я довольно громко.
Выражение лица мужчины остается неизменным.
– У них… как вы там говорите…
Тут вмешивается девушка в форме сотрудницы музея:
– Ре-зер-ва-ция.
– Мы будем рады провести здесь даже пятьдесят минут. – Мама предпринимает попытку договориться. – Пожалуйста, моя дочка так хотела сюда попасть.
Мужчина качает головой, но я не слышу его ответа. Меня слишком одолевают фантазии: как я оборачиваю вокруг его дурацкой шеи галстук и душу, пока эта девчонка смотрит. Пусть сделает себе ре-зер-ва-цию в отделении реанимации.
– Постойте-постойте, – говорю я. – Уверена, мы сможем что-нибудь придумать. Всего полчасика.
Все замолкают и смотрят на меня – я даже не знаю, кого перебила.
– Завтра же вы закрыты.
– Oui, – отвечает мужчина.
Мама оборачивается ко мне. Я вижу, что она чувствует себя виноватой.
– Мне так жаль, дорогая. Правда.
Может, я должна оценить извинение, но вместо этого мечтаю и ее придушить.
– Мы проделали такой путь в Париж… – В моем голосе сквозит отчаяние. – Я даже не знаю, когда смогу еще раз сюда вернуться.
Но моя мольба не находит отклика.
– Пошли.
Мама пытается обнять меня за плечи, но я уворачиваюсь.
– Это все ты виновата! – восклицаю я. Нас слышат работники музея, но мне плевать. – Если бы ты не впала в юность и не таскала меня по Парижу в поисках места, которое уже, может, закрылось лет десять назад, я бы могла быть в музее Делакруа.
– Знаю, – отвечает она. – И прошу у тебя прощения. Мне очень-очень жаль.
– Почему тебе обязательно нужно все контролировать? Это мое путешествие. Я хотела посетить этот музей, но вместо этого ты заставила меня участвовать в этой бессмысленной затее. А теперь я упустила такую прекрасную возможность. Я больше никогда не увижу музей Делакруа.
– Когда-нибудь ты еще вернешься в Париж, – тихо произносит она.
– Ага, когда-нибудь, – передразниваю я. – А через сколько лет ты вернулась?
– Эй, не разговаривай со мной в таком тоне. Я извинилась. Просто так неудачно сложились обстоятельства. Значит, нам не суждено было попасть в музей Дельпон.
– Музей Делакруа, – в один голос поправляем мы с сотрудниками.
Я закатываю глаза и выбегаю из здания, мама следует за мной.
– Я просто хочу вернуться в отель, ясно? – говорю я, развернувшись к ней. – От этой бесконечной ходьбы кругами у меня болят ноги.
Наша обратная поездка в такси проходит в тишине, так что таксист решает включить радио. Временами мама посматривает на меня, набирает в грудь воздуха, словно собирается что-то сказать, но потом просто вздыхает и отворачивается к окну. Я же мечтаю о том, как могла бы сложиться эта поездка: я одна, отправляюсь в музей, встречаю высокого незнакомца, возможно, британца, который учится в Сорбонне, мы влюбляемся друг в друга и по ночам вместе ходим в La Belle Hortense.
Возможно, если бы сегодня все пошло по-другому, я бы попросила маму сходить со мной вечером в тот книжный бар. Но теперь мои ноги опухли, как у теленка, и все, чего мне хочется, так это поспать.
Глава 8
НА УЖИНЕ (молчаливом, в ресторане отеля) царит такая же дружелюбная атмосфера, как и в кафетерии ООН после переговоров по освобождению заложников. На следующее утро я решаю уйти, не выясняя, где сейчас мама: не сидит ли в кафе с чашечкой кофе и газетой. Просто оставляю в номере записку (про музей Орсе и творческий проект, слово «творческий» подчеркнуто несколько раз), посчитав, что выполнила дочерний долг.
Но едва открыв дверь, чтобы выйти, я оказываюсь лицом к лицу с мамой. Она одета в спортивную одежду «Лулулемон», с ее лица капает пот. Где она тут нашла спортзал? Откуда ему взяться в этом старом бутик-отеле?
– Привет, милая, – говорит она, смахивая пот со лба, и протискивается в номер.
– Я собираюсь в музей. – В подтверждение своих слов указываю на заполненный художественными материалами рюкзак.
Она тут же сникает.
– Дай мне полчаса на душ, и я пойду с тобой!
Но я уже шагаю по коридору в сторону лифта.
– Я хочу пробыть там как можно дольше, – бросаю я через плечо. – Прости!
Если она что-то и говорит, то я ее уже не слышу.
* * *
Я прохожу пекарню, и от масляно-сладкого аромата рот наполняется слюной. Я уже представляю, что лечу, как в мультике, вслед за своим носом на источник этого чудесного запаха. Воспользовавшись своими искусными навыками в иностранных языках (жесты и улыбка), я покупаю себе круглую завитушку с изюмом.
Я планирую съесть ее на ходу. Но, сделав первый укус – и очутившись в сладостном и хрустящем хлебном раю, – понимаю, что эта выпечка заслуживает большего. Она слишком хороша. Поэтому я встаю у пекарни и принимаюсь жевать, при этом чувствую себя ужасно взрослой, несмотря на падающие на одежду крошки. Вот таким должно быть мое путешествие, думаю я. Полная свобода.
Очередь в музей Орсе продвигается быстро.
– Одна? – с сильным акцентом интересуется у меня сотрудник, когда я дохожу до бархатного каната. Интересно, как он узнал, что я американка? – Студентка художественного вуза? – продолжает он расспрашивать, заметив мой рюкзак.
Я киваю. Я – студентка художественного вуза! Примеряю на себя этот титул словно шляпу и прихожу к выводу, что он мне очень нравится.
У всех художественных музеев есть нечто общее. Например, скульптуры: посетители не знают точно, как долго их нужно разглядывать. И мужчина с серым хвостиком и в бордовой водолазке, застенчиво потирающий двумя пальцами подбородок, – типичная карикатура на интеллектуала. И еще невероятно худенькая девушка, устанавливающая в одной из галерей мольберт, и пенсионного возраста экскурсовод, рассказывающий так тихо, что его никто в группе не слышит.
Так что музей Орсе тоже чем-то похож на Чикагский институт искусств.
Дедушка раз в год брал меня туда. В любой будний день, в 7:50 утра, он мог позвонить к нам домой как раз тогда, когда я собиралась в школу, и сообщить:
– Притворись больной, сегодня мы прогуливаем!
Мама закатывала глаза и откашливалась, но не возражала. И мы ждали, когда оливковый «понтиак» дедушки покажется на подъездной дорожке.
– Ты не можешь так поступать, – поджав губы, говорила мама.
– Искусство – это важная составляющая ее обучения, Эл, – отвечал он и подмигивал мне. Дедушка Роберт – единственный, кто называл маму «Эл».
Мы уезжали и, предоставленные сами себе, могли остановиться в кафе, где он знал всех официанток по именам. А оказавшись в музее, я уже понимала, что мы начнем со второго этажа – выставки американских художников. Там висели мои любимые картины: в одном зале «Американская готика» – возле нее все время толпилась экскурсионная группа, а в следующем «Полуночники» – классическая сцена, где несколько одиноких людей (и больше никого) ужинают в одной закусочной.
Когда мне исполнилось семь, там появилась еще одна картина. «Читатель и наблюдатель» – самая знаменитая дедушкина работа и единственная в Чикагском институте искусств. Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая, как возгордилась (характерное поведение детей, прежде чем они научатся фильтровать свои эмоции), когда впервые увидела ее.
– Дедушка! Смотри!
Я стала указывать пальцем и тянуть его за ветровку. Он улыбнулся мне. Тогда я вырвала руку из его ладони и подбежала к какому-то незнакомцу – молодому мужчине лет тридцати, восторгавшемуся картиной.
– Это мой дедушка! – обратилась я к нему.
– О, здорово.
– Нет! Он написал ее! Вот здесь… – Я тыкнула пальцем в опасной близости к холсту. – Вот его подпись. Р. П. Роберт Паркер.
И я указала на дедушку, который смущенно махнул рукой.
– Да ладно, не может быть!
Молодой человек представился – он оказался студентом академии искусств, – и вскоре все остальные, узнав о происходящем, обступили нас.
– Великолепное использование негативного пространства, – сказал один из незнакомцев.
– Каково это – наконец добиться успеха после стольких лет попыток? – спросил другой.
– Для меня это такая честь, сэр, – добавила женщина, протянув руку.
Все оставшееся время в музее нас сопровождали перешептывания. Я хорохорилась словно петух, ухмылка не сходила с моего лица. Я гордилась тем, что иду рядом с Робертом Паркером, но еще больше тем, что я его внучка и неразрывно связана с ним. Я по крови принадлежу к одному из Великих.
Позже я спросила у дедушки, почему он сразу не признался, что это его картина. Будь я на его месте, заявила бы об этом во всеуслышание и даже организовала небольшой стенд по раздаче автографов.
Тогда дедушка щелкнул по носу и прищурил глаза, всматриваясь в мое лицо.
– Я не для того стал художником, Медвежонок. Я рисовал еще задолго до того, как стал знаменитым, и буду продолжать, даже если никто больше не захочет покупать мои работы.
Я пока не до конца понимаю дедушкино отношение к своей славе. Нет, я могу понять его любовь к искусству – когда ты работаешь, весь мир уходит на второй план, а время летит. Для меня рисование сродни тому, как люди описывают йогу или безглютеновый образ жизни, – оно делает меня цельной. Хотя против известности я бы все-таки не возражала.
Но если быть до конца откровенной, я завидую не столько дедушкиному успеху, сколько стилю: практически кто угодно, глянув на его картину, тут же скажет, что она принадлежит кисти Роберта Паркера. Его узнают по характерным линиям, по подсвеченным сзади фигурам, по тому, как он изображает носы и веки. Мои же рисунки отражают стиль последней понравившейся мне работы. Я по-прежнему ищу свою отличительную особенность, но боюсь никогда ее не найти.
* * *
Стоит ли сейчас заглянуть в дедушкин конверт? Он лежит у меня в том же отделении сумки, что и паспорт. Палец нащупывает сквозь ткань его края. Но мне велели открыть задание только после посещения музея. Поэтому я, удовлетворенно вздохнув, принимаюсь осматривать выставочные залы в надежде, что выгляжу как задумчивая французская художница-модель, а не американская школьница, страдающая от разницы во времени.
Я чуть ли не подпрыгиваю на месте, завидев знакомую картину. Ван Гог – об этом можно судить по широким мазкам и палитре цветов, – и на ней изображена церковь. Я так горжусь тем, что узнала художника, проверив себя по висящей рядом табличке («Церковь в Овере»). Но моя гордость сходит на нет, когда я понимаю: картина кажется знакомой, потому что встречается в эпизоде «Доктора Кто».
Я вспоминаю: мне было десять лет, и мы с отцом отправились в путешествие к Большому каньону, пока мама была в отъезде на конференции. Мы ехали три дня подряд, останавливаясь в мотелях и питаясь в «Макдоналдсах», не выходя из машины, с заговорщическим видом преступников. «Мамы все равно рядом нет, так что она не увидит нашу большую порцию картошки фри!» И наконец одним промозглым утром мы подъехали к живописной смотровой площадке, где от крутого обрыва нас отделял лишь хлипкий деревянный заборчик.
Каньон оказался потрясающим, захватывающим дух – здесь были уместны все слова, которыми люди обычно описывают чудеса природы. А потом, точно по мановению режиссерской руки, тучи расступились, и нашему взору предстала территория в десять раз больше, чем мы думали вначале.
Я потеряла дар речи. Долгое время мы стояли и не могли отвести глаз от оранжевых полос, пытаясь охватить всю величественность природы.
И теперь, стоя в музее, я снова испытываю то самое чувство абсолютного потрясения и ничтожности перед лицом величия.
Вскоре я оказываюсь в задних рядах экскурсионной группы, возглавляемой невысокой девушкой с шотландским акцентом. Должна быть, взрослая: на ней юбка, заправленная белая блузка и цветочный шарф, выдающий сотрудницу музея, – но выглядит не старше шестнадцати лет. Как можно вот так устроиться? Приехать из другой страны и получить работу в одном из лучших музеев Парижа в столь юном возрасте? Даже если ей не шестнадцать, она раздражающе красива – наверняка каждый день наносит солнцезащитный крем, чтобы выглядеть такой молодой, а значит, дела у нее идут неплохо.
Сама того не желая, я присоединяюсь к группе. Сначала прячусь за какой-то американской парочкой – у отца в нагрудной переноске сидит малыш – и компанией немецких ребят на вид лет четырнадцати. Потом, когда становится плохо слышно, я набираюсь наглости и шагаю рядом с экскурсоводом. Та, похоже, не возражает. Наоборот, стоит мне поравняться с ней, как она одаривает меня легкой улыбкой.
Название картины я не слышу, но саму ее вижу очень хорошо: на холсте изображена нижняя часть женского обнаженного тела. Из-под приподнятой материи виднеются раскрытые бедра, ноги расставлены в стороны, в центре – облако лобковых волос. Все остальное осталось за границами полотна – если бы женщина не изгибалась так эротично, можно было бы решить, что это труп, оставленный серийным убийцей.
– Очевидно, когда картина была впервые выставлена напоказ, ее эротичность вызвала некие споры. Но само название, L’Origine du monde, или «Происхождение мира», несет скорее символическое, нежели сексуальное значение. Курбе показывает нам не просто женские, э-э, гениталии, он демонстрирует ее лоно, буквально источник всей жизни. А теперь пройдемте к следующей картине, которая вызвала такие же, если не большие споры во время первого показа… Давайте посмотрим, сможете ли вы догадаться почему.
Она жестом подзывает нас к другой картине, где представлена совершенно унылая сцена: женщина сидит за столиком кафе и смотрит в свой бокал. Рядом на скамье расположился мужчина. Импрессионистские мазки делают его лицо мертвенно-бледным, как у клоуна-зомби.
– Эта картина вызвала возмущение, сравнимое с тем, как если бы сегодня… Дисней выпустил фильм Квентина Тарантино.
Над шуткой смеется лишь один из немецких парней.
– Она, мягко говоря, шокировала посетителей, – продолжает девушка, лишь на долю секунды смутившись безучастностью слушателей. – Некоторые называли ее безобразной. Вы видите лицо женщины, оно угрюмое, почти зеленое, под стать лицу сидящего рядом с ней мужчины. L’Absinthe – так названа картина в честь напитка, стоящего перед женщиной. Это крепкий, горький алкоголь с привкусом аниса. Кто-нибудь из присутствующих пробовал абсент?
Семья американцев смотрит на нее с недоумением. Один из немецких ребят вскидывает руку. Три его товарища прыскают от смеха и пытаются ее опустить.
– Нет? – продолжает экскурсовод, окидывая нас взглядом. – Рекомендую попробовать, пока вы во Франции, но знайте меру.
Тогда я поднимаю руку. Слегка сбитая с толку экскурсовод поворачивается ко мне.
– Вам необязательно так делать, – говорит она.
– Простите, а почему эту картину считали безобразной? По мне, так она нормальная.
И это правда. Конечно, лица мрачные и немного размытые, но сама атмосфера тихая и спокойная. Этакие французские «Полуночники» девятнадцатого века. Я вот не могу себе представить, как с картины с женщиной, спокойно попивающей абсент, сдергивают белую ткань под вздохи и обмороки дам, которые слишком потрясены, чтобы оставаться в вертикальном положении или сознании.
– Понимаете… – начинает она.
Американская парочка, заинтересовавшись, придвигается ближе, но ребенок, почувствовав себя неуютно, начинает хныкать. Кто вообще тащит маленьких детей в музей? Что они тут узнают? Наверное, это сродни эффекту Моцарта: когда ребенку еще в утробе матери включают классическую музыку. Муж бросает на жену сочувствующий взгляд и отходит в сторону. Женщина, у которой я замечаю несколько выглядывающих из-под майки татуировок, приближается к гиду.
– Эта работа – явное отступление от других полотен Дега, картин с балеринами, которыми он известен. Обстановка… печальная. Женщина сама по себе, мужчина рядом с ней косится куда-то в сторону… Полагаю, богатые парижане хотели бы видеть у себя в гостиных не такого рода картины.
В эту минуту в меня врезается один из немецких мальчишек, которого толкнул его хихикающий друг. Поймав равновесие, он окидывает меня взглядом сверху вниз.
– А ты платила за экскурсию? – спрашивает он, поигрывая бровями.
Я медленно пячусь назад, и его гогот постепенно подхватывают остальные парни в одинаковых кофтах.
Группа продолжает осмотр. Остались только ребята и американка; ее муж, устроившись в углу возле картин Моне, тихо напевает ребенку песенку. А я все гляжу на картину, на лицо женщины. Мне кажется, что, если я буду долго, не моргая, на нее смотреть, она шевельнется и позовет меня к себе. Она выглядит грустной, но едва ли ждет кого-то. Нет, одиночество ее устраивает. Она там, где должна быть, просто ей это не нравится.
Я мысленно сравниваю эту работу с дедушкиной картиной «Читатель и наблюдатель». Читатель спокоен и доволен, а выглядывающий в окно мужчина – напротив, встревожен и чего-то ждет. Однажды я спросила у дедушки, кто эти люди, что с ними происходит. Он посмотрел на меня своим глубоким взглядом и откашлялся. Он ответил, что сама история – на картине, а все, что за ее пределами, там и должно оставаться. И теперь, глядя на женщину с бокалом абсента, я понимаю. Мне не хочется знать, кто она и откуда. Мне достаточно видеть, что ей грустно, что она затерялась в жутком месте – коричневом, абстрактном и безобразном. Я не собираюсь падать в обморок. Но как бы я хотела суметь изобразить что-то, передающее хотя бы двадцать процентов этой глубокой печали.
Возможно, мне никогда не было так грустно. Мою драгоценную жизнь слишком оберегал кокон благоустроенного быта. Конечно, я грустила, когда папа от нас ушел, но меня не покидали мысли, что маме намного тяжелее. Это она сидела на кухне с открытой бутылкой белого вина, словно печальная героиня какого-нибудь ситкома. Это она четыре месяца изъяснялась короткими фразами, тоном, подобным остро заточенному ножу. Я же, в отличие от нее, видела отца постоянно. И до сих пор вижу – по крайней мере, так было до сих пор. Не знаю, что теперь будет, когда он окажется в Аризоне, а я – в колледже.
Мне было грустно, когда Ник перестал отвечать на мои сообщения, а потом, несколько дней спустя, прислал такое большое, каких раньше не писал. Но и тогда эта грусть была другая: как в песне Тейлор Свифт, а не художественная грусть перед страхом реальности.
Еще пару часов я брожу по музею. С каждой увиденной картиной во мне крепнет убежденность: насколько увереннее выглядят мазки этих художников, насколько точно и осознанно каждое их движение. Все эти картины вдохновляют меня на создание чего-то столь же прекрасного, хотя бы немного. И одновременно лишают решимости даже пытаться, потому что мне никогда не достигнуть такого мастерства. С гложущими меня изнутри благоговением и страхом, подобно сидящим на плечах дьяволу и ангелу, я выхожу из музея и возвращаюсь в солнечный Париж. Мне не терпится открыть конверт. В конце концов волнение пересиливает, и побеждает ангел.
Я должна что-то нарисовать. В Париже. После посещения одного из самых знаменитых музеев мира. Спрятанные в карманах пальцы уже подрагивают от нетерпения, вырисовывая очертания фигур.
Наверное, где-то в городе меня ждет Элис Паркер, но это не важно. У меня уже есть компания из Ван Гога, Дега, Курбе и Мане. Их мысли, чувства и воспоминания до сих пор кипят во мне, когда я выхожу на залитую солнцем улицу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































