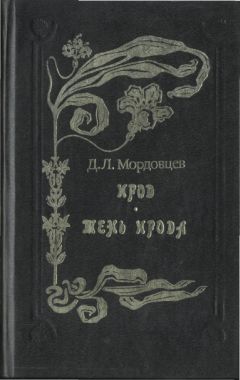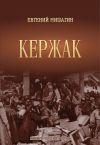Читать книгу "Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]"
XXVI
ЛЕВИН В ЗАСТЕНКЕ
Ярко блестят золотые маковки и кресты московских церквей под жаркими лучами летнего солнца. Дня еще немного прошло, но железные крыши и каменные заборы успели накалиться до того, что воробьи и голуби ищут зелени, а люди прячутся в тень, неохотно показываясь на солнце.
Только одна седая голова жарится на солнце. Старик, обвешанный сумками, опираясь на клюку, бродит у генерального двора перед сенатом и что-то бормочет. Он чем-то серьезно занят. Вынимает поочередно то из той, то из другой сумки разные зерна – пшено, крупу, рис, и, изображая из себя сеятеля, сеет все это прямо на мостовую. Всякое его движение сопутствуется голубями и воробьями, которые, расставаясь с тенью крыш и зеленью палисадников, кучами слетаются на мостовую и клюют рассеиваемые седым стариком зерна.
– Ах вы, Божьи нахлебнички! – обращается старик к воробьям. – Проголодались, поди... А ни сеять, ни жать, ни в житницы собирать не умеете? Да куда вам? Люди бы все у вас отняли.
Завидев кошку, которая пробиралась к воробьям, он бросился на нее с клюкой.
– Ах ты, Андрюшка Ушаков! – прикрикнул он на нее. – Ишь подбирается к глупым воробушкам. У тебя, чай, в Тайной и без того мышей довольно.
На одной из церквей пробило восемь часов. Старик перекрестился.
– Одним часом меньше стало, – сказал он про себя. – И им одним часом меньше мучиться осталось.
Один голубь сел ему на плечо. Умные глазки старика засветились молодою радостью.
– Что, гуля-умница, догадался? – ласково сказал старик. – А он не догадывается доселе: если б и я, как он, вздумал учить гулю дубинкой, то гуля давно бы в лес улетел.
– Бог в помощь, Фомушка, – это и был Фомушка-юродивый. – Ты все с своими детками?
Это говорил благообразный старичок, по-видимому, купец.
– С детками, – отвечал Фомушка. – А ты все с своим сынком, с аршином?
И при этом пояснил говорком:
Аршин – аршин,
Купецкой сын,
Не сеет, не жнет,
А все хлеб жует
И рубли кует...
– Верно, верно, Фомушка, – согласился купец. Звяканье кандалов заставило их оглянуться.
К воротам генерального двора подходил арестант, закованный в ручные и ножные железа и сопровождаемый солдатами.
Фомушка, вглядываясь в него, тихо проговорил: «Бедный, бедный воробушек! Года два назад ты прыгал в Питере, на Троицкой площади, с отцом Варсонофием... Видал я тебя и с господами офицерами у Малой Невы... Видал я, как ты вылетал потом из Невской лавры, а Фомушка в те поры плакал о своей внучушке – горлинке, Веруше, что монастырские вороны заклевали...»
Звяканье кандалов смолкло. Арестанта ввели во двор.
Фомушка, подняв кверху клюку, закричал:
– Эй вы, вороны, вороны сизые! Нахлебнички царские-боярские! Солетайтеся-собирайтеся, скоро вам будет праздничек-пированьице, столованье царское, угощать вас будут мясцом-говядинкой боярскою, а запивать вы будете кровушкой горячею.
Стук кареты заставил замолчать юродивого. Карета остановилась перед сенатом, где уже собралось несколько любопытных, в том числе и нищие. Фомушка тоже подошел к зрителям.
– Отец наш! Кормилец! – запели нищие, увидав юродивого.
– Генерал-прокурор Ягужинский в сенат прибыл, – пояснил купец.
– Волкодав, – пробормотал юродивый.
Еще подъехала карета. Из нее вышел угрюмый, но бодрый старик. Купец почтительно снял шапку и низко поклонился.
– Князь Дмитрий Михайлыч Голицын – ума палата, – пояснил он. – Это не шелкопер, не чета другим, а премудр, аки Соломон, и старину любит.
– Михаил Иванович Топтыгин, – пояснил юродивый для себя.
Карета за каретой стали подъезжать к сенату. Приехал Брюс, Яков Вилимович, Долгоруков князь, Григорий Федорович, Матвеев граф, Андрей Артамоныч.
Последними явились Шафиров и граф Гаврило Головкин. Они приехали в одной карете.
– Ишь ты, диво какое, – заметил юродивый, – одна берлога привезла двух медведей.
– Должно, кого-нибудь судить собрались, – пояснил купец.
– Кого ж больше правого, – заметил юродивый.
– Как правого, Фомушка?
– Вестимо правого. Виноватых никогда не судят.
– Для чего так?
– Для того, что виноватые сами судят.
– Уж ты, Фомушка, всегда загадками говоришь.
– Ну, так отгадывай. А я тебе вот что скажу, купец, слушай: коли нищий украл у тебя кусок пестряди на порты, не ты его тащи в суд, а он тебя за шиворот тащить должен и судить тебя за то, что ты его до воровства довел.
Купец засмеялся.
– Так по-твоему, воры должны судить не воров.
– Должны: «Зачем-де нас до воровства довели»...
– Чудеса, чудеса! Последуем однако за сенаторами.
В сенатской зале собрался верховный суд в полном составе. За большим столом, на котором лежат крест и евангелие, сидят судьи в порядке старшинства. В голове суда – старый граф Головкин, с теми же старческо-лисьими глазками, с какими он присутствовал и на ассамблее у светлейшего Меншикова. Только нижняя губа еще больше отвисла. Далее князь Григорий Долгоруков. У этого на лице холодное равнодушие и скука, как будто бы ему все надоело.
Несколько поодаль – Яков Брюс и Шафиров. Последний с еврейскими ужимками рассматривает массивную золотую табакерку соседа и как бы мысленно взвешивает ее ценность.
Князь Голицын смотрит угрюмо, словно бульдог он поглядывает на своих товарищей и особенно косится на Ягужинского, который что-то объясняет графу Матвееву.
Перед ними стоит Левин в кандалах. Он точно помолодел. Лицо его оживленно. Только между бровями, при стыке их, встала новая вертикальная складка.
– Так ты стоишь на том, что показал на рязанского архиерея? – спрашивает Ягужинский.
– Стою, – твердо отвечает Левин.
– И что был у него многажды?
– Был.
– И наедине сиживал?
– Сиживал.
– И утверждаешься на том, якобы он, архиерей, говорил тебе, что-де государь царь Петр Алексеевич – иконоборец.
– Утверждаюсь.
Судьи переглянулись. Злая улыбка скользнула не на губах, а в глазах Шафирова.
– И сказывал тебе архиерей, будто бы-де государь принуждал его быть синодом? – продолжает Ягужинский.
– Сказывал.
– И сказывал он, архиерей, что он-де якобы стоял перед государем на коленях и просил-де не быть синодом?
– Ей, сказывал.
– Говори сущую правду перед святым крестом и евангелием, – возвышает голос Голицын.
Левин вскидывает на него глаза и с силой отвечает:
– Всемогущему Богу отвечаю, не тебе!
– Стоишь на своем слове?
– Стою, и на нем в гроб лягу.
– И пред лицом архиерея повторишь то слово?
– Не пред лицом архиерея токмо, но пред лицом Бога Всемогущего.
Как электрическая искра пробегает этот ответ по собранию. Даже Долгоруков откидывается на креслах и изумленно смотрит в глаза подсудимого.
– Все сказал? – продолжает Ягужинский.
– Не все.
– Сказывай все.
– Говорил мне еще архиерей: желаю-де в Польшу отъехать.
– Для чего?
– Дабы не быть псом патриарша престола.
– Замолчи! Не кощунствуй! – крикнул на него Ягужинский.
– Ты что кричишь, холоп царев! – И подсудимый зазвенел цепями. – Я и на Страшном суде не замолчу.
Все сенаторы встали с мест.
– В застенок его, – проговорил Головкин.
Подсудимого увели в застенок. За ним последовали все сенаторы.
– Утверждаешься на слове? – еще раз спрашивает Ягужинский.
– Утверждаюсь.
– Палачи! – Делайте свое дело.
На подсудимого надевают пыточный хомут, к одной ноге привязывают веревку и тянут на дыбу. От тяжести тела и еще более от того, что один из палачей всеми силами натягивает веревку, привязанную к ноге подсудимого, руки несчастного выскакивают из суставов.
– Бей! – говорит Ягужинский одному палачу.
Удары палача не изменяют решимости фанатика. Он упорно молчит.
Сенаторы ждут, думая, что невыносимые муки заставят несчастного кричать, молить о пощаде, изменить показания...
Ждут десять минут... двадцать... двадцать пять... Можно задохнуться на виске, обезумев от боли... Нет!
Палач от времени до времени повторяет свои удары, от которых вол заревел бы...
Нет! Не ревет...
Еще ждут... Становится скучно и досадно.
– Утверждаешься на последнем показании? – нетерпеливо спрашивает генерал-прокурор.
Молчит.
– Стоишь на слове? (К палачу). Ударь сильнее! Стоишь?
Молчание.
Ждут... Тридцать минут... сорок...
– Ведомости пришли из Астрахани, что государь в море отплывает, – говорит Головкин.
– Не сдобровать Мир-Махмуду, – замечает Брюс.
Опять ждут.
– Пишут мне из вотчины: засухи стоят, урожаи плохи, чай, выдут, – заводит Голицын.
– Арбузы, сказывают, государю полюбились в Царицыне быковские, – поясняет Шафиров.
– Да, в сухой год арбузы хороши бывают, и ягод прорва, – добавляет Ягужинский.
Ждут. Молчит Левин.
– Еще ударь!
Ни звука... Ждут, слушают... Никак говорит? Да, говорит.
– Матушка! Матушка! Погляди на меня с небес, на сына твоего, на Васю, – шепчет несчастный. – Посмотри, матушка! Какой я славы дождался.
– Заговаривается, – замечает Голицын. – Пора бы снять.
– Дуня! Евдокеюшка... ты видишь меня... порадуйся...
– Да, бредит.
– А ты, Оксаночко, где ты?
– Снимите! – приказывает Голицын. – Сорок пять минут висел.
Снимают. Ждут слова, мольбы – напрасно! Подсудимый поднимает руки к небу и говорит восторженно:
– Благодарю Тебя, всемогущий Боже, яко сподобил мя мученической славы! Славлю имя Твое святое ныне и присно!
– Не снимаешь свой оговор с архиерея Стефана? – снова спрашивает Ягужинский.
– Не снимаю! Суще на архиерея право те слова показал... А се ныне добавлю: он же, архиерей, говорил мне, что будут писать токмо три иконы да распятие, а остальные-де станут на воду пускать и жечь. И он же говорил мне: «Едучи до Новгорода, в дороге помолчи, а от Новгорода сказывай, чтоб иконы убирали».
Сенаторы с недоумением, а иные и с тайною радостью посмотрели друг на друга: приходилось допрашивать великого старца, блюстителя патриарша престола, митрополита Стефана Яворского.
Когда Левина увели, граф Головкин обратился к сенаторам:
– Будем допрашивать архиерея, господа сенат?
– Повинны в силу указа царева, – замечает Ягужинский.
– Да будет так! Воля царева – мать закона: она его рождает, – пояснил, не без задней мысли, Долгоруков.
Когда Левина вывели из ворот генерального двора, чтоб снова отвести в тюрьму Тайной канцелярии, народ с боязнью расступился перед ним: лицо его выражало что-то такое всепрощающее, необычное между людьми, что становилось страшно чего-то.
Один Фомушка не испугался. Напротив, он быстро подошел к арестанту и поклонился ему до земли. Затем, сев верхом на клюку, как это делают ребятишки, когда играют в лошадки, стал прыгать впереди Левина, показывая вид, что скачет.
– Пошел прочь, дурак! – закричал на него один солдат, по-видимому, нерусский... – Что ты делаешь?
– Еду к Марье Акимовне и к Иван Захарычу, – отвечал юродивый загадочно.
– Зачем? – спросил купец, знавший уже, кто разумелся у юродивого под именем «Марьи Акимовны» и кто был «Иван Захарыч».
– Чтоб Марья Акимовна сынка своего попросила отворить райские двери.
– Для кого?
– Вон для него.
И юродивый, указав на Левина, поскакал верхом на палочке среди изумленных москвичей.
– Ишь Божий человек – Христа ради юродствует, радуется, – заметила баба, несшая хлеб с базара. – Господь, должно, радость нам пошлет – хлебушка подешевеет.
– Держи, баба, карман! – обрезал ее купец. – Юродивый радуется – к худу, а плачет – к добру.
Левина уже не видно было. Слышалось только издали мерное позвякиванье кандалов.
– Слышите! Слышите! – говорил вновь откуда-то взявшийся Фомушка, прислушиваясь к звяканью железа. – Это Петруша апостол звенит райскими ключами... Отпирает, отпирает... Ай да Петруша!
XXVII
ОЧНАЯ СТАВКА С СТЕФАНОМ ЯВОРСКИМ.
ЛЕВИН НА СПИЦАХ
Идет допрос Стефана Яворского. Митрополита допрашивают не в синоде, а на дому, «ради болезни».
И духовный, и светский верховные суды в полном составе собрались вместе.
Но кто кого судит? Этот ли ветхий, маститый, с кроткими глазами старец в митрополичьем одеянии, сидящий особо, поодаль от других, и задумчиво перебирающий свои четки, к концу которых подвешено маленькое золотое распятие, утвержденное на перламутровой, искусно выточенной мертвой голове? Он ли судит это сонмище вельмож светского и духовного чина, сидящих против него за особым столом? Или эти вельможи, не смеющие прямо взглянуть в кроткие глаза подсудимого и точно слышащие над собою приговор юродивого, что судят всегда виноватые правого, а не правый виноватых, – судят этого кроткого старика?
В числе судей – враг Стефана Яворского, пронырливый и завистливый соотечественник Стефана, воспитанник иезуитов, украинец Феофан Прокопович. Жесткое, хитрое лицо его выражает скрытое торжество под личиной смирения. Рядом с ним другие члены синода: архимандриты чудовский, Новоспасский и симоновский. Это – высший духовный суд.
Отдельно от них сидят члены светского верховного суда «господин сенат»: граф Головкин, лукавые глаза которого, словно мыши, попрятались в норы, князь Григорий Долгоруков, Яков Брюс, Шафиров, князь Димитрий Голицын, граф Матвеев и Ягужинский.
Ягужинский протяжно, внятно и с расстановками читает бесконечные показания, данные Левиным в Тайной канцелярии, в сенате и в застенках под пытками 28 апреля, 8, 11, 15 и 26 июня, и последнее – 5 июля.
Утомительно это чтение и мучительно для Стефана Яворского: имя старика попадается на каждой странице, рядом с этим именем звучат слова «антихрист», «царь», «антихристовы печати», «блудники-монахи»...
При подобных словах то в глазах Феофана Прокоповича блеснет зловещий огонек, то глазки Головкина засветятся словно гнилушка ночью. Но задумчивые глаза подсудимого старика смотрят куда-то далеко-далеко, не то на далекую, милую, в тумане старческой памяти выступающую Украину, на родной Нежин, на старое дерево в леваде с вороньим гнездом, не то – в близкую могилу, у которой уже лежит готовая лопата, чтобы засыпать землей кроткие, отглядевшие свой век глаза, чтобы уж не глядеть им в невозвратное прошлое, на невозвратную Украину.
Ни Прокопович, ни Головкин, ни Ягужинский ничего не могут прочитать в этих глазах, потому что их реальный ум незнаком с тою речью, которою говорят задумчивые глаза подсудимого.
Наконец чтение показаний Левина кончено.
Подсудимый глубоко вздохнул, но не изменил ни своего положения, ни задумчивого выражения глаз.
Помолчав немного, Головкин медленно произнес:
– Что будет угодно ответствовать на сие вашей святыни?
Стефан Яворский перенес на него свои глаза, потом медленно перенося их на недоумевающие лица всего собора, начал говорить тихо, плавно, спокойным, совершенно деловым языком:
– Оный Левин в Нежине у меня был ли и такие слова, которые в расспросе его показаны, говорил ли, того за многопрошедшими годами сказать не упомню. А в Петербурге в прошлом 1721 году он, Левин, ко мне прихаживал не однажды и просил прилежно меня, чтоб ему дать грамоту о пострижении, и я говорил ему, чтоб он просил в Военной коллегии об отставке от службы, и когда-де свободный от службы указ за руками генералов и за печатью ему дадут, тогда-де я и о пострижении его грамоту дам. И потом он сказал мне, что оный указ взял, и просил меня, чтоб я о пострижении его дал письмо в Соловецкий монастырь к архимандриту. И я такое письмо ему дал.
Ягужинский усердно записывал каждое слово митрополита. Привычное перо скрипело при общей тишине, как бы торопясь уловить не то, что говорил подсудимый, а то, что он думал и чувствовал.
Помолчав немного, митрополит продолжал:
– Да, все это было так, как он сказывал. А таких слов, что будто бы он при мне называл государя антихристом и будто я молвил, что-де он, государь, не антихрист, а иконоборец, и будто я посылал его с келейником своим в сенат смотреть образов и к соловецким старцам будто для проведывания, каково в оной обители жить, также и в Невский монастырь к Прозоровскому, а также о неподписании под пунктами о синоде и о царевиче и что будто в Польшу я хотел отъехать, – и таких слов я от Левина не слыхал и сам ему не говаривал, и ничего того не бывало.
Перо Ягужинского так резко скрипнуло на последнем слове, точно крикнуло: «Неправда! Неправда!»
И под Феофаном Прокоповичем затрещало старое кресло. Глаза его светились словно у борзой собаки, несущейся за лисою... «Ох, уйдет, ох, уйдет, старая лиса!»...
А митрополит продолжал:
– Да и наедине со мною Левин никогда не бывал, и в спальне у меня не бывал также, а бывал только в передней палате или в крестовой, и то при других людях, а не наедине, и многажды дожидался меня на крыльце и прашивал дорогою о пострижении же. А к попу Никифору Лебедке, может быть, что я его просить о вспомоществовании у светлейшего князя об отставке от службы и посылал, понеже Лебедка, отец духовный светлейшему князю и всему дому его был и мог бы ему помощь учинить.
Митрополит замолчал. Молчало и все собрание сановников.
– И о всем сказанном ваша святыня неотступно подтверждаешь? – спросил наконец Головкин.
– Ей-ей, – отвечал митрополит, – о всем сказанном пред Богом и пред его императорским величеством приношу я самую истину так, как явиться мне пред Богом. А ежели я в сем ответствовании сказал что неистинно и хотя мыслию к тем Левина злым словам коснулся, то дабы мне во аде со Иудою вечно мучиться.
Ягужинский встал и поднес ему то, что записал с его слов. Митрополит внимательно прочел и, подойдя к аналою, на котором стояла чернильница, взялся за перо.
Феофан Прокопович по-прежнему не спускал с него глаз. «Ох, уходит, старая лиса»...
– Ой! – вдруг вскрикнул Феофан в испуге. – Что это! Что это! С нами Бог!
Митрополит оглянулся, и кроткое, задумчивое лицо его осветилось улыбкой.
– Ах ты, бабась дурный! Що ты робишь? Як злякав преосвященного владыку, – сказал он и поспешно подошел к испуганному Феофану.
Оказалось, что ручной сурок, вывезенный из Малороссии и выкормленный Яворским, приняв полу рясы Феофана Прокоповича за полу своего хозяина, Яворского, уцепился за нее зубами и тянул для каких-то своих сурковых соображений. Почувствовав это и увидав, что его тащит за полу какой-то зверь, Феофан Прокопович испугался этой неожиданности и закричал.
– Ах ты, дурный бабась! – продолжал добродушно митрополит, грозясь на зверька пальцем. – Выбачайте его, дурного, ваше преосвященство... Простить великодушно... Это у них, должно быть, ссора вышла с сорокою, так он меня и зовет на суд.
В это время из другой комнаты вышла и сорока, скача по полу и держа во рту апельсиновую корку.
– Вот она, злодейка, – сказал добродушно старик.
Все грозное судилище рассмеялось. Смеялся и Феофан Прокопович, но с досадой.
– Геть видсиля, дурни! – затопал на своих друзей старик и выгнал их в другую комнату.
Потом, снова подойдя к аналою и взяв перо, он задумался. Вероятно, ему вспомнилась Малороссия, потому что, подумав немного, митрополит сказал:
– Так, так, припамятовал... Дай Бог память – стар становлюсь, забываю... Да, так. Был у меня Левин в Нежине и просил о заступлении к генералу Ренну, понеже он, Левин, в то время, не ведаю в каком деле был арестован и шпага у него снята, и по моей просьбе шпага ему отдана была по-прежнему.
И взяв перо, он дрожащею рукою вписал все это в свое показание и подписался.
Головкин взял подписанное, повертел в руках и, метнув своими светящимися гнилушками в Феофана Прокоповича, потом в Ягужинского, обратился к Яворскому с такою медовою речью:
– Ваше высокопреосвященство! Мы радуемся радостию великою, что Богу угодно было, в лице твоей святыни, оправить своего служителя пред лицом его императорского величества во взведенном на твою святыню недостойном поклепе. Но дабы убелить паче снега верность твою пред его величеством, подобает уличить пред твоею святынею богомерзкого клеветника и хульных слов огласителя, онаго Левина. Поставим его пред тобою, и да поразит его Божий гнев, аки Анания и Сапфиру.
Митрополит понял, к чему клонилась эта сладкая речь.
– Вы хотите поставить меня с ним на очную ставку? – сказал он. – Да будет воля Божия.
– Нет, не на очную ставку, ваше высокопреосвященство, а ради улики мерзких дел онаго Левина.
– Делайте, что вам велит совесть, – сказал старый святитель и сел на прежнее место.
Дали знак, чтоб ввели Левина. Он был приведен раньше на митрополичий двор.
Ввели и Левина. Судьи, которые еще недавно пытали его и дивились необычайной силе воли, светившейся в каждой черте лица, теперь не узнавали его. Он вошел в глубоком смущении. Никому не кланяясь и не глядя ни на кого, он подошел прямо к Стефану Яворскому, звеня кандалами, и, став на колени, поцеловал край его одежды с таким благоговением, как бы прикладывался к образу.
Митрополит молча благословил его.
Поднимаясь с полу, Левин робко взглянул на старика. Старик плакал.
Левин не выдержал. Все тело его затряслось так, что зазвенели железа, и он, припав лицом к ногам митрополита, в исступлении заговорил:
– Лобзания мои да будут гвоздьми, ими же пригвождены имуть нози твои святые ко кресту страдания. Слова мои да будут венцом терновым на главу твою честную, отче! Слезы мои да будут оцтом, им же напою я уста твои кроткие! Сердце и ребра твои я, окаянный, копием неправды прободу и голени твои хулою на тя преломлю, старче Божий!
Все с удивлением смотрели на фанатика. Он продолжал валяться у ног митрополита, звеня кандалами в судорожных движениях.
– Встань, сын мой, – кротко говорил старик. – Обличай меня.
Левин встал.
– Слушай ответы архиерея, – громко сказал Ягужинский.
И начал читать показания митрополита. Левин слушал, не поднимая глаз.
– Архиерей утверждает, что ты показал на него ложно, – сказал Головкин по окончании чтения.
– Не ложно показал я, а сущую правду, – отвечал Левин с прежнею энергиею.
– И утверждаешься на первом показании?
– Утверждаюсь.
– И на том стоишь, будто архиерей называл царя Петра Алексеевича антихристом?
– Стою и стоять буду!
– Ни от одного слова не отрекаешься?
– Нет! Нет! Нет!
Феофан Прокопович видимо прятал свои торжествующие глаза... «А! Попалася старая лиса!..»
– А ведаешь ли ты, какими муками ты мучен будешь за твои хулы? – спросил Ягужинский.
Левин посмотрел на него с удивлением.
– Я ищу мук, а ты мне грозишь ими! Молю о чаше меда, и ты сулишь мне ее. Давай же скорей! Вот мои руки, – и Левин вытянул их, – вылущивай кости из кожи, отделяй сустав от сустава, вытягивай жилы мои, аки струны, и струны сии будут греметь хвалу Богу Вседержителю! Га! А они стращают меня муками, мучьте же меня больше! Мучьте святое тело архиерея Божия, вы недостойны ступать вашими ногами по той земле, иде же его честные нозе ходят! Зовите мучителей, слуги антихристовы!
Он прошел в такое исступление, что его тотчас же вывели.
***
Ночь. Каземат тускло освещен ночником. За решеткою казематного окна слышны мерные шаги часового. Левин сидит у стола, опустив седую голову на руки.
– Матушка! Матушка! Видишь ты славу мою? – говорит он тихо. – Тело мое болит, кости ломят во мне, а я радуюсь духом... Дожил... Доживу ли до последней славы.
Он вспоминает последнюю очную ставку с старым митрополитом.
– Отче святой, прости, прости меня! Мукам отдаю я тело твое ветхое... Я хочу вместе с тобою стоять одесную Бога Вседержителя...
Он помолчал и, взглянув в оконце, увидал, что ночь уже на исходе, восток алеет, воробьи за окном чирикают, ласточки проснулись.
Жаль ему чего-то стало.
– Али мне прошлого жаль, по младости встосковалась душа? Нет, не жаль мне младости, не воротишь ее. Не почернеть моей головушке седой, не потечи быстрой речушке вспять. Али мне Ксенюшку жаль неповинную? Да и ее не воротишь, и к ней дороженька заросла, а может, она и гробовой доской прикрылася... Али об Евдокеюшке душенька моя восплакала? Нету, рассыпалася она золою по лесу, в дыму ее тело девичье развеялося... А все он, лиходей мой, заел жизнь мою... Одного жаль мне – старца Божия, архиерея кроткого... Плакал он сегодня, глядючи на мое окаянство. Тяжко мне было видеть персону его благую, благолепную... А как и его поведут на плаху, на поругание? Нет, сниму с него оговор, завтра же пойду в тайную и сниму...
Все алее и алее становится восток... Утро заглядывает в тюремное оконце... Скоро день заглянет...
А ему что до этого? День, ночь, жизнь, смерть – все это для него чужое... все пропало... наступает вечность...
***
Жаркий летний день заглядывает в казематное оконце. Железные решетки не мешают солнцу, не мешают жизни врываться в тюрьму...
А для него нет уж жизни и солнца нет, не надо ничего.
Он был в тайной. Снял оговор с митрополита...
Чего ему это стоило! Он снял оговор на дыбе... под 25-ю ударами палача, все вынес за доброго старичка, и ему теперь легче... Все кости переломаны, вся спина сплошною раною стала, а легче!
– Непостижима ты, душа человеческая! – думается ему. – Легче мне... мама! Мама! Я к тебе хочу... я плакать хочу, так, как маленьким плакал... Нет, не сумею уж так плакать...
– Господи Исусе Христе сыне Божий, помилуй нас! – слышится голос за дверью.
– Аминь.
Входит монах.
– А! Это ты, Решилов... Опять пришел увещевать меня?
– Да, ищу твоего спасения.
– О! Иуда, вотще трудишися... Поди к моим мучителям и скажи им последнюю волю мою... Коли меня выпустят отсюда, я пойду по лицу земли российской и во всех градах и на путях кричать и порицать царя злыми словами буду и новую веру осуждать на всех стогнах и распутиях, дабы народ ужасался... И ныне, при тебе, в очи твои лукавые взирая, вашего антихриста злыми словами стократы порицаю, и новую вашу неправую веру осуждаю, и тело, и кровь Христову, что неправые попы дают за истинное тело и кровь его, спасителеву, не приемлю, а иконы ваши на генеральном дворе идолами называю, потому что у образа Спасителя не написана рука благословляющая, а у образа Пресвятой Богородицы Младенца не написано, а у образа Иоанна Предтечи благословляющей руки не написано... И то – знамение антихристово... Он пришел, знай это... Ведай и сие: у графа Гаврилы Головкина, что судит меня, у сына его – красная щека, да у Федора Чемоданова у сына ж его пятно черное на щеке, и на том пятне волосы черные ж, а они, Головкина сын и Чемоданова сын же, братья двоюродные, а такие люди будут все во время антихристово, так и в Писании сказано! Поди и скажи это всем, а меня оставь, мне смерть в очи смотрит.
Он замолчал и упал головою на стол...
– Уйди! Уйди от меня! – говорил он судорожно. – Не мешай мне глядеть в очи смерти... Там я вижу мать мою, и их вижу, ты... Ты не должен знать имен их... Уйди! Я с ними хочу говорить...
Решилов ушел.
***
Сенаторы на генеральном дворе. Опять полный собор судей.
Левин стоит на спицах... Острые зубья впились в его голые ноги...
Велика изобретательность человека. Велик ум его творческий и разрушительный. Велика, страшно велика и воля человеческая...
Стоя на спицах, Левин говорит свое последнее слово:
– Все, что я говорил прежде, и то я говорил с умыслом, чтоб время продолжить, дабы народ речей моих наслушался... И ныне я стою на прежнем: небо видит меня... небо слышит мои речи, и оно поведает их людям... Я сам искал смерти, я сам, волею моею, пострадать хотел – и кричу мои слова к Богу, к небу...
На решетку двора села ворона.
– Вон, птица сия слышит мои слова, – она поведает их людям, она выклюет мои глаза и мозг мой и расскажет людям мысли мои, каркать будет, и люди будут думать моею мыслию и видеть зло мира сего моими очами, как я его вижу... Аминь.
Больше он не сказал ни слова
А сенаторы ждут... Да и нервы же были у сенаторов!