Текст книги "Булатный перстень"
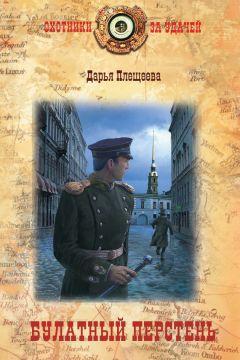
Автор книги: Дарья Плещеева
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Александра вздохнула всей грудью. Сиреневая гроздь все еще была возле губ, и она поцеловала цветы. А потом быстрым шагом пошла на зов, над кем-то пошутила, рассмеялась чьей-то остроте. Нерецкий оказался рядом и спросил пожилую даму, госпожу Мышецкую, куплены ли клавикорды для внучек. Дама позвала его в гости – одобрить покупку. Она принимала по вторникам, Александра могла приехать без приглашения по праву какого-то далекого родства. Вторник был через два дня…
Ночь была так хороша, что гости, расходясь, оставили экипажи и пошли пешком. К Александре прилип хуже банного листа несостоявшийся жених Зверков, но она была рада – держа его под руку, она могла преспокойно перекликаться с дамами и кавалерами, звать их к себе, и Нерецкий был поблизости. Они обменялись светскими любезностями, и оба разом вспомнили про клавикорды госпожи Мышецкой, тем самым, не сказав ни слова, назначили свидание у тех клавикордов.
Оно состоялось, но вокруг было слишком много людей, слишком много света и ни единой веточки, к которой хотя бы поочередно прикоснуться пальцами. Казалось бы, кому какое дело, что молодая вдова сговаривается с господином, который ей подходит по годам и воспитанию? Но Александре казалось, что эти отношения нужно хранить в глубокой тайне, чтобы никто не мог помешать сближению душ.
Они условились встретиться в Летнем саду. Там тоже собиралось общество, на большой аллее был целый променад, и у мраморной Флоры Александра сказала, что хочет устроить у себя небольшой прием: ей придется несколько месяцев побыть опекуншей юной смольнянки и по этому случаю держать открытый дом, чтобы девица знакомилась с дамами и кавалерами. Нерецкий согласился и обещался привести товарища, флотского офицера Майкова, неплохого музыканта.
На прощание он впервые поцеловал ей руку, как она и ожидала – не обозначив поцелуй легким касанием губ, а прижав их к надушенной кисти.
…Экипаж остановился у дверей ювелирной лавки, но Александра, пребывая в ином мире, не сразу поняла, что нужно выйти. Она взяла сундучок с дарами Федосьи Сергеевны и вошла в лавку. Ювелир, пожилой немец Мюллер, живший в столице уже лет тридцать, был предупрежден и приготовил все нужное – весы, гирьки, разновесы не более рыбьей чешуйки, лупы и пузырьки с загадочными жидкостями, чтобы очистить старые украшения от грязи.
Камни чистой воды и нужного размера он сразу вынимал из оправ и складывал отдельно. Александре присоветовал сделать из ожерелья, кроме сережек для Мавруши, и брошь для нее самой, которая вместе с рубиновым кольцом составит хороший гарнитур. Зная любовь Александры к рисованию, старик просил ее собственноручно начертить эскиз броши.
– А что, герр Мюллер, можно ли из серебра и мелких камушков сделать сиреневую гроздь? – спросила Александра.
– Для того потребуются аметисты-кабошоны, но какая же брошь без бриллиантов? Можно на эмалевых листьях поместить бриллиантовую росу, – предложил ювелир. – Попробуйте нарисовать, госпожа Денисова. Впрочем, я сомневаюсь, что получится хорошо. Не будет той пышности, которую мы любим в сирени.
– Жаль…
Просидев полтора часа у ювелира, она поехала домой в надежде, что под Фросиным водительством уже собраны два платья – складки у лифа заколоты нужным образом, подобраны ленты и кружева.
Мавруша встретила ее в старом камлотовом платьице и радостно доложила о всех подвигах: о примерке, переговорах с сапожником, выборе муслина гладкого и с цветочками, батиста гладкого и шитого, коленкора и миткаля, чулок нитяных и шелковых. Александра невольно позавидовала – сколько счастья может доставить юной девице лента для чепчика баканового цвета, идущего к ее веселому личику. Не красавица, нет, смугловата, носишко приплюснутый и зубки неровны… Из шкуры надо вон вылезти, а – отдать ее этой осенью замуж!..
– Только не зови меня тетенькой, – сказала Александра. – Ты уж не дитя, чтобы всех, кто старше двадцати лет, тетеньками звать.
– А как же?
– Да хоть Сашеттой, а на людях – сударыней. Мы ведь даже не родня – ты моему покойному мужу седьмая вода на киселе.
Мавруша на такую прямоту обиделась.
– Кто ж мне родня? – спросила она.
– Настоящей не осталось. Вот госпожа Волошина была – да померла. Тебя, Мавруша, надобно везти в Москву и показывать там как заморское диво: глядите, люди добрые, персона без родни. В Москве все меж собой перероднились, как без теток с дядьями жить – не представляют, и даже если к ним абиссинского негуса привезут – они и ему своячениц с кузинами сыщут.
Смольнянка рассмеялась. Александра подумала, что коли придется развлекать девицу, то надо бы нанять компаньонку – пускай вдвоем хохочут.
Отправив Маврушу обживать угловую комнатку и перебирать картоны с шитьем и лино-петинетами, Александра присела на канапе и задумалась. Девчонку-то нарядили, будет блистать, а она сама? Да еще в такой вечер?
– Фрося! – закричала Александра, вскочив. – В гардеробную, живо! Надобно скарлатное платье освежить! И пукетовое, где цветы по зеленому полю! Вели Андрюшке подняться сюда – я ему записочку к волосочесу напишу. Пусть бежит скорее, а то останемся лахудрами!
Чувствовала – не надо взбивать и лохматить волосы, подкалывать шиньон и выпускать на грудь и плечи крутые локоны, Нерецкому вряд ли нравятся такие художества, следует выйти, просто убрав косы в узел, в маленьком нежном чепчике, и этого будет довольно. И для того нужно заранее уговориться с парикмахером-французом, мусью Трише, чтобы его уже в другой дом не абонировали.
Два часа спустя Александра поняла, что Нерецкому она может понравится не в скарлатном и не в пукетовом, а только в атласном гри-де-перлевом платье. Оно неяркое, но словно бы испускает свет, гармонируя с белой ночью. И если после приема кто-нибудь предложит прогулку по набережным, то… необходимо поменять перья на шляпе!..
Тут же, на Миллионной, напротив дома графа Остермана, держал лавку плюмажный мастер француз Натьер. К нему, взяв с собой Маврушу, можно было сходить за перьями, заодно совершив моцион. Александра велела Фросе отцепить старые перья от прошлогодних летних шляп – мастер брал их в мытье и перекраску. В том же доме жил и другой француз, гравер Грипо, умевший вырезать на камнях и металле отличные вензеля. Александра хотела показать ему то из даров тетки Федосьи Сергеевны, что отверг Миллер, авось удастся изготовить модные безделушки.
Во время прогулки Александру окликнули из экипажа. Давняя приятельница, госпожа Вейкарт, позвала к себе – хотела похвалиться новыми парными портретами, которые только утром привезли из мастерской господина Рокотова. Мавруша воскликнула «ай, Рокотов!» – и тут же дверца экипажа распахнулась.
В доме Вейкартов засиделись допоздна. Как-то сам собой образовался домашний концерт – Мавруша декламировала по-французски куски из Мольеровых пьес, пела вместе с младшей девицей Вейкарт, потом они затеяли русские пляски, и хозяйка дома с трудом их угомонила.
Вернувшись, Александра отправила Маврушу умываться и спать, а сама уселась в гостиной – насладиться тишиной. Мысль была одна: если рожать – то мальчишек, и как только будет возможно, сдать в кадетский корпус.
Вошла Фрося, без лишних слов опустилась на колени и стала снимать с барыни башмачки. Слух у девушки был отменный. Она первая услыхала соловьиный свист за окном.
Александра простилась с Михайловым в тот самый миг, когда впервые встретила вопрошающий взгляд Нерецкого. Оставалась формальность. Малоприятная. Плохо, что Михайлов человек не светский и в отставке от красавицы ничего забавного не увидит. А как ему объяснить, что самое прекрасное в мире тело становится неинтересным, когда отхлынет первый азарт? Стало быть, нужно поставить точку в сем романе, и поставить решительно.
Михайлов пробыл у нее не более пяти минут. Оказалось, гордости в нем – не менее, чем в ней самой. Удрал, задрав нос, не стал унижаться, вымаливая еще кроху благосклонности! Это Александре понравилось.
Теперь она могла хоть до рассвета мечтать о Нерецком.
Накануне приема она загоняла дворню, самолично обошла убранные комнаты с белым платком, проверяя, не осталось ли где пыли. Наконец пришел мусью Трише, и тут уж волей-неволей пришлось оставить всех в покое и сесть в гардеробной перед трельяжем.
Француз принес новый шиньон. Еще не родилась женщина, у которой достало бы своих волос на пышную новомодную прическу. У Александры была хорошая коса до пояса, но она не желала портить волосы – пусть Трише над заемными издевается, жжет их щипцами, обращая в подобие войлока.
Потом француз взялся за Маврушу, а вокруг Александры засуетились Фрося с Танюшкой, чуть-чуть румяня щеки, припудривая лоб, нос и подбородок, прилаживая на груди пышную косынку, расправляя кружево на рукавах, надевая ожерелье с модным медальоном. Медальон был пуст, и Александра предвкушала, как из набросков родится изящная миниатюра, овальный портрет Нерецкого вполоборота, на дымчато-бирюзовом поле.
Гри-де-перлевое платье сидело отменно, шуршало завлекающе, шнурованье удалось – было тугим, но не жестоким, новые туфельки радовали ногу, оставалось обойти комнаты в последний раз и сесть в гостиной, держа при себе взволнованную Маврушу.
Девушке доводилось бывать при дворе, но там она была смольнянкой, забавой для государыни, а тут – почти хозяйкой дома, и не в надоевшем белом, а в замечательном платье благородного цвета вер-де-гри, с дорогим веером и наконец-то с драгоценностями на пальцах и шее – нужды нет, что пока эти изумруды – из шкатулки Александры.
Гости съезжались понемногу, дамы рассаживались вокруг хозяйки, Мавруша не успевала делать реверансы. Все разговоры велись о Воспитательном обществе и о девицах – каждая из гостий имела там какую-то дальнюю родственницу и любопытствовала насчет ее успехов. Александра сперва возмутилась – в центре внимания оказалась не она, а девчонка! Потом увидела в ситуации явное преимущество: при необходимости можно будет незаметно уединиться с Нерецким в кабинете, хоть на несколько минут…
Наконец он появился вместе с молодым флотским офицером, подошел к ручке, представил товарища; госпожа Гаврилова была рада его видеть и тут же попросила спеть чувствительный романс.
Как покровительница молоденькой девицы Александра сразу предложила спеть и ей – все смольнянки обучены музыке и даже исполняют арии из опер Перголези и Кьямпи. Нерецкий вызвался аккомпанировать и тут же уговорился с Маврушей о нотах, для чего они ушли в дальний угол гостиной, где Александра велела поставить клавикорды, которые достались ей от покойной материнской кузины. Туда потянулись гости – оценить смольняночку, и это было хорошо. Александра чувствовала, что ее совесть чиста, – для удачного замужества Мавруши делается все возможное.
Теперь можно было подумать и о себе. Первым маневром было – заговорить с Майковым. Во-первых, хорошая хозяйка должна обласкать молодого человека, впервые появившегося в ее гостиной. Во-вторых, теперь Нерецкий мог подойти, не ища предлога, – просто присоединиться к беседе, в которой участвовал приятель.
Майков оказался не по годам серьезен, высоколоб и курнос – не самое лучшее сочетание, и все норовил своротить со светской болтовни на темы либо возвышенные и философские, либо мрачные, вроде войны.
– Можно ли человеку образованному придавать значение поступкам царей и королей, которые оказались на тронах по праву рождения, и не более того? – спросил он. – Короли в идеальном и правильном государстве – те руки, что вершат власть, подписывают указы, принимают послов, дарят династии наследников. А решения о войнах и мире должен принимать разум, который превыше трона.
– Божий разум? – уточнила Александра.
– Разум людей, которых избрал Господь.
– Так это и есть цари и короли.
– Король – это один человек, обуреваемый страстями. Не могут страсти править миром. Миром должны править идеи. А идеи привлекают служителей. Должен быть союз людей, преданный высоким идеям и совместно вырабатывающих планы действий, – объяснил Майков.
Александра испугалась – вот только бунтовщиков ей в гостиной недоставало. Во Франции, сказывали, завелись люди, преданные высоким идеям, и вряд ли это добром кончится.
– У каждого короля есть министры и советники, – сказала она. – Взять хотя бы у нас…
– У нас – фавориты.
Вот оно что, подумала Александра, вся твоя философия, голубчик, происходит оттого, что ты нехорош собой и умеешь быть лишь угрюмым. Князь Потемкин-Таврический, который государыне чуть ли не супруг, – весел, остроумен, его мысли кипят и пенятся, а покойный фаворит Ланской был чудо как красив, образован, изящен, деликатен.
– Однако фаворит бывает один, а министров и советников поболее десяти.
– И что же? Каждый из них печется о своем благе.
– Ну, допустим, сперва – о своем благе, но ведь волей-неволей вынужден печься и о благе Отечества!
– Но что есть благо Отечества? Не выдумка ли оно? – спросил Майков. – Должны ли мы так узко понимать то, что на самом деле есть вселенское благо? Взять любое немецкое княжество размером с наш Елагин остров. Для живущего там немца оно – Отечество. Значит ли это, что ради блага своего Елагина острова наш немец имеет право залить кровью весь остальной мир?
– Нет, конечно…
– Вот и я говорю – нет, поскольку нужно подняться над самим понятием Отечества и задуматься о вселенском благе. А поскольку цари, короли и турецкие султаны на это неспособны, то должны быть иные способы добиваться победы вселенского блага.
Надо же, подумала Александра, кого только ни встретишь среди моряков. «Естественный человек», начитавшийся Руссо и Гельвеция, был, теперь вот – всемирный благодетель, и до того озабочен своими идеями, что и в декольте не заглянет! А ведь покойный Василий Фомич рассказывал о людях, алкающих царства всеобщего благоденствия. Он, как многие образованные господа, и в масонскую ложу вступил, и обряды исполнял, но его азарта хватило ненадолго. Кое о чем он супруге даже с весельем рассказывал – когда удавалось ее насмешить, то и супружеский долг она исполняла, не морщась.
Она подала знак лакею Степану, и тот с подносом оказался рядом.
– Лимонад, оранжад, – предложила Александра. – Позже будет мороженое.
Майков был умен – понял, что дама избегает опасных тем. И заговорил о театре.
Александра прокляла тот миг, когда вступила с ним в беседу, – он преважно толковал о Княжнине с Сумароковым, а меж тем Нерецкий запел, и пел для нее, пел тот самый романс, что в домашнем концерте у Гавриловых!
Потом запела Мавруша. За ней – госпожа Гаврилова. Майков говорил об античной трагедии, мало беспокоясь, слушает ли его Александра. Занятный морской офицер, подумала она, вот Михайлову и в голову бы не пришло читать Еврипида… с него хватит и Руссо, которого он считает проповедником бесштанного хождения… А Гаврилова вычитала у француза про естественную потребность матери самой кормить грудью дитя, а не отдавать его чужой бабе…
Наконец музыка всех утомила. Александра велела лакеям обнести гостей мороженым и холодным лимонадом. Прием близился к концу. Гости стали расходиться – те, кто жил неподалеку, предпочитали возвращаться пешком, иные распоряжались насчет экипажей.
В гостиной остались четверо – Майков, Нерецкий, Мавруша и Александра.
Тут стало ясно, что Майков – хороший товарищ. Он увлек Маврушу к клавикордам, словно бы не замечая, что Нерецкий и Александра договариваются взглядами. Затем Александра удалилась в кабинет, не оборачиваясь, а Нерецкий последовал за ней. Майков позаботился и о том, чтобы Мавруша этого не заметила. Он коснулся пальцами костяных клавиш – и мелодия, чересчур легкомысленная для человека, ищущего вселенского блага, проводила влюбленных.
Войдя в темный, насколько это возможно в белую ночь, кабинет, Александра повернулась – и тут же оказалась в объятиях.
Не нужно было ни поцелуев, ни слов – только чувствовать себя спаянной навеки с этим человеком. Вот только вечность оказалась не долее двух минут.
– Отчего мы раньше не встретились? – прошептал Нерецкий.
– Но ведь встретились?
– Поздно.
– Как – поздно?
– Мы созданы друг для друга, я сразу это понял, когда вас увидел… и мы не можем быть вместе, нельзя…
– Почему?
– Нельзя… – при этом Нерецкий прижимал Александру к груди все сильнее.
– Вы не свободны? – спросила она.
– Я свободен, но… при этом – связан по рукам и ногам… Я не могу предложить вам себя, это было бы слишком жестоко…
Тут она вспомнила, как проницательные дамы определили Нерецкого одним словом: «не жених».
– Вы о болезни? Но есть доктора, есть Италия…
– Все сложнее, ей-богу, сложнее… Вы – единственная, кого я могу любить, и все, что было раньше, кажется мне химерой, сонным бредом… Клянусь, это правда! Мне никто не нужен, кроме вас, но быть вместе мы не можем.
– Да что за преграда такая? – возмутилась Александра. – Если в силах человеческих ее одолеть – одолеем вместе!
– Не преграда – ловушка… и не будем об этом… Я не знал, что могу так полюбить, вдруг и всей душой… Это плохо – что я не нашел в себе сил сразу отказаться от вас… Я думал – еще одна встреча, знаете, как больному – еще один глоток воздуха… И не сдержался…
– Я понимаю. И со мной то же самое. Я не знала, что могу отдать всю душу так, с первого взгляда… нет, с первых звуков голоса… Увидела я вас уже потом… я – ваша, ваша…
– Да… но нельзя… Я не могу вам ничего объяснить, но поверьте мне! – воскликнул он. – Мое положение ужасно, и если бы не наша встреча – я бы смирился… Да что я говорю! Смириться придется теперь мне! Есть вещи недопустимые…
– Вы говорите загадками!
– Я не должен был сюда приходить!
– Молчите, молчите…
Александра притянула к себе его голову, нашла губами его губы. Поцелуй был долгим и радостным. Таким долгим, каких раньше не бывало. И руки словно вырвались на свободу, пальцы проникали в щелочки, чтобы ласкать кожу.
Они пребывали в этом поцелуе, как в эфирном дворце, и все не могли покинуть его, хотя течение времени ощущали и даже удивлялись – как возможен столь длительный восторг?
Руки совсем осмелели. Они готовили оба тела к иному наслаждению словно сами по себе, независимо от рассудка. Но Нерецкий опомнился и прервал поцелуй.
– Теперь понимаешь? – спросил он хрипло. – Только ты… и проклятая ловушка!.. и выбежал из кабинета.
Александра не стала его удерживать, опустилась в кресла и тихо засмеялась. Она была счастлива. Преграды – на то и преграды, чтобы их опрокидывать. Тут было за что побороться – и она радостно предвкушала борьбу и победу, и приз.
Забавная мыслишка заскочила в голову – если бы Михайлов не дался сразу в руки, все сложилось бы, возможно, иначе. Но Михайлов остался в прошлом, а Нерецкий уже звал в будущее.
Тут в кабинет вбежала Мавруша с воплем:
– Ай, тетенька, сударыня, Сашетта! – опустившись на колени, она обхватила Александру и спрятала лицо в складках ее юбки.
– Что с тобой? Что случилось? Тебя обидели? – забеспокоилась Александра. Мало ли что брякнул смольнянке причудливый Майков.
– Ай, нет, нет! Я счастлива, я так счастлива!
– Что стряслось-то?
– Ничего не стряслось! А просто счастлива!
Так Александра и не добилась от нее толку.
Выпроводив Маврушу, она подошла к окну. Белая ночь царствовала в столице. Откуда-то прилетал и исчезал любимый аромат сирени. Отныне сирень для Александры стала образом любви и восторга. Вдруг вспомнился латинский девиз иезуитов, о которых говорили недавно у Вейкартов: будет или не будет в столице иезуитский пансион, а коли будет – хорошо ли отдавать туда мальчиков?
– In hoc signo vinces, – произнесла Александра, представив себе знамя, сотканное из гроздьев сирени. – Во имя сего знамени победишь. Он будет моим!
Глава четвертая
Ерохина планида
Ероха брел по Кронштадту и искал воду. Воды требовалось немало, чтобы окунуться с головой, но не единожды, а столько, сколько нужно, чтобы прогнать хмель.
Но он потерялся. Когда Михайлов на рассвете в Купеческой гавани выпроводил его из яла, Ероха сперва прилег вздремнуть на какую-то лавку, а потом пошел не вдоль острова, а поперек, сильно удивляясь: где Итальянский пруд, где ведущий к доку канал, площадь перед Петровской пристанью, где Зимняя пристань?
Хотя на улицах, начертанных на кронштадском плане еще Петром Великим, было полно народа, Ероха не желал ни к кому обращаться. Он встал, покачиваясь и держась за голову, воссоздал умственно свой путь и понял – следовало от той скамьи не прямо идти, а взять вправо. Тогда бы и вода явилась в любом количестве.
Ероха повернул, и изрядно побродив, оказался на чьем-то огороде, долго спотыкался в грядках, затем вышел-таки к воде, но купаться в ней не отважился – это был грязный ров, окружавший с запада кронштадские бастионы. За рвом простиралась малообжитая часть Котлина. Ероха опять взялся за голову и несколько минут спустя понял свою ошибку.
– Долбать мой сизый череп… Я ж право и лево спутал…
Он повернул назад, и тут ангел-хранитель, видать, сжалился над ним – вскоре навстречу попалась знакомая физиономия.
– Майков! – заорал Ероха. – А я тебя ищу! Счастливая планида!
– Ты, сударь, кто? – строго спросил Майков, возглавлявший странное воинство, одетое кто во что горазд и с рожами самыми каторжными.
– Ерофеев я! Не признал?
– Знавал я мичмана Ерофеева, беднягу. Сказывали, совсем спился. Царствие ему небесное, – хладнокровно отвечал офицер.
– Да как же небесное? Вот ведь я!
– Ты не Ерофеев покойный. Ты – Ероха. Ступай, проспись, – и Майков повел людей к казармам.
Ероха подумал – и пристроился в хвост невеликой, в три десятка рыл, колонны. Он сообразил, что если этих голубчиков ведут куда-то с утра пораньше, то, видимо, будут кормить.
– Вас уже кормили? – спросил он крепкого сорокалетнего дядьку в грязном бархатном кафтане без единой пуговицы.
– Нет. А ты кто таков, чего пристал?
– А вы кто таковы?
– Гребцы мы, поди, таперича! Я так полагаю. Ее императорского величества коронные придворные гребцы! Желаешь с нами веслами ворочать? – полюбопытствовал дядька.
– Все лучше, чем в казематке вшей кормить, – добавил его товарищ.
– Да кто ж вы? – удивился Ероха.
– А мы люди штрафованные! Который за воровство, который – от людской злобы, иной – по роковой ошибке. Арестанты мы, голубчик. Видать, уж вовсе дело плохо, коли о нас вспомнили.
– Господи Иисусе, – только и смог сказать Ероха.
– Нас самолично господин адмирал Пущин встречал! – похвалился дядька. – Велел за государыню-матушку молиться, которая нас из острога вынула да в Кронштадт воевать загнала.
– Вице-адмирал, – поправил Ероха. – Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Петр Иванович Пущин…
И стало ему очень грустно. Казалось бы, совсем недавно сам Пущин хвалил мичмана Ерофеева, предсказывал ему отменную карьеру, и что же? Да ничего хорошего. Толклись возле дружки приблудные, пьянчуги записные, в споры втравляли – кто кого перепьет. И ладно бы еще с горя, от несчастной любви! А то – из несуразного молодечества!
И вот итог – бывший мичман Ерофеев будет несказанно рад, коли возьмут гребцом на галеру.
Гребных судов на Балтике недоставало. Государыня не предвидела затей короля Густава и вкладывала деньги в парусный флот, способный воевать главным образом против турок в Средиземном море. А для действий в Финском и Ботническом заливах способнее галеры или более шустрые и верткие канонерские шлюпки. Впрочем, шлюпками их называть можно было лишь по какой-то древней традиции – это были гребные суда длиной почти до десяти сажен, об одиннадцати и более парах весел, а также имеющие немалый экипаж – шесть десятков человек, вооруженных ружьями и всем, что требуется для абордажной схватки, – пиками, топорами, саблями, крючьями.
Шагая с арестантами, Ероха размечтался – кабы по милости Божией попасть на канонерскую шлюпку, хоть на дубель-шлюпку, иль на кайку! Вот где можно в бою показать себя! До своего злосчастья мичман был силен и ловок, и при абордаже первым выметнулся бы на вражью палубу. И не глядел бы на него более Майков, как на живого покойника. И прежние друзья приняли бы – а не один лишь безотказный чудак Новиков…
– Долбать мой сизый череп… – прошептал Ероха, и тут его осенило.
Черные кудри, которыми он втайне гордился, следовало изничтожить. Во-первых, потому что от арестантов недолго нахвататься вшей, а воевать с ними в походных условиях себе дороже. Во-вторых, следовало покарать себя за дурь: волосы-де ты, болван, отрастишь, когда опять человеком станешь. А до той поры щеголяй сизым черепом!
В казармах действительно накормили пшенной кашей, к которой прилагался чуть ли не полуфунтовый кус хлеба, а потом повели к пристаням.
Ероха, сбежав из Кронштадта в Санкт-Петербург, старался пореже бывать там, где хотя бы издали были видны паруса. И вдруг перед ним открылось целое море парусов – и прямых, и косых, и убранных, и распущенных. Он невольно улыбнулся – душа возвращалась к истинной своей радости.
Гавани были заполнены судами. Вся эскадра Грейга еще не ушла, лишь первый отряд под командованием фон Дезина, и стояла на рейде, а в голубом небе развевалось двадцать три вымпела; пришли галеры, транспорты и множество мелких судов. Ероха невольно залюбовался родной картиной.
– Ну что ж, кому – война, кому – мать родна, – сказал он сам себе.
– Стой! – крикнул Майков. Арестанты остановились.
К нему подошел офицер, туманно знакомый Ерохе, они обменялись длительным рукопожатием и заговорили очень тихо, причем говорил больше офицер, а Майков лишь кивал.
Рядом с офицером находился человек, что называется, «поперек себя шире». Едва достигая офицеру головой до подбородка, в плечах он был раза в полтора пошире и имел замечательную грудную клетку – чуть ли не с двухведерный бочонок. На этом геркулесе были холщовые штаны, измазанные смолой, разномастные башмаки и ничего более. На плече он держал старую кадушку с каким-то увесистым содержимым.
– К этому, что ли, под начало? – спросил дядька в бархатном камзоле, указывая взглядом на офицера. – Ты, паря, уходи скорее, а то впрямь за весла посадят. Покормили тебя – и ладно.
– Нет. Я с вами останусь.
– Ты бы лучше шел прочь, – тихо, но грозно попросил дядька. – Мы тут люди простые, мазурики, а ты для чего к нам пристал? От кого прячешься?
– А не довандальщик ли? – предположил одноглазый верзила. – То-то морец у него долгий. Бей довандальщика, лащи…
Приказ был отдан вполголоса, а исполнен мгновенно. Ероху тут же зажали, спрятали от постороннего взора и стали потчевать короткими, быстрыми и очень болезненными тычками. Отбиваться оказалось невозможно. Он вскрикнул было, но широкая ладонь зажала рот.
– Эй, эй! Вы что там буяните? – прикрикнул офицер. – А ну, расступись!.. Тараканыч!
Коренастый мужичок тут же поставил наземь свою кадушку, сжал кулачищи и сделал два шага. Их оказалось довольно. Воры и мазурики неохотно отодвинулись от Ерохи, и он выпал из строя прямо под ноги офицеру.
– Вставай, дурак, – велел офицер.
Ероха с трудом поднялся. Проклятые мазурики знали, куда бить.
– Ты пьян?
– Да, – подтвердил Майков. – Я и не заметил, как он за нами увязался.
– Пьян с утра?
– А трезвым он не бывает. Ступай прочь, не позорь флот.
– Ты знаешь его?
– При жизни знавал, – ответил Майков. – В таком свинском состоянии он для флота все равно что помер. Гони его в шею, Тараканыч.
– А звать как?
– Ерофеевым покойничка звали, пока не спился с кругу, – сказал упрямый Майков. – Выпущен из корпуса в чине мичмана, ходил на «Премиславе»…
– Учился в корпусе – значит, благородного сословия?
– Да черта ли в том сословии! Ты на его харю погляди, Змаевич! Пропил он свое сословие отныне и до веку!
– Погоди, Майков. Может, он еще не так плох и нам пригодится. Ерофеев, хочешь служить?
– Да, хочу, – сказал Ероха.
– Тараканыч, возьми-ка его под начало! – распорядился офицер.
Тараканыч исполнил приказание сразу – взял кадушку со смолой и молча взгромоздил Ерохе на плечо.
– Наплачешься ты с ним, паря, – пообещал дядька в «бархате».
Ероха и сам это понимал. Он пытался тщетно вспомнить, где видел Змаевича. Однако лицо было знакомо – сухое, смуглое, обветренное, горбоносое.
Змаевич и Майков снова обменялись крепким рукопожатием. И Ероха, внимательно глядевший на Змаевича, заметил странную особенность рукопожатия – средний палец не располагался рядом с указательным, а ложился поверх него, образуя косой крест.
Пальцы у людей, имеющих дело с холодным оружием, иногда ведут себя причудливо. Ерохе доводилось видеть руки, у которых отдельные пальцы сами не сгибались, потому что сухожилие было перерублено, и приходилось бедолагам помогать соседними пальцами.
Но ему не было дела до чужих увечий – хватало своей боли в спине и боках.
– Нерецкому кланяйся, – сказал Змаевич.
– Непременно. Черт меня догадал связаться с Петровым. Вот попросил он принять арестантов – который час с ними гуляю. А он все никак не подойдет на своем дырявом корыте.
– Ступай, ступай, – прикрикнул на Ероху Тараканыч. – Вон туда, к причалам. Окликни шлюпку с «Дерись», спусти туда кадушку и сам полезай, жди меня. Не зевай!
Ну что же, подумал Ероха, служба начинается заново. И начинается не так уж плохо – покормили, на корабль определили. Теперь главное – чтобы никто даже кружки с пивом не поднес.
Поскольку приказа выступать из столицы еще не привезли, Тараканыч решил – самое время воспользоваться солнечной погодой и тировать стоячий такелаж на «Дерись», как раз можно успеть до похода. В общей суете он разжился таким количеством тира, чтобы хватило надолго, лишний припрятал, а необходимый выдал матросам, в том числе и Ерохе.
Прозвище свое боцман получил за вездесущность, а звался Кузьмой Скляевым. Казалось бы, укрылся от него в самом неприметном закоулке, чтобы хоть четверть часика отдохнуть, а Кузьма, точно таракан из щели, возникает и сулит линьков. А уж когда висишь на вантах с ведерком горячей смолы, непременно он внизу околачивается, проверяя, все ли на палубе укрыто, от греха подальше, старой парусиной. Мало того – с тараканьей ловкостью и быстротой лезет наверх убедиться, что смоляной слой положен равномерно, без пропусков и сосулек.
Орудуя наверху, Ероха смотрел, что делается на соседних судах. Он ощущал свою новорожденную сопричастность к флоту, и уже родилась в душе естественная морская ревность: все ли у нас лучше, чем у них? Зрение у него было отменное, и он разглядел, что на «Мстиславце» с понурым видом стоит у фальшборта Михайлов. Потом капитана, видать, окликнули, он повернулся и поспешил на зов, а еще четверть часа спустя Ероха увидел, как тот спускается в шлюпку с «Иоанна Богослова», где стоял Майков.
«Обедать собрались», – подумал Ероха и оказался прав.
Горе горем, а здорового моряцкого аппетита никто не отменял. Пока была возможность лакомиться на берегу в трактире, а не терпеть осточертевшие произведения судового кока, грех было не воспользоваться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































