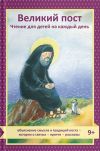Текст книги "Великий пост. Дневник неофита"

Автор книги: Дарья Верясова
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
День девятый

Я съела трех печеных жаворонков. Сначала было жалко.
– Ешь постепенно, – посоветовала трапезница Лена. – Сначала оторви хвост. Потом сверни ему шею и откуси голову. А когда он будет совсем мертвый, спокойно ешь.
Лена при первой же беседе сумела покосить мою систему ценностей сообщением о том, что Сигарев – ее любимый драматург, а «Страна Оз» – великое кино. Да, иногда самые добрые девушки мира живут в монастырях. Несмотря на жалобный нарисованный взгляд, первый жаворонок оказался таким вкусным, что в глаза остальным двум я уже не смотрела.
Дело было после завтрака, в качестве послушания я помогала Лене разобраться с посудой. Зачастую трапезницей быть выгодно: к то-нибудь всегда оставит на столе лишний фрукт или вкусняшку. Это – трофей. Сегодня был виноград, который, как выяснилось, мало кто любит, в том числе и Лена, потому все ушло в мою пользу – едва не килограмм.
В разгар мытья посуды пришел голодный Шурик.
– Что, сенокос кончился? – спросила Новелла, протягивая ему тарелку с макаронами.
– Ты видишь на мне сено? – неожиданно ответил Шурик, начисто игнорируя факт зимы, и все опешили.
Он взял протянутую тарелку, зачерпнул из тазика вишню от компота и бросил ее на макароны. Темно-красные катышки художественно легли на неровную белую горку, и мы в полной мере осознали, что Шурик – эстет.
А потом Лене позвонили родители и сообщили про болезнь любимого кота. Не успела я подумать «ой», как Лена собралась и упорхнула в Москву с попутной машиной, оставив мне трапезную смену.
– Что происходит? – спросила я, когда, взволнованные Лениным отъездом, сестры собрались на кухне, чтобы обсудить дальнейшую жизнь.
– Видимо, пора выздоравливать, – сочувственно ответила мать Елена.
День десятый

Под утро снилось нечто прекрасное, но Церковью, особенно в пост, не поощряемое, и потому проснулась я в настроении дивном, но виноватом. Потянулась и вдруг поняла, насколько примитивно – до клеточки! – здорова. Как румяные толстоногие физкультурницы с маршей тридцатых годов. Ощущение силы собственного тела было после болезни неожиданно приятным, но от этого душа затаилась и к Богу была равнодушна. Грачи кричали на солнце. Коты кричали на март. Снег таял, в животе бурчало. Хотелось свершений.
– Давайте сегодня проведем занятие, – предложила матушка после завтрака, – а то в пятницу я уеду.
По пятницам в библиотеке проводятся богословские занятия. Кто-то делает доклад по теме, потом матушка дополняет, а чаще – попросту рассказывает не раскрытую докладчиком тему, потом все расходятся по послушаниям. На занятиях я была дважды: вопросов никто не задает. В первый раз я конспектировала, поскольку услышала волшебное «Борис Зайцев» – его духовником был обсуждаемый в тот день отец Киприан (Керн), и, собственно, это единственное, что я запомнила о столь выдающемся человеке. Сегодня же в огромные окна библиотеки било солнце, настрой царил поэтический: не хотелось лишних знаний, и я втихушку занялась стихами.
А библиотека в монастыре роскошная: опоясанная вторым этажом, стилизованная под Средневековье, с диванами и застекленными книжными шкафами, с пением цветных попугайчиков, живущих под потолком. С огромным и регулярно пополняющимся книжным фондом, а до пожара, говорят, было еще больше книг, чем сейчас. С массивным овальным столом и не исчезающей с него гигантской Библией. В такой библиотеке хочется прожить жизнь.
Вообще в бытовом плане здесь все так удобно и выверено, как ни разу в жизни у меня не было. Есть стиральные машины, душевые кабины, даже кулер внизу стоит. Есть зимний сад, где вовсю греется рассада и уже подрос зеленый лук, который мы едим за обедом. Есть куры, корова и козы, для них на кухне стоят разные отходные ведра. Есть свой огород и картофельное поле – но знакомство с ними мне только лишь предстоит. Есть беседка, теплицы, ровные газоны и клумбы. Удивительнее всего то, что монастырь живет без постоянного финансирования, за счет пожертвований и спонсорской помощи. Словом, почти у Христа за пазухой, как говорит матушка, чьей непосредственной заслугой являются уют и довольство нашего замкнутого мирка. А матушка у нас чудесная и всеми любимая – о т нее веет добром и заботой. Когда она хвалит или просто говорит что-то доброе, внутри поднимается щекочущая волна тепла.
Однажды на вечернем пятничном богослужении мы с трапезницей Леной сидели на монашеских лавках перед алтарем, когда от дверей храма послышался шум и возмущенный голос.
– О! – улыбнулась Лена. – Матушка ругается!
И столько нежности было в ее голосе, что любой чурбан мог догадаться, насколько это нестрашно и трогательно: матушка ругается!
Сегодняшний доклад про отца Сергия (Четверикова) (схимонах Сергий (Четвериков). – Примеч. ред.) и его влияние на монашество делала насельница Наташа – та, что собралась воцерковлять столицу при помощи кота Сервелата. Несмотря на врожденную восторженность, чужую жизнь она излагала толково. Но я занималась своим делом и выхватывала из атмосферы отдельные слова: «Чернигов», «революция», «Париж», «тайный постриг», «написал книгу», «умер в 1947 году».
Матушкины уточнения были не в пример информативнее, впрочем, из них я тоже мало что почерпнула.
– Но за гробом не будет ни времени, ни пространства, ни возраста. Точнее, возраст у всех будет один. Я где-то читала… – О на отложила листок.
Я тряхнула головой и обратилась в слух, добирая мозгом то, что было сказано прежде.
– …что всем будет 33 года – Христов возраст.
Я подняла глаза: на лицах пожилых монахинь появилась тень мечты, молодые же оставались серьезными.
«То-то двадцатилетним обидно будет!» – с ехидством подумала я.
А впрочем, какая разница, если там – ни времени, ни пространства? Ни объема, ни веса, ни состояния кожи, ни половой принадлежности.
Не может не радовать.
День одиннадцатый

В карантине появилась новая котейка-малышка – легкая, трехцветная и ласковая. По словам Николаи, она едва не замерзла на крыльце основного корпуса, а как туда попала – неясно. Поначалу ее определили в просторную клетку со всеми удобствами и оставили на этаже. Ночью киса пищала так душераздирающе, что я испугалась маньяка, наверняка зависшего над ней с топором, и на всякий случай закрыла дверь на защелку. Тем паче свет на этаже не горел, кроме меня и кошек, здесь никто не живет, а мало ли, что таится в темных углах получердачного помещения?
Утром кису перевели в туалет, там просторно и есть окно, в которое насмерть бьются оживающие мухи, – пока что киса учится запрыгивать на высокий подоконник, но я предвкушаю в ней великую охотницу. Теперь ее писк заглушен дверьми, и, будем надеяться, ночные страхи обойдут меня стороной.
Трапезница Лена отбыла в Москву, и до ее приезда мы с Таней дежурим через день. Таня странная и похожа на букву Ф – так круглит руки, даже когда вытягивает их по швам. Она носит кличку Вискач. Не-а, не потому. Просто у нее любимый глагол «завискачить» – произвести с чем-нибудь некие манипуляции. Аналог «забабахать» и «свершить». Ума не приложу, как можно такое выдумать.
Третью кухарку – Новеллу – временно сняли с дежурств, разбив наш чудный тандем и определив меня в трапезницы к Павле.
– Я буду по тебе скучать! – воскликнула я, смахивая воображаемую слезу.
– Мы еще встретимся! – заверила Новелла.
«Через двадцать лет!» – подумала я цитатой, но вслух произносить не стала: если ей не нравятся «Гардемарины», то вряд ли она будет в восторге от «Мушкетеров».
– А вот и я, мой енот-полоскун, – сообщила она, вплывая на кухню после завтрака, когда я мыла посуду.
В ответ я попыталась спеть песенку про улыбку, но быстро поняла, что с таким голосом только побираться на Казанском вокзале прошлого столетия.
– Как же это? Кто знает жизнь… кто знает жизнь…
– Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей? – предположила я.
– Ты ж мой интеллигентный енот! – умилилась Новелла. – Не настолько возвышенно.
Она задумалась, а после выдала:
– Кто понял жизнь, тот курит «Приму»! Голос у тебя сейчас… всепонимающий.
Да, и именно сейчас мать Елена выдала мне распечатку с молитвами, которые поются во время крестного хода. «Смешно!» – подумала я. Мы с бело-рыжим котом Моней пока что молча ходим: я не вытягиваю, а он – из мужской солидности.
– Ничего, – говорю я Моне в громадную морду и треплю его загривок, – потеплеет – запоем!
– Мя! – кивает Моня.
День двенадцатый

Тяжело просыпаться на утреннюю шестичасовую службу – глаза не открываются, хоть тресни. И так сумеречно в комнате – не день, не ночь. И так назойлив писк будильника, а скоро мать Николая начнет бить в колокол. И так свободно и придавленно, так тепло, но не жарко телу под одеялом, и так удобно лежит поверх него согнутая рука, а другая – за головой, и так вся ты не спишь – утопаешь в покое, замирая на секунду, потом на пять минут, потом на полчаса, а потом и вплоть до завтрака, как бы ни разрывал сонную тишину звон колокола. Потом вроде и стыдно, а так славно выспалась…
Засыпаю я довольно поздно: пишу отчет за день, занимаюсь стихами, еще почитать охота. Плюс умывание, стирка по мелочи, глажка дежурного котейки и молитва на сон грядущим. Не менее трех часов. А если в этот день тружусь трапезницей, то попадаю в кровать не раньше часа ночи.
Кстати, про глажку. Сегодня я опять ею занималась – гладила подрясники и апостольники – такие специальные монашеские штуки на голову с прорезью для лица и завязками на затылке. Если апостольником из легкой материи помахать в воздухе, то он похож на Карлсона, который пугает жуликов на чердаке.
Пока я гладила, болезненного вида мать Мария разбирала пожертвованные вещи – рухольная (местный секонд-хенд для трудниц и насельниц) находится на моем третьем чердачном этаже рядом с душем-туалетом. Тут же гладильная доска с утюгом и алюминиевые сушилки для мокрого белья. В вещах обнаружились бесценные запасы бабушкиных сундуков: льняные вышитые полотенца, наволочка, вручную расшитая белыми розами, – тонкая предсвадебная работа, какие-то вязаные скатерки и кружевные поделки. Я бросила утюг и присоединилась к Марии. Мы ахали-охали и думали, как полезнее использовать это богатство в храме и в монастырском хозяйстве.
– Не жалко же людям!
– Бабка, наверное, умерла, вот ее приданое нам и отдали. Мне однажды настоящее льняное свадебное полотенце попалось – с вышитыми именами жениха и невесты. Красивое!
– А что там? – Я кивнула на вторую сумку.
– Там мужские вещи.
Я задумалась.
– А зачем в женском монастыре мужские вещи?
– Мы их раньше в райцентр отвозили в пункт сбора, там их раздавали бедным. Сейчас не возим, вроде бы закрылся пункт. Эти вещи можно и местным раздавать, мужикам, нашим рабочим. Пригодятся. Слушай, ты подрясники гладишь? Вроде бы мои там должны быть.
– Да, – ответила я. – На днях гладила, один был помечен «Мар». А еще один – «Люда». А кто такая Люда?
Мария улыбается и отвечает:
– Люда – это я была. Это мой послушнический подрясник. Еще до пострига.
Мне странно думать, как можно отказаться от своего имени, лично я своим дорожу.
– Нет, ты не понимаешь, – говорит Мария. – Тебе-то имя родители дают, а монаху – Бог. Не одно и то же.
– А хоронят монахинь возле храма всех-всех?
Справа от входа в храм на небольшой поляне стоят одинаковые мраморные кресты. Они серые и округлые, с выбитыми именами. Их не более десяти, к ним не натоптаны дорожки, только коты носятся друг за другом по снежному насту. Сверху растет два-три хлипких дерева и одна мощная… туя? Да, наверное, туя… От этого пространства веет радостной вечностью.
– Кто жил в обители и принял постриг, да.
«Ну, ради такого покоя и постриг можно принять, – подумала я про себя. – Интересно, колокол оттуда слышно?»
Родительская суббота. День тринадцатый

В прихожей храма стоят вешалки, там оставляют верхнюю одежду, чтобы не мешала во время службы. Многие, впрочем, так и стоят в шубах-пуховиках – у нас прохладно. Чтобы не мерзнуть, монахини накидывают на черное облачение серые шали, с которых опадает шерсть на ковры, вольные слушатели утепляются кофтами-жилетками. С тех пор как уехала Лена, я сижу на нашей лавке в просторном одиночестве, и подсвечник не мешает земным поклонам. Правда, теперь в толпе не затеряешься: всегда видно, есть ты в храме или нет. Зато спиной можно прислониться к теплой батарее и не жалеть о пальто, что оставила на входе.
Прихожане появляются позже и уходят тоже позже, достать из-под их одежды свою – задача трудная. Сегодня меня завесили детскими разноцветными курточками. Снимая, оторвала у одной петлю, огорчилась, думала, как исправить дело, обняла эту маленькую красную курточку и понюхала воротник. Равнодушно пахло стиральным порошком. Я повесила ее за капюшон.
– Ты где ходишь? – воскликнула Новелла при моем появлении.
– На службе была. Вот пришла.
– Ты в семь должна была прийти, а сейчас почти девять. Ты должна была уже все сделать и идти в храм.
– Так завтрак в одиннадцать.
– Ты чо, службы попутала? – спросила Новелла так угрожающе, что я захохотала в голос.
Оказалось, да, попутала. А потом еще не заварила чай, пять раз бегала в холодильную камеру за чем-то забытым, не положила на монашеский стол ложки…
Про ложки мне Новелла сказала, сама бы я не узнала.
– А как же они ели? – удивилась я.
– Взрослые девочки. Сориентировались.
– Не расстраивайся, – сказала Павла. – Сегодня родительская суббота, еще и не такое бывает.
Я и не расстраивалась. После обеда и мытья посуды пошла к реке. Вдоль забора худо-бедно лежал снег, но та половина дороги, куда тень от забора не достала, почернела и расхлябилась. А в поле снег голубел во впадинах и рычал под моими шагами. Сбоку рассеянно стоял лес.
«А вдруг – вой на?» – подумалось мне.
Издалека налетел гул бомбежки, наши отступили, а я осталась прикрывать. Достала из-за спины винтовку, посетовала на то, что мало патронов, решила, что пусть у меня будет пулемет, он надежнее. Перебежками продвигалась вдоль леса, ползла по-пластунски, подбегавших фрицев косила из пулемета и забрасывала снежками-гранатами.
Когда кончились патроны, немцы подошли совсем близко и хотели взять меня живьем.
Снежной горстью запорошила лицо подбежавшего врага и прыгнула в кусты. Сердце колотилось, нерусская речь звучала то впереди, то сзади, и страх в груди распрямлялся пружиной, требуя вскочить и мчаться, не чуя дороги. Проваливаясь в наст, отшвыривая ветки кустов от головы, подныривая под ними, я отступила за дерево, потом за другое. Но надо было выходить к нашим, надо было форсировать речку, и пришлось выйти из лесу, и меня убили, и я долго лежала в снегу, глядя в небо застывшим взглядом.
Потом встала и огляделась. Высился на пригорке монастырь, пустое поле лежало тихо и бесполезно.
Возле берегов тающей реки лежали льдины с глубокими стариковскими трещинами. Льдины были готовы отломить тяжелые тела от приставучего берега и двинуться в путь. Я нашла прочную палку и стала им помогать. Первая льдина ждала этого момента и оторвалась легко, оттащив и обрушив кусок снега с кромки крутого берега. Похожий кусок одновременно свалился в воду с другого берега, и оттуда с шумом кверху рванулись утки. Льдина меж тем вырулила на середку реки, почти целиком заполнив растаявшее пространство, немного проплыла и тонкой кромкой вонзилась в еще замерзшую поверхность.
«Не дело!» – решила я и стала отрывать тяжелые куски льда и бросать их, чтобы пробить моей льдине дорогу. Попутно я толкала другие льдины, они пихались и ломались меж собой. Это было важно: я помогала весне наступить. Одна льдина не желала плыть или ломаться, я изрезала ею руку и начала бить ногой. Льдина разломалась, дерево, за которое я держалась, оказалось гнилым. С не самым православным возгласом я полетела в воду. Затормозила на полпути спиною об грязный берег, зато ног почти не промочила.
«Я ежик, я упал в реку!» – громко подумала я среди тишины. Вода зазвенела в ответ, и по-птичьи запело дерево.
Да, тишина здесь такая, что слышны самые далекие звуки – о ни разлетаются по огромному небу, как звезды и птицы, они бьются о купол храма, оседают на крышах домов и ветках деревьев. А сами дома плывут над оврагом, как будто взаправду – в небе.
И, как в детстве, пахнет долгой счастливой жизнью, в которой не будет ни горя, ни обид, ни взрослой тоски по тому времени, когда можно было палкой пробивать дорогу весне.
На обратном пути я была разведчицей и шла в деревню по рыхлому снегу вдоль опушки, чтобы в одном из деревенских домов собрать сведения о количестве военных сил противника. В черном пальто на белом снегу мне было страшно: с колокольни просматривается все поле, и в сорок втором немцы подчистую выкосили советский десант, вышедший из леса в маскхалатах.
Уже возле монастыря встретила насельницу Наташу.
– Гуляла? – спросила она.
– В разведку ходила, – застеснялась я.
– Места тут красивые, – понимающе кивнула Наташа.
– Ну да…
Марина. День четырнадцатый

Солнечным утром в храмовые окна второго яруса бьет оглушительный свет. Он дробится решеткой и висит в воздухе отдельными струнами: от окон до пола. Струны протянуты между свечами и завитками паникадила («Вот я тебе дам – люстра!» – грозит мать Анфиса) и золотом гудят в глаза. Крутясь, вверх поднимается дым свечей, что особыми каскадами стоят на одноногих подсвечниках. Подсвечники хорошо намаслены, к ним не липнет свечной воск, даже солнце увязает в масле и становится тусклым. Зато сияют цветы. Роза у отсеченной головы Иоанна Крестителя наливается волшебной алой краской, а темный лист на стебле становится салатовым. А еще птицы! Когда мимо окон пролетают грачи, тени их врываются в храм и медлят перед тем, как пропасть, – сами грачи улетают быстрее, выволакивая тени за крыло.
– Всякое дыхание да славит Господа! – заявляет священник.
А после хор подтверждает:
– Всякое дыхание да славит Господа!
Царские врата распахнуты, и видно, как наискосок всему пространству алтаря летит такой же неуемный свет. И слышится тихий звон кадила, похожий на вчерашний плеск обледенелой реки.
Сегодня причастие. Я не готова к исповеди, а потому не причащаюсь. Но отхожу подальше – в о второй придел, – чтобы посмотреть, как будет причащаться Марина. Во втором приделе темно, я вдруг понимаю, что он значительно ниже и верхних окон не имеет.
Но какое дело до окон Марине? У нее два года с копейками и солнце – везде. У нее бирюзовая великоватая косынка, оттеняющая голубые глаза и светло-прозрачные волосы. У нее розовое платье и кокетливая улыбка исподлобья, от которой щекотно внутри. Это та самая девочка, что приводит меня в умиление до слез. Ее причастие заслоняют крупные спины, но после она с родителями выходит в темный придел, где алтарница Наталия раздает кусочки просфор (кажется, они называются антидорами) и теплое разбавленное вино. Родители дают дочке то и другое, Марина старательно жует, а после замирает серьезно, как большая. Вдруг я вижу, что она некрасива. У нее маленькие глаза и крупный нос. Девочка ловит мой взгляд и улыбается. Сердце екает, я застываю с идиотским лицом. Я думаю, что Марина – ангел.

Через час возвращаюсь в храм на уборку. Прихожане еще не разошлись, они по традиции поют утвержденные и самопальные молитвы возле чудотворной иконы. Марина болтается на плече у отца лицом назад.
– Какая я слабая, какая я грешная! – поют мужчины и женщины сильными голосами.
– Нечистый лукавый терзает меня! – нараспев кричит Марина и перетягивает узел платка с шеи под нос, будто изображая усы. Мужики, стоящие сзади, смеются, а Марина наклоняет голову, улыбается и тянет к ним ручонку. Внезапно через минуту она спит.
Просыпается Марина на другой песне. Слова ей неизвестны, выговаривать их она не умеет, но очень старается.
– Слава Богу за все, – поют прихожане, – слава Богу за скорбь и за радость.
– Зяопь и зяяоть! – вторит девочка.
Так же она коверкает «Честнейшую Херувим» и «многую лету». Отец спустил ее на землю, и она бегает по всему храму, уклоняясь от взрослых рук. Зато во время пения «Богородице Дево, радуйся» Марина замирает напротив меня и, строго глядя в глаза, произносит в тон поющим:
– Родила еси душ наших.
И убегает. Я остаюсь сидеть на монашеской скамейке, а рядом стоит переноска с младенцем, который открывает глаза, водит ими с боку на бок и снова закрывает.
«Смешная Марина!» – думаю я.
Родители младенца просят архимандрита освятить купленную машину, народ выходит на улицу, я наконец-то берусь за пылесос.
А на улице теплынь и свежесть. И солнце, что ушло из храма, оставив померкшую розу без волшебства, развалилось поверх земли. И накатывает такая радость, что даже архимандриту хочется шалить – по возвращении с улицы он неожиданно кропит меня святой водой, оставшейся от машины. Я вздрагиваю и смеюсь.
А во время вечернего крестного хода мы идем свиньей в сторону заката, и во главе – кот Моня. Я иду с краю и улыбаюсь тому, что мать Николая и мать Юлия пытаются сделать селфи на ходу. Они фыркают и ойкают. Моня мяучит. Издалека лает на нас собака. Всякое дыхание хвалит Господа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?