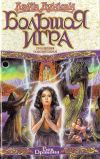Текст книги "«Нагим пришел я...»"
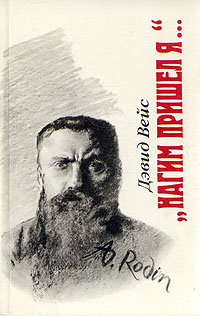
Автор книги: Дэвид Вейс
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава XV
1Огюст сразу же приступил к работе у Каррье-Беллеза, но денег, чтобы послать домой, не было. Мэтр хитрил и нарочно платил ровно столько, что самому едва хватало. Огюст сделал несколько новых произведений, но Брюссель был столь же равнодушен к его таланту, как и Париж. Заработанных денег еле хватало на прокорм и дешевую комнату. Он жил на улице Понт-Неф, в самом центре Брюсселя, поблизости от мастерской Каррье-Беллеза. Брюссель ему не нравился – убогая уменьшенная копия Парижа. От этого он еще сильней скучал по родному городу, хотя там сейчас было совсем не сладко.
В марте 1871 года во Франции вспыхнула гражданская война, и коммунары – в их рядах объединилось много ремесленников, рабочих, служащих, мастеровых, лавочников – захватили власть в Париже. Разгром Франции в войне с Германией и ужасный голод, который последовал за ним, послужили причиной восстания. Восставшими руководило желание повторить победоносные дни 1793 года. Кровавые уличные бои происходили между коммунарами и Версальской армией, представлявшей силы правых.
Слухи, доходившие до Брюсселя, с каждым днем становились все ужасней. Огюст знал, что в Париже свирепствует голод посильнее, чем во время немецкой осады; что все связи между Парижем и остальным миром прерваны. Он писал Розе отчаянные письма и приходил в ужас, не получая ответа, а новости из Парижа, преимущественно слухи, становились все мрачнее: говорили, что Париж разграблен и опустошен, что двадцать тысяч коммунаров погибли в бойне, которую учинили победители из Версальской армии, причем многих расстреляли на монмартрском холме, поблизости от того места, где жила семья Роденов. Монмартр превратился в большое кладбище.
А когда прошло еще несколько недель и писем все не было, Огюст уверился, что победители не пощадили и его семью. Он хотел немедленно вернуться В Париж, но туда никого не пускали, там все еще шли уличные бои. Огюст пытался забыться в работе, по это не помогало.
Каррье-Беллез, сочтя, что Роден приобрел достаточный опыт и умение, предоставил ему более широкие полномочия и разрешил работать по собственным наброскам и планам. Он обязан придерживаться манеры Каррье-Беллеза, а в остальном волен следовать собственному вкусу. Обнаженные фигуры приобрели некоторую жизненность, хотя и сохранили элегантность и тщательность отделки, свойственную Каррье-Беллезу. На законченных в глине моделях Каррье-Беллез ставил свою подпись и отправлял к литейщику мосье Пикану для отливки в бронзе. С подписью мэтра стоимость их возрастала вдвое.
Прошла еще неделя. Остальные подмастерья, большей частью бельгийцы, завидовали независимости Огюста, но сам Огюст терзался угрызениями совести. Ему приходится заниматься пустым, ненужным делом, думал он, а все, что сделано им ценного, обречено на гибель в огне гражданской войны. И хотя он несколько успокоился, получив вести от Розы – тетя Тереза сумела переправить письмо неисповедимыми путями, – но еще более укрепился в мысли, что все его работы погибли: Роза ни словом не упомянула о них.
«Все мы живы, – писала она, – и бои почти прекратились, но кругом голод, нет денег, все еще хоронят убитых, теперь за городом на кладбищах больше нет места, а от тебя до сих пор никакой весточки. Почему ты не пишешь, дорогой?»
В тот вечер Огюст не прикоснулся к ужину. Все ясно: его работы погибли. Он написал Розе взволнованное письмо, умоляя сообщить о судьбе своих любимых скульптур.
Ответ пришел через неделю. Роза писала через тетю Терезу:
«Какая радость, что ты нам написал. Бои окончились, только продолжаются расстрелы повстанцев, многих расстреляли прямо на нашей улице, но голод хуже всего. Не осталось ни кошек, ни собак, их съели еще в германскую осаду, и теперь мы едим всякие корешки. Имея деньги, можно иногда достать яиц и немного хлеба у спекулянтов, которые пробираются в Париж из деревни.
Все твои статуи в сохранности, я часто прибираю в мастерской. Как бы я хотела быть такой же толстой, как все эти фигуры, мы теперь до того дошли, что с удовольствием бы их съели, будь они только съедобны.
Прости, дорогой, за все эти жалобы, не хочется тебя огорчать, но тетя Тереза говорит, что ты должен знать правду. Мама совсем ослабла. Если у тебя есть хоть немного денег, дорогой, пришли, они нам очень помогут».
Измученный беспокойством, Огюст не мог спать. Он проработал в мастерской ночь напролет, даже не зажигая свечи – эти ню он мог лепить с закрытыми глазами. На рассвете, пока не пришли другие, он закончил женскую фигурку – Роза, как он ее помнил. Да, он сумел уловить лучшее, что было в манере Каррье-Беллеза: фигурка вышла нежной, изящной, полной границы. И, что самое главное, в ней есть что-то и от Родена. Это вам не бесполое, безликое существо.
И вдруг его осенила идея. Он взял молоток и резец и уверенной рукой – тут нельзя было допустить ошибки, хотя в душе испытывал страх, – вырезал на основании статуи: «Каррье-Беллез». В это мгновение он был благодарен хозяину за все обнаженные фигуры, которые он для него сделал. Если я и подделыватель, думал он, то таков же и сам Каррье-Беллез. И потом его имя никому не известно, а Каррье-Беллеза знают все.
Огюст спрятал статуэтку, а вечером поспешил к литейщику мосье Пикану.
Благодаря Каррье-Беллезу мастерская мосье Пикана процветала. Толстый близорукий пожилой литейщик, знаток своего дела, подозрительно уставился на Огюста. Что-то непохоже, чтобы хитрый и расчетливый Каррье-Беллез доверил получение денег другому. Но этот мрачный, коренастый Роден был его главным подмастерьем.
Пикап спросил:
– Это подлинник Каррье-Беллеза?
– А вы посмотрите сами, – сказал Огюст, испытывая некоторое беспокойство, не слишком ли он увлекся Розой?
Пикан пальцами знатока ощупал фигурку, снова внимательно поглядел на Огюста и спросил:
– Роден, а хозяин действительно доверил вам получить гонорар?
– Да, пробормотал Огюст, однако мысль о семье, голодающей в Париже, придала ему смелости: – Мосье Каррье-Беллез уехал по делам в Антверпен и поручил мне это дело.
– Хм, – сказал Пикан. – Прекрасная вещица.
– Вам нравится? – спросил Огюст, не в силах скрыть волнения.
– Да, конечно. А что? Огюст пожал плечами.
– Это одна из ваших копий, Роден?
– Что значит – моих копий? – вдруг рассердился Огюст.
– Но ведь вы подмастерье?
Подавленность и уныние вновь овладели Огюстом.
– Да. Можно получить гонорар?
Пикан заколебался, но Огюст не двигался с места, и литейщик медленно отсчитал пятьдесят франков. Огюст не уходил. Пикан сердито спросил:
– Что вам еще?
– За такую скульптуру мосье Беллез получает семьдесят пять.
– А вы совершенно уверены, что это его замысел?
– Конечно. Разве вы сами не видите? Пикан вновь ощупал статуэтку и сказал:
– Груди и бедра несколько шире, плотней, чем обычно. – И добавил с понимающей усмешкой: – Видно, наш мэтр нашел достойную вдохновительницу и увлекся. Но подпись его.
– Он будет очень рассержен, когда узнает, что ему заплатили всего пятьдесят франков.
Мастер отсчитал еще двадцать пять, на этот раз совсем медленно.
Огюст поблагодарил:
– Спасибо, мосье. – Никогда не получал он столько денег за один день работы.
Пикан потребовал, чтобы Роден оставил ему расписку.
2Отправив пятьдесят франков Розе, Огюст вернулся в мастерскую. Он пытался было продолжать работу и позабыть о своем проступке, как-то загладить свою вину перед Каррье-Беллезом, но мысли не давали ему покоя.
Через неделю от Розы пришло длинное письмо, в котором она благодарила за присланные деньги, – это спасло их от голода. Они достали у перекупщика яиц и кролика, приготовили сытное рагу, и Мама ела с аппетитом; все они готовы расцеловать его. Маме немного лучше, и если бы он сумел прислать еще немного, Мама, может быть, тогда выздоровеет.
Он раздумывал, как бы сбыть литейщику еще одну фигурку, когда его позвали к Каррье-Беллезу. Там был и мосье Пикан со статуэткой, которую Огюст подписал именем хозяина.
Каррье-Беллез, вне себя от бешенства, обвинил Огюста в подделке. Огюст молча ждал. Сейчас будет навсегда положен конец его карьере скульптора.
– Знаете, Роден, ведь я могу засадить вас в тюрьму.
– А как насчет платы? За эту неделю я сделал три фигуры.
– На что вам деньги в тюрьме? – Но я их заработал.
– Мосье Пикан засвидетельствует, что вы подделали мою подпись. Верно, мосье Пикан?
– Да. – Мастер кивнул головой.
– Вы больше у меня не работаете.
– Из-за того, что я подписал свою собственную работу?
– Мою работу. Сами вы не заработаете и пяти франков.
Огюст молчал.
– Вы это сделали потому, что завидуете моей славе, – заключил Каррье-Беллез.
– Я сделал это потому, что мне надоело заниматься ерундой. Ведь это моя работа, по-настоящему моя.
– Да вы анархист! – возопил Каррье-Беллез. – Вы покушаетесь на чужую собственность. Вам действительно место в тюрьме.
Он ждал, что Огюст будет просить прощения, но Огюст не мог мог выдавить из себя ни слова.
Каррье-Беллез заколебался. Решив, что судебный процесс может вызвать скандал и раскрыть секреты его производства, он сказал:
– Как бы там ни было, терпению моему конец. Прошу вас немедленно удалиться, иначе я вызову полицию.
3Вернувшись в свою комнату, Огюст прежде всего пересчитал деньги, осталось семнадцать франков. Роза прислала еще одно письмо с просьбой о деньгах. Маме снова стало хуже, а у него даже нет денег на билет. Следующие два дня он лихорадочно бегал по городу, раздумывая, как поступить. Сообщения о положении в Париже стали более успокоительными: бои прекратились, и в город начали ввозить продовольствие. Огюст сидел у себя в комнате и терзался мрачными мыслями. «Что со мной? – спрашивал он себя. – Я решил всю жизнь отдать искусству, но для меня там нет места. В чем я ошибся? В чем согрешил? Кого обидел?»
Он услышал, как отворилась дверь. Наверное, привратник, пришел требовать плату за комнату, но как может он расстаться с последними франками? На пороге стоял Жозеф Ван Расбург[41]41
Ван Расбург, Антуан-Жозеф (1831—1902) – бельгийский скульптор, ученик, а затем помощник Каррье-Беллеза. После возвращения последнего в Париж становится во главе крупных работ по декорированию Биржи в Брюсселе.
[Закрыть]. Расбург тоже работал подмастерьем у Каррье-Беллеза.
Приземистый, коренастый светловолосый голландец, уроженец Амстердама, Ван Расбург был чуть старше Огюста. Он прослышал, что Огюста прогнали, и счел это рукой судьбы.
– Вы, Роден, отличный работник, а у меня большие связи, – сказал Ван Расбург. – Я уже давно подумывал уйти от Каррье-Беллеза, но одному мне не сладить.
– Вам нужен помощник? – с горечью спросил Огюст. Он был готов на любые условия, на самые нищенские.
– Мне нужен партнер, друг мой.
– А почему именно я? У меня ни средств, ни друзей.
– Зато самые сильные, самые ловкие и умелые руки во всей мастерской. Заказы-то я добуду, но их надо выполнять. Мне нужно, чтобы кто-то справлялся в мастерской.
– А вы займетесь продажей?
– Мы оба, Роден. Я буду подписывать все работы, предназначенные для продажи в Бельгии, а вы – все, что для Франции.
– А сколько мне за это?
– Доход пополам. Мы ведь будем партнерами. Огюст был удивлен и заподозрил неладное.
– Но я же сказал, у меня нет денег, чтобы вложить в дело, я…
Жозеф Ван Расбург убедительно сказал:
– Я хочу, чтобы наша работа была самой лучшей. А помощника лучше вас не сыскать. Вы очень опытный скульптор, быстро работаете и знаете. на что спрос. У вас удивительное умение, Роден, У Каррье-Беллеза мы были тому свидетелями.
– А вы знаете, за что меня прогнали? Ван Расбург рассмеялся.
– Нам рассказали, чтобы другим неповадно было. Да только кто кого подделал?
– Я рад, что вы так обо мне думаете, но мне немедленно нужны деньги.
– Большую часть моих сбережений я потратил на мастерскую, но я могу одолжить вам немного на комнату и еду.
– А чтобы съездить в Париж?
Ван Расбург сразу стал очень серьезным.
– Подпишем контракт, все без обмана. Условия будут для нас выгодные. Может, я и не такой хороший скульптор, как вы, но в коммерческих делах разбираюсь лучше. Сколько вам надо?
– Это не для меня, для родных в Париже.
Ван Расбург дал Огюсту пятьдесят франков со словами:
– Если бы мог, дал бы больше, да только почти все ушло на мастерскую.
Огюст невнятно пробормотал:
– Как мне отблагодарить вас, мосье?
– Работой. Вы ведь знаете, благодарность можно выразить по-разному и работать тоже по-разному.
– Так по рукам, Роден?
Спустя несколько дней Огюст подписал с Ван Pасбургом контракт.
Глава XVI
1Огюст уже чувствовал себя человеком, которого предало любимое искусство и который взглянул в лицо смерти, как вдруг искусство сжалилось и вернуло его к жизни. Он словно пробудился от долгого, тяжелого сна. «Жизнь надо подчинять себе, – думал он, – жизнь надо строить». Он рисовал и делал наброски и лепил, как человек, после долгого перерыва вернувшийся к любимому делу. Они получали много заказов, и хотя от них не требовали ничего необычного, Огюст умел придавать своим работам собственный, неповторимый характер.
Ван Расбург был верен слову. Они были партнерами и делили заработок поровну. В коммерческих делах Ван Расбург был честен до щепетильности.
Одно только беспокоило Огюста. Они решили, что Ван Расбург будет подписывать все работы для Бельгии, а Роден – для Франции, но из Франции заказов не поступало, в Бельгии же Ван Расбург пользовался известностью. А так как Огюст был куда более плодовит, чем Ван Расбург, и все время проводил в мастерской, потому что терпеть не мог торговых операций, то скоро Огюст производил куда больше работ без подписи, чем подписных, и с горечью думал, что Бельгия буквально наводнена произведениями, подписанными Ван Расбургом, автором которых является Роден. Правда, эти работы если и не приносят ему славу, то хоть кормят его.
Париж снова зажил мирной жизнью, хотя раны гражданской войны еще не затянулись, и теперь Огюст и Роза регулярно обменивались письмами.
Мама все еще очень болеет, сообщала Роза через тетю Терезу, а в остальном дела идут на лад. Она рассказала Огюсту, как ей удалось прокормить семью, когда он лишился работы, – она зарабатывала по два франка в день тем, что шила вечерами солдатские рубашки. Днем часами простаивала в очередях за едой для сына и для всей семьи. Добывала хлеб, который пекли наполовину из опилок, и похлебку из разных кореньев. Но теперь к ним переехала тетя Тереза и ухаживает за Папой, Мамой и сыном, а Роза зарабатывает по пяти франков в день, работает вышивальщицей на Мануфактуре гобеленов.
Огюст старался отсылать семье все деньги, которые зарабатывал, и все, что удавалось сэкономить. Он писал Розе, что очень скучает по ней. Еще больше он скучал по своей мастерской. Ван Расбург был порядочным человеком, но заказов все прибавлялось. Огюст выбивался из сил, и в голову приходили грустные мысли. Тут ему не проявить свой талант по-настоящему, он больше не скульптор, а ремесленник, делец, которому уже никогда не заняться кровным делом.
И Огюст еще сильней скучал по Розе и по своей мастерской. Он писал Розе, как он здесь одинок, и при этом прилагал шестьдесят франков и наказывал особенно заботиться о его скульптурах.
Роза беспрекословно выполняла каждое его указание. Она продолжала с любовью и вниманием ухаживать за его работами. Теперь у нее был большой опыт.
И вот в конце 1871 года умерла Мама. Огюст бесцельно бродил по улицам Брюсселя, заходил в собор, нигде не находя утешения. Если бы он мог посылать больше денег, она бы выжила, укорял он себя. Одиночество стало нестерпимым.
Он требовал, чтобы приехала Роза, пусть тетя Тереза присмотрит за сыном и за Папой, а он пришлет им еще денег. Он не был уверен, что Роза приедет, и очень обрадовался, когда холодным февральским утром 1872 года Роза появилась в Брюсселе. Огюст встретил ее на вокзале с обычной сдержанностью, и на мгновение ему даже показалось, что они вот-вот поссорятся. Роза была в черном – траур по Маме. Он был потрясен, узнав, что Маму похоронили в общей могиле, – у них совсем не было денег.
– А те, что я тебе прислал? – спросил он.
– Папа тоже болел. Тетя Тереза решила, что лучше потратить их на того, кто жив.
– В общей могиле? – Он не мог свыкнуться К этой мыслью. Он был в ужасе. – И ничего нельзя было сделать?
– Мы сделали все, что могли.
– Если бы я знал!
– Тоже ничем бы не помог, дорогой. После твоего отъезда в Париже умерло столько народу! Чего только не было – война, голод, чума, даже богатые хоронили своих по двое-трое в одной могиле. А ведь ты знаешь, в гражданской войне больше всего погибло бедняков.
– Знаю, – коротко ответил он.
– А тебе туго здесь было, Огюст?
– Туго? – Он взял ее вещи, и они вышли из вокзала. – Скульптору всегда туго. Ты хорошо упаковала все мои статуи?
– Да. Они не сегодня-завтра будут здесь.
– Пойдем. Ты, наверное, проголодалась.
– Я изголодалась по тебе. – И, забыв обо всем, она кинулась к нему на шею. – А ты рад, что я приехала, дорогой?
– Мне надо на работу. Нельзя подводить партнера.
Роза растерялась, отвернулась от него.
– Значит, я тебе не нужна? Он почувствовал раздражение.
– Я прислал тебе деньги на билет. Разве этого мало?
2Но когда все его скульптуры прибыли в целости и сохранности – она упаковала их точно в соответствии с его указаниями, – он повел ее обедать в самый дорогой ресторан, какой только мог себе позволить, и в тот вечер наконец обнял ее со своей обычной суровой сдержанностью.
Роза шептала ему в порыве любви:
– Мне так нравится твоя борода, Огюст, она придает тебе благородство.
Он улыбнулся. Его заботило, как она воспримет этот сюрприз – длинную бороду, предмет его гордости. Он прижал Розу к себе.
– Я так беспокоилась за тебя. – И я тоже, милая Роза.
Чего только она не сделала, чтобы сохранить его работы, и он благодарен ей. Это было их общее дело, оно объединяло их.
3Иногда Огюсту хотелось обменяться мыслями с другом, и он писал Дега:
«Я был „партнером“ Каррье-Беллеза, он этого так никогда и не признал, хотя я усвоил его манеру.
Теперь я «партнер» Ван Расбурга. Он подписывает наши работы для Бельгии, я – для Франции. Но сейчас нам удается продавать только в Бельгию, хотя прошло немало времени с начала нашего сотрудничества, так что Родены, подписанные Ван Расбургом, появились тут чуть ли не в каждом доме. Может, и к лучшему. Я этими вещами недоволен, но по крайней мере не теряю техники».
Он обрадовался, получив от Дега быстрый ответ:
«Я бы не стал торопиться в Париж. Правда, Вторая империя теперь почила в бозе, и у нас Третья республика, но трудно сказать, которая хуже. Вторая империя была сильным детищем слабого человека, а Третья республика – слабое детище сильного человека.
Имперская библиотека теперь называется Национальной библиотекой, но, по правде говоря, ничего не изменилось. Если прежде разложение охватывало верхушку, то теперь оно охватило все снизу доверху. У нас был император-демократ, теперь – демократическая империя, и трудно сказать, что хуже.
Я наслаждаюсь оперой, тут все только и говорят об этом немце, Вагнере; считается проявлением высшей образованности относиться благосклонно к этому сыну вражеской державы, но, что касается меня, я не разделяю этого поклонения, как и прежде, я предпочитаю Моцарта».
Огюст удивился, почему Дега не писал об их общих друзьях. Но допрашивать друга не имело смысла, тогда наверняка не добьешься ни слова. Осенью 1872 года Дега уехал в Америку навестить родственников. Огюст вновь написал ему уже летом 1873 годи, когда Дега возвратился в Париж.
«Надеюсь, ты остался доволен своим путешествием в Америку, – писал Огюст. – Что же касается меня, то бельгийское искусство, по-моему, находится на гораздо более низком уровне, чем наше. Работы, достойные внимания, можно найти в основном в Голландии, и когда-нибудь я надеюсь там побывать, а пока только здешние соборы служат для меня источником вдохновения. Меня, однако, очень интересуют наши друзья. Я слышал, что им по-прежнему нелегко, что художественные критики, как обычно, страдают от разлития желчи и Салон по-прежнему вешает картины тех, кто им не по вкусу, где похуже, но я все же подумываю о том, чтобы выставиться в Салоне.
Наконец-то я снова принялся за работу и, может быть, скоро создам нечто такое, что привлечет внимание. Я все еще не в форме, слишком много сил отдаю «партнеру», хотя в этом не его вина. И Брюссель тоже не действует на меня вдохновляюще. Это готическая мешанина, есть тут и несколько интересных зданий, но нет разнообразия Парижа, а резьба по камню в большинстве случаев просто ужасает.
Передай привет Ренуару, Моне и Фантену, если встретишь кого из них. Кажется, я наконец примирился с гибелью моей «Вакханки».
Мне бы так хотелось куда-нибудь съездить, но Нью-Йорк и Новый Орлеан, где ты побывал, для меня недостижимы, как луна. Самое большее, на что я могу надеяться, – это Италия, через год-два. Так хотелось бы взглянуть на «Давида» и «Моисея», пока я сам не превратился в Мафусаила».
Дега ответил только в конце 1873 года. Тем временем желание Огюста посетить Италию особенно возросло, но он не сумел скопить денег на поездку. Да, кроме того, и Ван Расбург не смог бы без него обойтись. Он по-прежнему чувствовал себя, как в ссылке, никак не мог найти достойных друзей. «Видимо, старею, и мне становится все безразлично», – думал он. У него не было планов на будущее. Он представил «Человека со сломанным носом»[42]42
Это было повторение в мраморе более ранней работы, выполненное в 1872 году.
[Закрыть] в Брюссельский Салон 1872 года по совету Ван Расбурга, который был в восторге от скульптуры, и хотя работу одобрили – это было первое его произведение, принятое Салоном, – она не привлекла особого внимания. Огюст решил, что надо создавать более крупные вещи, но что? Он был все время подавлен, а разве в таком настроении создашь что-либо достойное внимания? И пессимизм Дега совсем его обескуражил. Дега писал:
«Спасибо тебе за добрые пожелания, дорогой друг. Мы все беспокоимся, как ты там в Брюсселе, можешь ли работать над собственными вещами?
Америка захватывает, но и утомляет, жить там я бы не хотел. Страна огромная, без конца и края. Я видел много нового; Нью-Йорк тоже огромен, жизнь в нем так и кипит. У американцев энергии в избытке, они не знают, куда ее девать, и гордятся этим, а меня это утомляет. Новый Орлеан – любопытное и забавное смешение Америки и Франции, он напомнил мне о Париже…
Большинство из нас уже выставлялись – Мане, Фантен, Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей, я. Вот только Сезанна отвергают, отвергают постоянно, и это страшная несправедливость. Нас это огорчает, а Сезанн ходит мрачный. Хотя Сезанн не любит общество, но изо всех сил старается привлечь к себе внимание и горько жалуется, когда его не замечают. Его уже отвергали четыре или пять раз, но он не сдается.
Я не думаю, что мы сумеем покорить Салон. Если наши картины и принимают, то вешают самым невыгодным образом, то высоко или где мало света, то в окружении, совсем неподходящем, или засунут в угол, а скульпторам и того хуже, их обычно помещают вплотную к стене, так что работа не смотрится. Мне, право, безразлично, но Фантен говорит, что мы должны завоевать Салон, и Мане его поддерживает.
Глупцы! Салон подобен женщине. Салон любит, чтобы за ним ухаживали, но, как женщина, не способен на ответное чувство.
Мне надоело слушать критиков, которые говорят «это великолепно» и «это провал» об одной и той же вещи. Они твердят только одно: вот это картина, а это не картина. В остальном же ими руководят предрассудки, дурной вкус, мимолетная мода, а нас они считают новинкой, которая скоро забудется. Мы по-прежнему в лучшем случае являемся предметом любопытства, в худшем – на нас смотрят, как на помешанных. Но, как я тебе уже говорил, мне все безразлично.
Недавно возник спор о том, стоит ли добиваться, чтобы нас выставляли в Салоне, требовать, чтобы открыли новый, «Салон отверженных», или выставляться у торговцев. Все эти варианты мне не нравятся, и иногда мне кажется, что лучше бы нам вообще нигде не выставляться.
В мастерской всегда есть время подумать. Никто тебя не торопит. Если я в чем-то сомневаюсь, а это случается часто, я могу что-то изменить.
Моне, Писсарро[43]43
Писсарро, Камилл (1831—1903) – французский живописец, преимущественно пейзажист, крупный представитель импрессионизма.
[Закрыть] и Сислей считают меня старомодным, они, правда, сейчас увлекаются пленэром, но мы с Мане никак не разделяем их увлечения. Разве Энгр и Рембрандт были сторонниками пленэра? Или даже Коро, их кумир, которому они поклоняются? Но когда я говорю им об этом, они считают меня придирой, а если не разделяю их восторгов по поводу природы, то представляюсь им мизантропом.
Лучше всего дела у Мане. Я не имею в виду «Кружку пива»[44]44
Картина «Кружка пива», или портрет гравера Белло, была написана в 1873 году и выставлена в Салоне того же года. Это была первая картина Мане, единодушно одобренная публикой и критикой. Однако в дальнейшем многие работы Мане, как и прежде, отвергались Салоном и подвергались нападкам официальной критики.
[Закрыть], его первый большой успех в Салоне, – это все голландщина в духе Франса Гальса – я говорю о его последних работах. Какое мастерство! Выбрал бы только, наконец, какую-нибудь определенную манеру.
Что же касается остальных, то Фантен, к примеру, и поныне подражает всем известным образцам и находится в плену фотографической точности, он слишком много времени провел в Лувре и сердится, когда я ему об этом говорю. Ренуар влюбился в цвета радуги, в плоть, а картины Моне приобрели какую-то туманную расплывчатость, и он только и твердит о солнечном свете.
Как ты, возможно, слыхал, Далу и Курбе поддерживали Коммуну. Далу назначили главным смотрителем Лувра. Можешь себе представить, эти двери были бы для нас закрыты навсегда, а Курбе возглавил все изящные искусства и упразднил Академию, Школу изящных искусств, Салон. Теперь Далу бежал в Лондон и там преподает вместе с Легро, а Курбе в тюрьме, и, если бы не влиятельные друзья, расстрел ему был бы обеспечен.
Кое-что у Курбе мне нравится, но только не его республиканские замашки! Это как зараза, и даже Мане она коснулась.
Зрение мое все ухудшается, правый глаз поврежден во время войны, и теперь я совершенно не выношу яркого солнца. Знаю, это неизлечимо, и меня угнетает мысль, что я ослепну, хотя доктора уверяют, что этого можно избежать, если соблюдать осторожность. Осторожность – осторожностью, да ведь я не Бетховен, не смогу писать, если ослепну! Разве я могу беречь глаза – закрыть их и писать только то, что помню. Боюсь, в моем распоряжении осталось совсем немного времени. Мне уже тридцать девять, и как вспомнишь, чего достиг к этому возрасту Рафаэль и что в сорок лет его уже не стало, то невольно содрогаешься. Несправедливо, что он умер так рано, но где она, справедливость?
Поэтому когда Фантен принимается рассуждать о том, что мы художники, потому что это высокое и благородное призвание, меня тошнит. Мы художники– если это действительно так, – потому что не представляем себе иной жизни. Все остальное-чистая ерунда.
И я живу среди всей этой ерунды. Не собирался писать тебе, но уж напишу– я сейчас много общаюсь с писателями. Гюго возвратился из изгнания и так и трубит повсюду о своем героизме. Хорошо, конечно, быть гением, но еще лучше быть воспитанным человеком…
Ну а как ты? Пишешь, что Ван Расбург должен был продавать твои работы во Франции, но из этого ничего не вышло Может, ты слишком старался угодить разным вкусам? Все еще лепишь бюсты для низших классов по пятьдесят франков за штуку или эти протестанты тебя синеем развратили и ты опустился еще ниже?
Может быть, в этом-то и заключается беда Ван Расбурга. Но если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботиться»
На следующий день Огюст никак не мог приняться зa новую работу. Со многим в письме Дега он не был согласен, но оно пробудило в нем чувство глубокой неудовлетворенности. Он скучал по Парижу и жаждал перемены, любой перемены. Он сравнивал себя с Дега и чувствовал себя связанным. Дега располагал полной свободой делать что хочешь, ездить куда заблагорассудится. Но куда ехать человеку, если у него нет на то ни денег, ни времени?
Ван Расбург застал Огюста в задумчивой позе, он сидел, обхватив голову руками, у станка. Обычно партнер работал не покладая рук. Ван Расбург спросил;
– Что-нибудь случилось? Разболелась голова?
– И очень сильно, Жозеф, – ответил Огюст. Коллега внимательно посмотрел на него и недоумевающе спросил:
– Вы больны?
– Да, от работы, которую приходится делать. Ван Расбург пожал плечами и с кривой улыбкой сказал:
– А кому она нравится? – Он с явным отвращением осмотрел просторную мастерскую: полузаконченные статуэтки из глины, многие из них в стиле Каррье-Беллеза; скульптурные портреты в стиле римских патрициев, совсем завершенные, но еще не отполированные; декоративные херувимчики для церковного фасада. – Я примирился. Но мне это не нравится.
– Да, но вы хоть добились признания.
– Ах, вот в чем причина головной боли. – Пятнадцать лет Ван Расбург ждал такой возможности, будет весьма печально, если все сорвется, когда они уже на самом пороге процветания, пусть даже их работы действительно лишены мысли и содержания.
Огюст проворчал:
– Я не то скульптор, не то делец. А на самом деле ни то, ни другое.
– Вас теперь больше уважают.
– Может быть, как дельца. Но никто не знает Родена-скульптора. Что бы мы ни продавали, подпись одна: Ван Расбург, Ван Расбург, Ван Расбург.
– Это так, это так, – быстро проговорил Ван Расбург. – Но разве моя вина, что французы ничего не заказывают?
– При такой спешке я скоро совсем потеряю собственное лицо. Мне надо добиться хоть какого-то признания.
– Дела не так уж плохи, – твердо сказал Ван Расбург. – Средний заработок равен пяти франкам в день; у Беллеза вы зарабатывали десять-пятнадцать в неделю, а теперь триста-четыреста – и можете по-настоящему разбогатеть, если мы расширим дело.
– Нет! – Огюст решительно поднялся. – Так больше продолжаться не может.
Ван Расбург считал себя человеком справедливым, добрым и сдержанным. Роден ведет себя эгоистично и неразумно, – подумал он, – так можно погубить все на свете. Он не должен ему уступать. Однако на работы, сделанные Роденом, был куда больший спрос, чем на его собственные, – они обладали жизненностью и индивидуальностью, чего не хватало его произведениям. Но ведь есть еще и деловая сторона, и за нее отвечает он.
– Вам надо отдохнуть, – вслух сказал Ван Расбург.
– Нет, не то мне нужно.
Но зерно упало на благодатную почву, и Огюст стал прислушиваться к словам партнера. Даже если и будет подписывать собственным именем все свои работы, это не принесет ему известности. Известность может принести только монументальное, значительное и интересное произведение; в противном случае он просто будет биться головой о стену. Потому что не бывает немедленного признания, какие бы ни ходили легенды. И все же эти безликие фигуры погубят его. Огюст испытывал постоянную усталость, раздражение, недовольство тем, что делал.
Ван Расбург предложил:
– А почему бы вам не взять отпуск? Например, поехать в Амстердам? Посмотреть на Рембрандта?
– Нельзя, – сказал Огюст. Не могу себе позволить.
– У нас достаточно готовых работ. А если не будет хватать, и могу нанять кого-нибудь в помощь. – У Каррье-Беллеза?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?