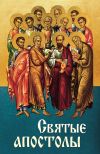Читать книгу "Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии"

Автор книги: Дильшат Харман
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вечность в настоящем
Противогаз, который Гросс изобразил на своем Распятии, явно возмущал не только тем, что он, вопреки традиции, закрыл лицо Христа, фактически его обезличив. Дело было и в самом предмете – газовая маска была раздражающе нова и «приземленна». Если бы Гросс, скажем, накинул на голову Богочеловека плат (предмет гораздо более «благородный»), вряд ли бы кто-то счел себя настолько оскорбленным.
Для консервативного взора сам перенос евангельских сюжетов в наши дни или вторжение в них современных деталей часто кажутся профанацией. Причем для этого совершенно не обязательно, чтобы изображение задумывалось как сатира. Оскорбленным кажется, что, изобразив Христа и апостолов в нынешних декорациях и переодев их из античных хитонов в костюмы или в джинсы с футболками, художник чуть ли не автоматически сводит высокое к низкому и развеивает ореол сакральности. Парадокс в том, что осовременивание часто применяется как раз для того, чтобы вернуть древним образам эмоциональную силу и помочь зрителю с ними себя идентифицировать.
Хотя может показаться, что такая «подгонка» прошлого под настоящее – это современная выдумка, это совсем не так. В средневековой иконографии – с тех пор, как она, уходя от «чистого» символизма, с XII–XIII вв. стала все больше внимания уделять реалиям (одеждам, интерьерам, архитектуре и т. д.), – этот прием встречается повсеместно. Эпизоды священной истории одновременно воспринимались как события, однажды случившиеся в далеком прошлом (в Египте времен Моисея или в Палестине времен Христа), и как источник вневременных истин, ключ к спасению каждого человека и матрица мириад других событий, которые происходят здесь и сейчас: святые, убитые за веру, повторяют подвиг раннехристианских мучеников, а грешники своими преступлениями вновь и вновь распинают Христа. Это вечно живое прошлое часто изображалось в современных – или скорее очень похожих на современные – декорациях.
Примерно с того же времени мастера начинают экспериментировать с пластикой, жестами и мимикой персонажей и – впервые с поздней Античности – пытаются с помощью выражения лиц передать весь сложный спектр обуревающих человека эмоций: злорадство (палачей), скорбь (Девы Марии и Иоанна Богослова, стоящих у креста), ликование (праведников в Царствии Небесном) и т. д. Благодаря этому сакральные сюжеты еще сильнее вовлекают зрителя – не только даруя ему чувство причастности к таинству, но и вызывая мощный эмоциональный отклик: сопереживание персонажам или ненависть к ним.
Даже если бы средневековые мастера или их «консультанты» из духовенства могли выяснить, как выглядел Иерусалим I в. н. э., и как на самом деле тогда одевались еврейские рыбаки и римские воины (чего им, конечно, узнать было неоткуда), эти сведения вряд ли бы их подвигли к документальной точности на современный лад. В целом, классическому Средневековью был чужд археологический или этнографический интерес к повседневным реалиям далеких эпох, к тому, как меняется мир, который люди выстраивают вокруг себя. Хронисты и богословы, конечно, видели в истории тектонические сдвиги и делили ее на две эры (до и после воплощения Христа), на шесть «веков» (от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Давида и т. д.) или на три эпохи («до закона», «под законом» и «под благодатью»). Однако речь шла о Божьем промысле по поводу человечества, о ключевых этапах истории спасения, а не о том, как меняются обычаи, нравы, манеры одеваться, архитектурные стили и прочие реалии. Само собой, на них обращали внимание, но в первую очередь как на знак, позволяющий прочитать скрытый, духовный, смысл конкретных событий; как на признак греховной инаковости иноверцев или как на курьез, диковину, одно из доказательств бесконечного разнообразия творений. Иллюстрируя эпизоды из священной истории – т. е. из прошлого, которое вечно здесь и проходит через судьбу каждого человека, – средневековые мастера, прежде всего, стремились раскрыть их вневременной смысл, показать их вечную современность.
Если художник, работавший, скажем, в Париже в XIII в., должен был нарисовать армию египетского фараона, преследующую Моисея, филистимлян, сражающихся с израильтянами, или воинов царя Ирода, избивающих вифлеемских младенцев, мы, вероятно, увидим рыцарей в тех доспехах, какие были в ходу во Франции его времени. Если сюжет требовал показать штурм какого-то города, в «кадре» появлялись осадные орудия самой новой конструкции. На щитах древних израильтян и их врагов, раннехристианских святых воинов (как Георгий или Маврикий) и их преследователей часто красовались гербы – при том, что на самом деле они появились лишь в XII в. Подобный анахронизм, конечно, встречался не только в сюжетах из священной истории – древние греки, сражающиеся с троянцами, или римляне, отправившиеся на войну с карфагенянами, тоже изображались как средневековые рыцари.
Древних врагов Христа часто представляли в обличье современных врагов христианства, чаще всего магометан. Этот обоюдоострый прием (одновременно демонизировавший иноверцев, соотнося их с палачами Спасителя, и укреплявший ненависть к палачам Спасителя через соотнесение с противниками-иноверцами) прекрасно дожил до раннего Нового времени. Например, в венецианской живописи XVI в. (скажем, у Тинторетто) гонители Христа и первых мучеников регулярно предстают в облике турок, в цветных халатах и пышных тюрбанах. Настоящее и прошлое, привычное и экзотическое переплетаются, чтобы усилить идеологический и эмоциональный посыл изображения.
Средневековый мастер точно бы не сказал, что в священных сюжетах новейшим модам и техническим новинкам делать нечего. Св. Иеронима Стридонского – христианского эрудита, аскета-пустынника и секретаря папы, жившего в IV–V вв., а потом провозглашенного одним из Отцов Церкви, – с XIV в., чтобы подчеркнуть его высокий статус, стали изображать как кардинала – в длинном красном одеянии и широкополой шляпе того же цвета (5). Однако во времена Иеронима кардинальского сана еще не существовало, а этот наряд, перенесенный воображением в далекое прошлое, у реальных кардиналов появился лишь в том же XIV столетии.
Примерно тогда же Отцов Церкви, евангелистов и прочих святых, причастных к ученым занятиям, стали изображать в очках для чтения (6). Этот ценный инструмент, позволявший интеллектуалам, растерявшим былую зоркость, продолжать свои штудии, был изобретен в Италии в конце XIII в. и оттуда распространился по Европе. В результате он стал восприниматься как атрибут учености и книжной культуры, а посему вошел в иконографию главных христианских мастеров слова – евангелистов и богословов (правда, со временем очки стали использоваться и в негативном смысле – как символ духовной слепоты грешников, а порой и самих демонов). Однако на первых порах мастера, которые водружали древним святым на нос очки, не могли не знать, насколько это недавнее изобретение. Представим себе, что сегодня художник, чтобы подчеркнуть мудрость того же Иеронима, решил бы изобразить его в цифровых очках Google Glass.

5. Стефан Лохнер (?). Св. Иероним. Германия, ок. 1440 г. Raleigh. North Carolina Museum of Art. № G.52.9.139
Экзотизмы
В XIV–XV вв. мастера, конечно, не только модернизировали, но и «экзотизировали» священную историю. Чтобы продемонстрировать, что действие происходит в давние времена и на далеком Востоке, они порой наряжали ветхозаветных и новозаветных персонажей в тюрбаны и украшали их одежды и нимбы надписями, которые имитировали еврейские, арабские или даже монгольские буквы. Эти непонятные письмена усиливали ореол загадочности и сакральности образа. Их копировали (само собой, не понимая, что там написано, и с трудом отделяя одну литеру от другой) с восточных тканей, керамики, документов, бумажных денег и других экзотических предметов, которые купцы, путешественники и миссионеры привозили из арабского мира, Персии, Индии и Китая. Например, на фреске Распятия, которую Джотто в начале XIV в. написал в падуанской Капелле Скровеньи, риза Христа украшена геометрическим орнаментом, вдохновленным монгольским квадратным письмом, созданным в середине XIII в. при хане Хубилае.

6. Ганс Гольбейн Старший. Успение Богоматери. Германия, ок. 1491 г. Budapest. Szépművészeti múzeum. № 4086
Конечно, эти библейско-фламандские интерьеры нельзя принимать за зарисовки с натуры и уж тем более за «портреты» реальных комнат. Многие предметы, сколь бы обыкновенными они ни казались, были овеществленными метафорами, или «скрытыми символами», как их некогда назвал искусствовед Эрвин Панофский. Лилия (в вазе, стоявшей где-нибудь на столе или на полу) издавна символизировала чистоту Богоматери; подсвечник со свечой олицетворял Марию и ее божественного Младенца и т. д.
В подобных сценах современные интерьеры вмещают в себя богословскую символику и детали, которые ясно дают понять, что дело происходит вовсе не в Нидерландах XV в. Например, в сцене Тайной вечери стол, за которым Христос собрался с апостолами, может быть похож на тот, что стоял дома у зрителя. Однако ученики, в соответствии с текстом Евангелия (Мф. 10:10), изображались босыми, что на застольях в Генте или Брюгге вряд ли практиковалось. Тем не менее, такие изображения, где символы облекались в современную форму, явно создавали у зрителя мощное ощущение, что евангельские события разворачиваются здесь и сейчас, или в мире, очень похожем на тот, из которого он на них смотрит.
То же самое можно сказать и о городских видах. Многие итальянские, нидерландские, французские и немецкие художники позднего Средневековья изображали Иерусалим ветхозаветных или новозаветных времен в облике знакомых им (и их заказчикам) европейских городов. Или, если подойти иначе, представляли свои города как Иерусалимы, перенося знакомые шпили и башни в сакральное пространство Рождества или Распятия. В Роскошном часослове герцога Беррийского, созданном братьями Лимбургами в 1411–1416 гг., волхвы, устремившиеся с дарами к младенцу Иисусу, собираются на фоне готического города, в котором легко узнается Париж с его собором Нотр-Дам и Сент-Шапель, а на миниатюре, добавленной к этой рукописи ближе к концу XV столетия, Иерусалимский храм, куда родители привели юную Марию, будущую мать Спасителя, изображен как готический собор, очень похожий на собор св. Стефана в Бурже (7). На алтаре, написанном в 1470-е гг. для монастыря Шоттенштифт в Вене, Святое семейство шествует мимо города, напоминающего австрийскую столицу, и т. д.
В нидерландском искусстве XV в. многие события евангельской истории переносятся в современные – причем как никогда детально и реалистично прописанные – пространства и интерьеры. Комната, в которой архангел Гавриил возвещает Деве Марии благую весть, часто напоминает покои, где мог жить дворянин или богатый бюргер, заказавший художнику это изображение. Скамьи с подушками, ставни, камины, подсвечники, вазы, на стенах – раскрашенные гравюры (тоже недавнее изобретение) с фигурами святых, за окном – черепичные крыши соседних домов…
Тем не менее, зритель ясно понимал, что перед ним не Франция или Австрия, а Святая земля, и не 1433, а 33 г. от Воплощения. В одном и том же изображении знаки современности (готические шпили, рыцарские доспехи, гербы…) соседствовали с какими-то архаичными (вроде античных хитонов) или экзотическими (как восточные тюрбаны на головах истязателей Христа) деталями.
Сакральное прошлое и настоящее смыкались, но не растворялись друг в друге. Если перевести многие позднесредневековые изображения на современный лад, мы бы увидели, скажем, шествие на Голгофу на фоне сталинских высоток Москвы или манхэттенских небоскребов; римских воинов в латных доспехах и с рациями в руках; Христа в тунике до пят; толпу, снимающую происходящее на смартфоны из-за металлических ограждений.


7 a, b. Роскошный Часослов герцога Беррийского. Франция, 1411–1416, 1485–1486 гг. Chantilly. Musée Condé. Ms. 65. Fol. 51v, 137r
Вольности под присмотром
Современные споры о том, как можно, а как нельзя обращаться с религиозными символами, где – намеренное богохульство (оскорбление чувств верующих), а где – законное право художника высказываться о религии или использовать те образы, которые он сочтет нужным, часто обращаются к Средневековью. Ведь именно тогда возникло большинство сакральных образов и сюжетов, которые сегодня кто-то цитирует, переосмысляет, обыгрывает или высмеивает, а кто-то – требует огородить от любых посягательств.
Но дело не только в этом. В спорах о визуальном кощунстве одна сторона часто ссылается на иконографические нормы, которые пришли к нам из Средних веков, как на меру и эталон. Другая, наоборот, обличает давление со стороны церковных инстанций, религиозных активистов и юридические запреты на вольное обращение с сакральными символами как возвращение в Средневековье, с его клерикальным диктатом и инквизицией.
Однако парадокс в том, что в реальном Средневековье церковные власти или отцы-инквизиторы на ниве художественной цензуры проявили себя не слишком активно. После великих иконоборческих споров, которые в VIII–IX вв. затронули не только Византию, но и Запад, вплоть до XV в. в католическом мире мы редко услышим о том, чтобы духовенство запрещало какие-то изображения и уж тем более, чтобы Церковь применяла к их создателям репрессивные меры.
Хотя в трактовке ключевых христианских сюжетов отступления от традиции не приветствовались, средневековые клирики порой допускали, что мастера, переводя слово в образ, должны обладать определенной свободой. В конце XIII в. французский епископ Гильом Дуранд в огромном «справочнике» по всем аспектам «божественной службы» («Rationale divinorum officiorum»), подробнейшим образом перечислив, как следует изображать Христа, пророков, евангелистов, апостолов и святых дев, одобрительно процитировал известные строки римского поэта Горация: «Знаю: все смеют поэт с живописцем – и все им возможно, что захотят». Пока фантазия не вступает в противоречие с верой и задачами проповеди, художники имеют право сами решать, как им лучше изобразить «различные истории как Нового, так и Ветхого Завета».
В XII в. цистерцианский мистик и богослов Бернард Клервосский, ратуя за аскетичную простоту монастырской архитектуры, обличал те обители, где взгляд иноков все время утыкается в «нечестивых обезьян», «чудовищных кентавров», «полулюдей-полузверей» и прочие скульптурные суетности (см. 68–70). В XIII в. испанский клирик Лука Туйский обрушился на невиданные ранее Распятия, где Христос пригвожден к кресту не четырьмя, а тремя гвоздями, и на уродливые образы святых, с помощью которых еретики-катары, по его утверждению, стремились посеять в душах католиков сомнения по поводу культа святых и Девы Марии. В конце XIV в. канцлер Парижского университета Жан Жерсон раскритиковал «открывающиеся» статуи Девы Марии, внутри которых перед верующими представал не только Христос, но и вся Троица (см. тут).
В середине следующего столетия архиепископ Флоренции и популярнейший проповедник Антонин Пьероцци в своей «Сумме теологии» выступил против нескольких типов изображений, которые, как он полагал, способны ввести зрителя в заблуждение. В частности, он считал вредными образы, где юный Иисус держит вощеную табличку с буквами (словно бы ему требовалось учиться, и он не обладал всей полнотой мудрости), и изображения Троицы как одного человека с тремя головами (поскольку нельзя представлять триединого Бога в виде монстра).
Однако, сколь бы ни был велик авторитет Жерсона или Антонина Флорентийского, их сомнения и недовольства оставались частным мнением, и нам ничего не известно о том, чтобы сомнительные образы кто-то изымал или уничтожал. Конечно, в конце XV в. при бескомпромиссном моралисте Джироламо Савонароле во Флоренции публично сжигали «суетности»: светские картины и скульптуры, фривольные или просто неблагочестивые сочинения (как тома Овидия и Боккаччо), игральные карты, зеркала и музыкальные инструменты, – но это была уже совершенно другая история.
В своем трактате против катаров Лука Туйский поведал о том, как на юге Франции они, чтобы отвратить католиков от почитания Богоматери, придумали одну хитрость. Еретики изготовили статую Девы Марии с единственным глазом и стали рассказывать, что смирение Христа было столь велико, что он решил родиться от такой уродины. Затем они, симулируя различные недуги, стали приходить к статуе и там кричать, что она их исцелила. Когда слух о ее чудотворной силе распространился по округе, священники из других церквей стали заказывать похожие статуи. В конце концов, еретики разоблачили собственный обман и тем изрядно смутили многие души. Хотя в этой истории нет ничего невозможного, катары известны тем, что отвергали не только культ образов, но и вообще любые изображения – людей, животных и растений (поскольку считали, что вся материя создана не Богом, а дьяволом, а потому через нее никак нельзя постигнуть Всевышнего). Потому то, что они, даже ради «контрпропаганды», решили изготовить статую, выглядит не слишком правдоподобно.
Сколь бы ни была велика власть Церкви над умами, в Средние века у нее не было ни стремления, ни возможности вводить какую-то централизацию образов и массово их цензурировать. Да и сама эта задача, видимо, была не слишком актуальна. В течение многих веков большая часть изображений с религиозными сюжетами создавалась либо самими клириками (например, монахами, которые иллюстрировали рукописи в монастырских скрипториях), либо мастерами-мирянами, работавшими по заказу и под идеологическим присмотром духовенства. Потому опасность пагубных искажений доктрины или намеренного «заражения» церковной иконографии ересью была не так велика, а крупные еретические движения либо вовсе не создавали образов, либо не имели возможности развернуть визуальную пропаганду (см. тут).
Ситуация стала меняться лишь на исходе Средневековья. Появление гравюры на дереве, позволившей тиражировать изображения, и изобретение книгопечатания наборными литерами, которое дало возможность массово издавать тексты (и быстро выпускать дешевые книги с иллюстрациями), сделали образы намного более мощным инструментом распространения идей, чем еще незадолго до этого. И это орудие, как часто бывает, оказалось обоюдоострым. Массовая визуальная пропаганда могла служить Католической церкви, а могла быть обращена против нее.
Именно это случилось в XVI в., когда протестанты – с помощью печатного станка и сатирических гравюр – повели на Рим настоящее визуальное наступление (см. тут). Они обличали католический культ образов как идолопоклонство, а более радикальные реформаторы – прежде всего, последователи Жана Кальвина – в разных концах Европы стали очищать храмы от «идолов» и демонстративно уничтожать статуи святых, разбивать алтари и сжигать распятия. Чтобы ответить на протестантскую критику и иконоборческое насилие, Католическая церковь, конечно, принялась еще активнее пропагандировать свои чудотворные образы и создавать новые культы вокруг изображений, (якобы) пострадавших от еретиков. Однако этим дело не ограничилось. Во второй половине столетия Рим взялся и за собственную визуальную контрреформу. Дабы пресечь распространение ересей, выбить почву из-под ног критиков и дисциплинировать верующих, требовалось ввести такую иконографическую цензуру, какой средневековая Церковь не знала.
Идеологические ориентиры были сформулированы в 1563 г. на Тридентском соборе. Он постановил, что в церквях не должно быть изображений, содержащих ложные доктрины, или настолько двусмысленных, что могут ввести «простецов» в заблуждение; что в почитании образов подобает искоренить суеверия, а верующим следует разъяснить, что сами изображения не обладают никакой силой, а чудеса творит Бог; что фигуры святых не должны быть излишне чувственны; и вообще в доме Божьем не место для суетных и мирских изображений (каких в средневековых храмах было не счесть). Эти краткие установки предстояло конкретизировать в цельную доктрину, которая бы отделила истинные и спасительные образы от вредных и еретических, а легитимные практики – от нелегитимных.
За эту амбициозную задачу старательно взялся лувенский теолог Ян ван дер Мёлен (Иоанн Моланус), а чуть позже – болонский архиепископ Габриэле Палеотти. Оба составили огромные трактаты, в которых вознамерились классифицировать сомнительные образы по степени опасности и отделить те, что необходимо убрать, от тех, что можно оставить. Им следовало решить, как поступать с апокрифами и можно ли использовать в иконографии те детали, которых нет в канонических текстах Библии, а потом рассмотреть один за другим десятки древних и новых сюжетов – и по каждому вынести свое суждение. Подобает ли представлять Моисея с рогами, ведь рога – атрибут дьявола? (см. тут) Мог ли один из волхвов, пришедших с дарами к младенцу Иисусу, быть чернокожим, как многие привыкли его рисовать? Дозволено ли изображать раны Христа на парящих в воздухе сердце, ступнях и ладонях, словно тело богочеловека было не распято, а расчленено?
Моланус в трактате «О святых картинах и образах» (1570 г.) настаивал на том, что сакральные сюжеты следует, насколько возможно, очистить не только от ереси, но и от апокрифических измышлений (правда, те апокрифические детали, которые способствуют благочестию, он считал вполне допустимыми), народных суеверий, всего суетного и фривольного. Потому надо быть осторожными, изображая нагого младенца Христа (даже святая нагота может ввести в искушение) или Марию Магдалину в обличье блудницы (до того, как она покаялась и стала отшельницей). Грех, даже если он предстает как грех, не должен быть соблазнительным, а изображения святых и святынь – непочтительными или насмешливыми. Например, апостола Петра в доме Марии и Марфы не следовало изображать краснолицым, словно он крепко выпил (8).
Протестантская критика и сама ситуация религиозного противостояния сделали Католическую церковь намного более чувствительной и нетерпимой к любой насмешке в свой адрес. Если в Средневековье мастера, украшая поля Псалтирей и Часословов, а порой и интерьеры церквей, на разный лад высмеивали клириков (см. тут), теперь такой смех стал восприниматься как идеологическая диверсия. Габриэле Палеотти в своем «Рассуждении о священных и мирских образах» (1582 г.) обвинял протестантов в том, что они, будучи не в силах поколебать учение Церкви, обрушивают на нее потоки «карикатур». Подмечая в нравах духовенства только самое низкое, они изображают священников с их сожительницами, монахов, пляшущих с женщинами, или прелатов за азартными играми. Эти скандальные сцены оскорбляют верующих и веру. Однако могут быть изображения и похуже – те, что попахивают ересью или прямо ее пропагандируют. Например, если кто-то изобразит демона, который в священническом облачении крестит младенца. Такой образ, по словам Палеотти, опасен тем, что зритель может решить, будто крещение, совершенное недостойным священником, недействительно. Эта идея грозила подорвать власть духовенства над спасением душ и обрушить систему таинств. Опасными могут быть не только еретические, но и двусмысленные образы, а чтобы избежать двусмысленности, требуется контроль. И не только над иконографией, но и, что важнее, над типографским станком. В 1559 г. папа Павел IV выпустил первый «Индекс запрещенных книг», обязательный для всех католиков.

8. Питер Артсен. Христос в доме Марфы и Марии. Нидерланды, 1553 г. Rotterdam. Museum Boijmans Van Beuningen. № 1108
Конечно, по меркам XX в., церковная цензура в сфере искусств не была уж столь эффективна и всеобъемлюща. Многие образы, которые богословы считали вредными или сомнительными, еще долго продолжали жить, а папские запреты (например, изображать Троицу в виде монстра с тремя лицами) исполнялись не слишком активно. Однако, по сравнению со Средневековьем, визуальной вольнице в церковной иконографии в XVI–XVII вв. постепенно настал конец. Контроль становился жестче, однако поле, на которое он распространялся, начало сужаться. Церковные заказы и христианские сюжеты, которые раньше господствовали в мастерских скульпторов и художников, вынуждены были потесниться перед новыми, мирскими, жанрами: от портрета и натюрморта до пейзажа и батальных сцен. Эти образы уже не славили Творца, а гораздо больше интересовались его творениями.