Текст книги "Сахарное свечение (сборник)"
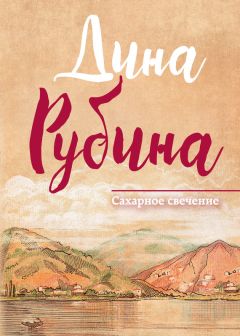
Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дина Рубина
Сахарное свечение
Дизайн серии и переплета: Александр Кудрявцев, студия «FOLD & SPINE»

В оформлении книги использована репродукция портрета Дины Рубиной работы Бориса Карафелова
В оформлении переплета использована репродукция картины Юлии Николаевой
Это было прекрасное время сотворения мира. Нашего собственного мира во всей его разноязыкой, разномастной и многоликой полноте. Это было время, когда мы вдруг осмелились высунуть нос в окно, куда задували заманчивые ветра странствий. Сейчас думаю: как же это произошло – ведь денег в семье было не больше, чем раньше? Неужели мы стали отважнее, неужели мечта увидеть мир подмигнула нам и бормотнула о том, что, мол, и наплевать, однова живем, а денег – их всегда не хватает, о том, что как-нибудь, в рассрочку, а потом помаленьку выплатим…
Сейчас уже и не вспомню. А вот то, как вдруг, переглянувшись, мы взялись за руки и вошли в туристическое агентство на улице королевы Шломционы в центре Иерусалима и как все мгновенно сложилось: и взлохмаченный турагент Саша сидел прямо в центре комнаты и улыбался нам обоим, и дешевые билеты подвернулись, и тут же выплыла недорогая гостиница, не какая-нибудь, а «Рембрандт», на одноименной площади в центре Амстердама…
Короче, судьба отозвалась на благородный порыв безденежного безумства и выпустила нас в Большой мир. И понеслось, и закрутилось, мы ощутили вкус и силу ветра странствий: Амстердам и Париж, Прага и Ницца, Мадрид и Прованс, Венеция и Рим, Неаполь и Сорренто… Мир оказался горячим, булькающим, пылким, волшебным… ибо жадно открывался и отдавался воображению писателя и художника; мир как бы знал, что будет вновь и вновь воплощаться в картинах и книгах.
Вообще рассказы, новеллы и повести, собранные под обложкой этой книги, созданы в очень симпатичное десятилетие нашей жизни, когда дети уже выросли, а родители еще были о-го-го, и мы почувствовали некую толику свободы, много работали, много разъезжали…ведь наша работа накрепко связана с впечатлениями, это неустанный труд зрения, воображения, мысли…
Как это ни удивительно, но именно в эти годы случилось и открытие Израиля – подлинное, глубинное постижение страны, ставшей родной и неотъемлемой, ставшей настоящим домом для нас и наших детей. И сын и дочь отслужили в армии, а это – особая причастность к духу и земле, к любви и судьбам близких.
В те же годы, видимо, потянуло меня к семье – к тем историям, от которых в юности раздраженно и нетерпеливо отмахиваешься, а потом уже и спросить не у кого. Мне повезло: мои родители старели медленно, помнили многое, и мне посчастливилось вовремя услышать и ощутить истории рода.
Так появились рассказы: «Душегубица», «Цыганка», «Бабка». И круг замкнулся: я поняла, что нахожусь в благословенной точке – на крутом гребне середины жизни, и просматриваю ее далеко, прекрасно освещенной, во всей ее полноте.
Триста восемьдесят пятая, строгого режима
Меня с детства интриговали цыгане.
Тогда я еще не знала о наличии в собственной семье толики цыганских генов и глазела на крикливые шайки бренчащих браслетами женщин, окруженных и обвешанных сопливыми мальцами, исключительно из вечной любви к ряженым: к карнавалу, к театру и вообще – к представлению…
Появлялись они чаще всего в районе Алайского базара, куда бабушка брала меня каждую неделю «скупаться», и на краснопесчаных дорожках сквера Революции, чудесного, ныне вырубленного ташкентского парка, где любили прогуливаться парочки. И это понятно: на Алайском легче всего было вытянуть кошелек у зазевавшейся хозяйки, а «на сквере» они охотились на влюбленных мужчин, не способных отказать предмету любви в просьбе «узнать судьбу».
Именно там, «на сквере», в конце сороковых, некая цыганка («она выскочила перед нами как черт из табакерки!») за три рубля и виртуозно стащенное с пальца кольцо конспективно и бесстрастно предсказала моей юной маме кое-какие события ее жизни, которые продолжают сбываться и сейчас.
Меня же – повторюсь – цыгане просто интриговали. Я совсем их не боялась – что с меня было взять? Правда, вокруг поговаривали, что они крадут детей, а потом заставляют их просить милостыню. Но этому я не слишком верила, а возможно, подсознательно даже и примеривала на себя такой вот образ вольной жизни. Не исключено, что меня увлекала подобная шикарная перспектива.
Однако никто из цыганок на меня не посягал, чаще просто отпихивали болтающуюся на пути зеваку.
Однажды я засмотрелась на цыганскую девочку моих примерно лет, очень гибкую, верткую, грязноватую, в трех юбках, надетых одна на другую. Чем-то она меня заворожила, и я с полчаса следовала за ней, то и дело забегая вперед, чтобы еще раз глянуть на продувную быстроглазую мордочку. В конце концов она заметила преследование, скорчила рожу, дернулась ко мне совершенно мальчишечьим обманным движением, будто хотела схватить или ударить, я рванула в сторону, она захохотала, сплюнула и пошла себе дальше, пританцовывая… И я пошла восвояси, не в силах объяснить себе, почему прицепилась именно к этой девчонке; и только вернувшись домой и мельком глянув на себя в зеркало в прихожей, все поняла: на меня смотрело ее отражение, той самой девчонки, едва ли не столь же грязной, после целого-то дня уличной гульбы.
Не то чтоб мне здесь нарочито вспомнился сюжет «Принца и нищего» – нет… Но, возможно, именно тогда впервые в мою лохматую башку стали приходить мысли… О разных людях. Об их схожести и различиях. Об обязанности и о воле. Наконец – о выборе между тем и этим. Я и сейчас думаю о подобных вещах, даже теперь, когда ни воли, ни выбора у меня уже нет – одни обязанности. И меня продолжают волновать и притягивать в людях именно эти качества: авантюризм, ведовство, неуемное беспокойство и – приверженность свободе, как внутренней, так и внешней.
Спустя много лет после детства я узнала про тщательно скрываемую бабкой историю о цыганке в нашем роду. Мне этот пикантный штрих чрезвычайно понравился. Я даже написала о ней рассказ. Но к тому времени меня давно перестали интриговать пестрые шайки притворно плаксивых смуглянок на вокзалах. Я лишь плотнее прижимала локтем сумку к боку и молча отпихивала их руки в тускло-золотых браслетах. Иногда насмешливо бросала в их сторону: «Отвали, я сама цыганка», – твердо уверенная, что ничего плохого эта братия сделать мне просто не в состоянии.
Однако году в 2008-м, приступая к написанию романа «Белая голубка Кордовы», решила проехаться по тем городам Испании, куда собиралась заслать моего авантюрного героя.
Так в нашем с мужем маршруте возникла Сеговия, с ее грандиозным собором и пряничным, многобашенным, многоарочным замком Алькасар – ни дать ни взять иллюстрацией к сказкам братьев Гримм.
Была суббота, сырой и ветреный ноябрь, время самое неуютное. То и дело припускал холодный острый дождик. Выйдя из Алькасара, мы накинули капюшоны курток и двинулись в поисках какого-нибудь уютного кафе.
Вдруг немного поодаль я заметила прилавок с навесом, на котором разложили свой товар две пожилые грудастые тетки какой-то простоватой внешности. Я решила, что они крестьянки, привезли в город свой товар. И потянула Бориса в сторону их крошечного базарчика.
Тетки торговали льняными вышитыми скатертями. Увидев нас и безошибочно издалека определив туристов, загалдели по-испански, выхватывая с прилавка какие-то салфетки, потрясая ими в воздухе, как флагами, зазывно крича: «Лийна, лийна!»
– Пойдем отсюда, на черта тебе двадцать пятая скатерть! – с досадой проговорил Борис. – К тому же это, кажется, цыгане.
– Да? – весело воскликнула я. – Великолепно! Пойдем посмотрим на испанских цыган. Они благородные – видишь, не попрошайничают, а торговлей занимаются.
Тетки при виде меня страшно воодушевились, кинулись навстречу, еще яростнее потрясая мануфактурой, выкрикивая на испанском: «Лен, чистый лен!» – или что-то вроде этого.
Я приступила к осмотру товаров, отмахиваясь от наседающих цыганок, вытаскивая из стопок скатерти, разворачивая, набрасывая их на деревянные столы, переворачивая вверх изнанкой… Борис стоял рядом с мученическим выражением на лице, какое всегда у него бывает в моменты моего упоения торгом…
Наконец, выбрав большую, жемчужного цвета скатерть, вышитую по краям черными оливками, с идиллическими зелеными веточками, я приступила к торговле. У Бориса сделалось еще более страдальческое лицо: в отличие от меня, выкормыша ташкентских базаров, он вырос на Украине и в те моменты, когда я демонстрирую блистательный талант спускать цену на любой товар вдвое (от помидоров до пятикомнатной квартиры), стыдится меня, как стыдятся в семье запойного алкоголика.
Дождик между тем закапал настойчивей; мы с тетками торговались все азартнее, в отсутствие общего языка хватая с прилавка блокнотик и огрызок карандаша и записывая предлагаемые цены. Наконец более старая и более толстая тетка махнула рукой и нацарапала на листке цифру 40, что-то ворчливо приговаривая…
– Умоляю… – сказал Борис. – Черт уже с ними, купи эту проклятую, не нужную тебе тряпку, плати, и пойдем отсюда!
– Ладно, – с явным сожалением, явно не доторговавшись до своей цены, вздохнула я и вытащила из нагрудного кармана куртки полтинник. С невероятным проворством цыганка выхватила у меня из рук купюру, продолжая что-то бурно и горячо приговаривать, указывая обеими руками куда-то вдаль и одновременно складывая скатерть. Затем откуда-то из-за прилавка выудила пластиковый мешочек и стала в него скатерть энергично запихивать… – словом, демонстрировала, наподобие индийского бога Шивы, какое-то фантастическое количество рук, в одной из которых намертво была зажата купюра в пятьдесят евро.
Наконец большая скатерть была утрамбована в мешочек, который тяжело покачивался на ее протянутой ко мне руке. И вот эта рука оказалась единственной оставшейся.
– А сдача? – предчувствуя нехорошее, осведомилась я. – Десять евро!
Они обе взорвались крикливым потоком испанской речи, указывая на кулек, разводя руками, как рыбак, хвастающийся пойманной рыбой; эти прохиндейки явно доказывали мне, что параметры данной скатерти проходят по другому прейскуранту.
– Десять евро!!! – крикнула я, протянув руку. И на иврите добавила: – Быстро!!!
Далее, как пишут в книжках, события стали развиваться с бешеной и увлекательной скоростью. От меня пятились, мне, завывая, протягивали обе пустые руки, демонстрируя, что с них нечего взять… С другой стороны меня стал хватать за плечи муж, пытаясь вытащить из свалки. Но все это было уже бесполезно: я вошла в штопор, меня сотрясала ярость. И дело, конечно, не в несчастных десяти монетах: просто кому ж охота оставаться в дураках! А мне, похоже, никем иным и не положено было остаться по вечному цыганскому сюжету. Ну уж нет!
Я ринулась на нее, крича по-русски:
– Бабка, сука, я душу из тебя вытрясу!!!
И что-то, очевидно, было в моем лице такое, что старуха отпрянула, что-то залопотала, отскочила за прилавок и принялась швырять в меня салфетками. Видимо, с деньгами она расстаться не могла просто на физическом уровне, не могла выпустить их из руки. И пресловутую сдачу выдавала салфетками.
Я вдруг мгновенно успокоилась.
– Видишь, – сказала я мужу, тяжело дыша, собирая салфетки и уминая их в тот же кулек. – Вот что значит уметь с этой публикой общаться на их языке.
Мы забрали свои трофеи и пошли прочь с поля боя. Между тем вслед нам неслась пламенная цыганская речуга, рокочущая, шипящая, струящаяся по ветру настоящей поэмой.
Мой муж вдруг остановился и сказал:
– Ты только послушай. Нет, ты прислушайся!
А это и в самом деле было красиво и даже величаво. Пожилая толстая цыганка, потрясая кулаками, продолжала что-то кричать нам вслед, и мерные, на слух даже ритмические фразы звучали пугающе торжественно и страстно.
– Она нас проклинает, – проговорил Борис с побелевшим лицом.
Мне тоже стало не по себе, но я бодро воскликнула:
– Ерунда, плевать! Я сама цыганка… Постой, я знаю, что делать. Где наша вода?
Муж достал из рюкзака вечную бутылочку с водой, которую мы по израильской привычке таскаем с собой всегда, даже за границей, даже осенью и зимой. Я не очень точно помнила – что за процедуру надо совершить в случае, когда тебя прокляли: где-то что-то читала или кто-то что-то говорил… Но так же бодро сказала:
– А, да: надо умыться!
И мы, два взрослых человека, прячась от дождя под капюшонами курток, торопливо умылись из бутылочки под странными взглядами прохожих…
– Вот и все, – проговорила я, с катящимися по лицу каплями, глядя на мокрую бороду своего мужа. – Забудь этот идиотский эпизод!
…Я заболела через двадцать минут.
Отвечаю за свои слова: я заболела сразу, бурно, несомненно, с высокой температурой. Более того, у меня заболело сразу ВСЁ – всё, что у людей может болеть в жизни в разное время. Борис дотащил меня до отеля, где я провалялась все три дня, положенные на Сеговию, после чего в полном отчаянии погрузил меня на самолет, – видимо, чтобы я умерла дома, в своей постели…
И хотя я не умерла (все же израильская медицина известна своими немалыми достижениями), но добрых, вернее, совсем недобрых два месяца выкарабкивалась из «цыганской истории», – как ее называл Борис. После чего дала ему крепкое слово не приближаться к этим своим соплеменникам ближе чем на пушечный выстрел.
– Кстати, – запоздало усмехаясь, заметил мой муж. – Должен тебе сказать, что когда ты с ними торговалась, а потом дралась… ну, в общем, не обижайся, но… но все трое вы были ужасно между собой похожи.
С тех пор я слово свое держу: не приближаюсь. Да и цыган-то у нас в Иерусалиме – раз, два и обчелся. Живут они небольшой группкой в Старом городе с незапамятных времен. По виду – совершенные арабы. Ну а я, с другой стороны, кто? Меня в американских аэропортах всегда досматривают с пристрастием, так как похожа я на интеллигентную арабку.
Словом, цыганская тема в моем творчестве себя, что называется, исчерпала… Впрочем…
На днях я выступала в Холоне.
После выступления подходит ко мне женщина и говорит:
– Знаете, я из Томска. У меня к вам «передачка». Моя соседка – она цыганка, зовут Настя. Сидит почти перманентно. На днях вышла после очередного срока, но, конечно, скоро снова сядет. Так вот, им на зону попала ваша книга «Цыганка» и произвела на тамошнюю публику сногсшибательное впечатление. Ну и Настя мне говорит: «Людка, ты в Израи`ль едешь. Найди там Динурубину. Она наша, у нее, понимаешь, родственница – цыганка. Так что передай: если попадет в тюрьму, пусть просится к нам на зону, на нашу 385-ю, строгого режима. А мы ее греть будем, всем поможем, она ведь наша. Так и передай: будет в законе».
Я, понятно, рассмеялась, а потом задумалась: надо же, какая душевная расположенность данной читательской аудитории к данному писателю. Большая честь, как ни крути…
И колобродит во мне эта капля крови, ртутью бежит по венам, сердце греет. Не без улыбки благодарной иногда думаю: а что, не податься ли на нашу 385-ю, строгого режима?
Дина Рубина
Рассказы
Фарфоровые затеи
Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой
Она крошечная, смуглая, иссушенная – словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.
1. Просто жизнь
– Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит… Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка. Настрадалась от добрых людей…
Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю… Ну не хочешь – сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет – это уже не возраст, это эпоха…
…Пойдем сядем на диван… он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упросила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал.
Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во‑вторых, не раскладывается, в‑третьих, он последний».
А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»
…Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да… И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь… Вон любая старуха на лавочке – она тебе интереснее расскажет… Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя вот знаешь что – этому Президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения… Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля – за лодкой, и лает, и стонет… У меня просто сердце разрывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да – и, забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»
Ну скажи – как я могу его после этого не любить?
У меня за него душа болит – вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее. Ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Парни с его двора, говнюки окаянные… Ты как относишься к плохим словам?
– К матерным?
– Ну да.
– Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая.
– А я могу и без них вытерпливать. Немного, но могу.
– …и Раневская ваша вот тоже…
– Да, доктор Бакулев знаменитый однажды пришел к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень… Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял… Пришел, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»
«Александр Николаевич, не сру!»
«Сейчас посмотрим».
«Что – посмотрим?!»
– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопочку… Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы – легенда, так сказать, российского фарфора – дали на нее согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать. А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала…
– …А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый семьдесят лет, – это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота, и – никуда от нее не деться…
– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!
– Чего ты не можешь, дура?! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове…»? А кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе… Дед был – миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе… После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?»… Ну в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»
А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»
– А в Пензе… Там большой дом был?
– Ну домик кой-какой… Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти… Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси. Родился, значит, Оська… И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши.
– А… Саша?
– Саша – это моя мать. Я ее всю жизнь называла – Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.
– Как это – свистела?
– Погоди, не плунтайся под ногами! Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»… Я – про что?.. Да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева… в разные стороны так разбегалась… И тетя Полюся стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: «А мне – ничего»… И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо.
Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальни… тяжелый, сволочь!
– Это вы – чтоб брата зарубить?
– Ну само собой. Да, тащу топор… А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты ночью топор тащишь?» Я говорю: «Оську убить. Помоги мне, я не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать. Грех это. Ежли родился, пускай живет…
– И вы смирились?
– Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то во фраке, не то в смокинге… Кудрявый.
«Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?»
И я ему раскрыла сердце.
«Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец!» Открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отрава, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дороже ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания. Я ведь вообще в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий… Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, теплое, оно так ни-изенько висело… И я подошла и вот так подставила руку, и оно, опушенное какой-то нежной пыльцой, такое… под-лин-ное… оно село мне в руку, улеглось… понимаешь? – не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь. Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шел всеобщий любимец селезень Васька. Шел себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепеленная шейка, глаз такой веселый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шел в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. С добычей отправлялся к своим. Я увидела, что Васька идет в кухню, подумала: не буду мешать, обожду здесь. И села в траву… А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущенно и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй» – и что-то бросила мне в руки – холодное, мокрое. Я вышла на улицу, на свет – разглядеть. Это была Васина головка! Ладонь омочилась его кровью, белая пленка закрыла глазки… Я даже не плакала, я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неописуемой красоты… Я не могу тебе даже объяснить, что это для меня было…
Пауза
– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко. А что революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал… Ваша семья…
– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алупке, в частном пансионе, – у Саши были слабые легкие. Хозяином пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной разбойной бородой. У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где Фрунзе приговорили к смертной казни, Овчинников его отбил.
– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?
– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе…
Ну и отец повез меня на поезде в Алупку, к Саше. Тащились несколько недель, время-то было опасное, глумливое… Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи есть? Выходи!»
Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведете?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот не пригодится ли вам эта вещица? Смотрите, какие драконы великолепные, какая тонкая работа…» Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный отцовскими папиросами, такими… благоуханными, буркнул: «Ладно, проваливайте, пока не смотрю!»…
И мы с отцом бросились бежать… А ту, другую семью, голь перекатную, понятно куда повели…
И вот, не помню уж как – добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, миновали огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная показала ее комнату… Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела.
– Что-что?! Погодите, я н-не совсем…
– Мне было шесть лет… Мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной ее стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И лишь когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела.
Я робко к Саше приблизилась… Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьем в поездах, да еще после того налета спали где попало, скитались по селам, добирались на попутных шарабанах… Можно вообразить, во что превратилась моя и без того всклокоченная голова. Саша склонилась ко мне, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела мыться…
И все это уже было счастьем: дивный парк… Море…
– В те годы там живали многие замечательные люди…
– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы – с 17-го по 25-й – многие интеллигенты скопились в Крыму: в Коктебеле, в пансионах в Алупке, Мисхоре… И Аверченко, и Тэффи, Волошин… Всех не перечтешь – очень благородная публика. Я при них там крутилась. И еще были дети…
Мы учились там, знаешь? Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева. Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас все это был пустой звук, мы были маленькие невежды.
Да, Хотяинцева… Она поставила вазу на лавку, и в вазе три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны…
«Где ты их увидела?» – спросила меня Хотяинцева.
«А мне так хочется!»
Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».
– Угадала…
– Да, вот такие люди… Поэтому-то и говорю таким языком – их языком… А Саша… она божественно свистела!
– Да что это значит, наконец?!
– Пока Саша была в Италии, кто-то научил ее свистеть, не открывая рта. Казалось, звуки льются прямо из души.
Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невеждой!» …Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья… А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, все надеялись… Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с…»
– Сколько же километров вы отмахивали?
– До Мисхора не так много… Каждый день в оба конца… Саша делала все, чтобы занять меня, отвлечь от еды.
– А голодное было время?
– Совсем голодное… Опухшие трупы на улицах.
Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» – «Как это – «мимо?» – удивилась она. «Ну вот я расту себе, пью, гуляю… а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»
И как раз в этот вечер… эта опустошенность – как вылетала из окна легкая тюлевая занавеска. И ни единого звука… «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с…» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.
– Сколько вы пробыли в Крыму?
– В 21-м году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сначала в Алупке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра. Потом приехал ее муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву… двадцать четыре дня.
– В Москву – двадцать четыре дня?!
– Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался…
– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?..
– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошел совсем молодой, хорошенький такой… У него вот тут, на руке, висели сумки… Навел на меня дрожащий пистолет… кажется, он сам его боялся… сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!»… Повращал глазами и ушел. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..
– Ну а когда добрались в Москву?
– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптура? Моя бабушка… Вот такая она сидела: величавая красавица рыжая, с рыжим котом на руках, у ног черный пудель, а на нем верхом сидел маленький королек-петушок. У него там было гнездо, на пуделе. Это первое мое впечатление в Москве… Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.
– А где вы там жили?
– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился. В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены… сам Елоховский, правда, не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение, особенно в Страстной четверг.
– Вас крестили?
– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет, что будет. Пусть нас вышлют». Но никто нас больше не тронул.
– В какой школе вы учились?
– В девятой, имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?
И праздники отмечали как-то смешно. Помню Женский праздник. Зал набит такими интеллигентными благоухающими дамами.
– А это женская школа была?









































