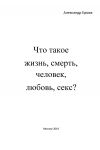Текст книги "Одинокий пишущий человек"

Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
После романа…
Закончив книгу, ты сбрасываешь её, как старую надоевшую шкуру.
Отработанные темы и образы романа, связанные с ним мысли тебя уже не волнуют. Книга вышла, затвердела в некоем вневременном пространстве, и писателя даже раздражает, когда кто-то пытается вернуть мир завершённой книги в сферу его внимания.
После выхода романа «На солнечной стороне улицы» многие ташкентцы стали присылать мне свои воспоминания, замечания, размышления о родном городе. Это роман встряхнул их, встрепенул, обновил ощущения важности собственной жизни, драгоценности собственных воспоминаний.
Не могу передать, как это меня раздражало. Я писала этот роман двадцать шесть лет, с перерывами, – и отныне ташкентская тема меня не только не интересовала, но страшно мешала, ибо в то время я уже обдумывала и начинала писать роман «Почерк Леонардо», в котором меня ждали Киев, Монреаль и Франкфурт, провидчество, оптика, зеркальные фокусы, иллюзионы, мотоциклы и цирк – целая вселенная другого романа, новые ошеломительные миры, и каждый требовал целиком всей моей жизни, памяти, времени и напряжённой работы воображения.
Но у читателей моего «ташкентского» романа только начался охотничий сезон, и они жаждали ПРАВДЫ. Они рисовали планы улиц, присылали ценные поправки с указаниями, до какого года на самом деле пятый трамвай шёл по улице Жуковской. Они донимали меня воспоминаниями о своём родном городе, о великом Городе их детства и юности, о Городе великого братства белых колонизаторов…
«Вы многое верно подметили, – писал мне какой-нибудь Мотель Эльевич, ныне проживающий в Майами, – но я хотел бы поправить вас в том, что касается крупных предприятий текстильной промышленности, где я проработал сорок лет заведующим отдела ОТК».
Я, уроженка Ташкента, человек вежливый, особенно к своим читателям, терпеливо отвечала на их письма, писала и писала благодарности и всякую ничего не значащую хрень. Хотя сказать мне хотелось только одно: «Дорогие земляки, оставьте меня в покое со своими воспоминаниями о ташкентских горлинках, которые так по-особенному ворковали на рассвете! Сейчас мне плевать, куда шёл третий или пятый трамвай и заворачивал ли он на улицу Маломирабатскую! Сейчас меня интересует совсем другое!»
Время наносит свои отметины и шрамы…
…не только на наши лица и тела, но и на облики наших родных городов. Хотя верно и то, что с Ташкентом произошла метаморфоза кардинальная: распался Советский Союз, который объединял – плохо ли, хорошо ли – народы, живущие во всех подвластных ему республиках. В империи, любой, самое важное, чтобы даже в глухой провинции у моря народы жили мирно, платя кесарю его дань. Мы жили мирно, мы платили исправно…
Когда Союз покатился в тартарары, распались и человеческие, и житейские связи, вообще «распалась связь времён». Недавно, спустя много лет, я побывала в Ташкенте. Очень чистый зелёный город с прекрасно благоустроенными и полностью перестроенными базарами. Там и тут возвышались великолепные, облицованные мрамором не знакомые мне здания. И никакой благословенной пестроты лиц, ни гортанной радости множества акцентов в гуле уличной толпы, ни блаженной расслабленности, воли сообщества людей, живущих вдали от жёсткой руки столичных властей. И горлинок за окнами роскошного отеля я не услышала на рассвете. Я написала тот роман, и мой Ташкент, как затонувшая Атлантида, ушёл на дно моей памяти и там пребывает в лучах ослепительного солнца.
«Из дому надо выходить с запасом тепла…» – говорит одна из героинь моего романа. И чуть ли не в каждом интервью, посвящённом этой книге, звучала эта фраза, поднятая на вершину афористическую.
Афоризмы – это изюм литературы. Они высушиваются от лишней влаги и доводятся до кондиции самой биографией писателя. Они не только многажды обдуманы, но даже порядок слов в них трижды заменён и вновь возвращён на место. Авторский афоризм – золотой запас творчества. А выглядит – как тот самый экспромт, о котором Пушкин говорил, что он должен быть тщательно продуман.
На самом деле те самые слова пробурчала в телефонную трубку мой консерваторский профессор Галина Николаевна Дубровская. Вот уж фигура была – одинокая, странная, диковатая и суровая! Я боялась её почти так же, как боялась отца. Ученица Владимира Софроницкого, она передавала нам принципы и стиль пианистического мастерства не московской, а ленинградской школы. Тощая, высохшая, морщинистая, с цигаркой в уголке рта, вечная старая дева, посвятившая себя Музыке и ученикам, – она не понимала и не принимала ни единой причины, чем-то мешающей Учёбе.
С содроганием вспоминаю случай, который давно уже не пересказываю никому, но время от времени вижу во сне с пугающей ясностью.
Мой сын родился тридцатого июня, а годовой экзамен за второй курс консерватории был назначен на двадцать шестое июня. Годовой экзамен – это не бирюльки, штука серьёзная, программа обширная и обязательная: полифоническое произведение, крупная форма (концерт или соната), технически сложные этюд и пьеса. Я дохаживала, вернее, переваливалась уткой последние дни до родов и уже не чаяла сдать оба этих экзамена, по крайней мере, освободиться от брюха, которое не давало приблизиться к клавиатуре. В один из поздних вечеров незадолго до экзамена – я уже собиралась ложиться, – раздался звонок телефона.
«Прибегай немедленно! – услышала я прокуренный голос моего личного дракона. – Мне удалось захватить зал на репетицию. Живо!»
За актовым залом накануне экзаменов охотились (для генеральных прогонов программы) все преподаватели и студенты. Но никому, кроме Дубровской, не пришло бы в голову назначить репетицию на двенадцать ночи. Не говоря уже о том, что «прибежать» я никак не могла, могла с грехом пополам притащить своё брюхо.
«Галина Николаевна… – умоляюще пробормотала я, – только из душа… у меня волосы мокрые».
«Что за чушь! – взревела она на том конце провода и шумно выдохнула папиросный дым. – Хватит болтать, обмотай полотенцем голову и живо сюда, время пошло!»
И я обмотала голову полотенцем и пошла, вернее, потащилась через тёмный Алайский, с его заколоченными на ночь лавками и страшными пустыми рядами, влача по ночным переулкам и тупикам своё девятимесячное брюхо, стуча зубами от страха – навстречу смерти, ибо, как и многие первородящие, была уверена, что умру от родов.
Так вот, перед тем как опустить трубку на рычаг, мой профессор, дьявол её побери, веля одеться потеплее, произнесла ту самую руководящую фразу: «Из дому надо выходить с запасом тепла!»
…ту самую фразу, которая спустя тридцать лет была извлечена из пыльной кладовки памяти, отчищена, проветрена, подштопана там, где её побила моль; осветлена и окроплена грустью и нежностью (обычные писательские манипуляции в приготовлении фирменных блюд) – и оказалась весьма и весьма уместной в романе.
А теперь выясним отношения
Первое, что я помню в своей жизни: виноградная беседка во дворе бабушкиного дома. Видимо, я лежала там на кровати и смотрела вверх, откуда сквозь узор виноградных листьев прыскали фиолетовые снопы солнечного света. Тяжёлые чёрные грозди винограда свисали с глубины синего неба. Я в этом выросла, и ослепительность летнего дня была для меня столь же естественна, как для жителя Чукотки – снежный наст на дорогах. Но от приезжих людей много раз слышала о впечатлении, производимом лавиной этого света, благословенной истомой летней жары, неохватных курганов арбузов и дынь, источавших пряные запахи Востока.
Дети Юга, мы по-настоящему знаем толк в понятии «свет», потому что светом с детства насыщено наше зрение, кровь и воображение.
Я слегка теряюсь, когда меня спрашивают о Родине, подразумевая Россию. Не то чтобы в этом вопросе я чуралась высоких слов. В современном мире все где-то родились, и не обязательно там, где пригодились, а мир так изменчив, границы так ненадёжны и взрывоопасны. Казалось бы, пора и подготовиться, выстроить свой ответ, привести какую-нибудь убедительную цитату. Что-нибудь такое:
«Я не мог ответить, почему покинул родину, так как не покидал её никогда» (Марек Хласко).
Или совсем противоположное по смыслу:
«Когда-нибудь слово «родина» исчезнет. Люди оглянутся назад, на нас, увидят, как мы жались между границ, как убивали друг друга из-за чёрточки на карте, и скажут: вот дураки-то были» (Марио Варгас Льоса).
Нет, с этим я не согласна. Вовсе необязательно убивать кого-то, чтобы потеряться на карте среди когда-то родных, но иных уже улиц, среди новых, незнакомых тебе лиц.
Писатель внутренне сопротивляется, когда его приписывают к какому-либо ведомству, ибо не носит на лацкане своей личности ярлык, как носят брошку или орден. Он может быть не только гражданином своей страны, не только гражданином мира, но и гражданином прошлого или будущего, прожитого им в его книгах. Он может быть гражданином сразу нескольких сочинённых им стран… «Паспорт писателя – его стиль» (В. Набоков).
Любой серьёзный писатель – явление очень сложное. У него много лиц, несколько этапов творчества, он зависим от пространства, где живёт, и от многих мест, куда попадает, путешествуя. Зависит от своей родни и ощущения своих национальных истоков и в то же время намертво спаян с культурой, в которой воспитан. Помимо прочего, для него важна такая штука, как настроение (чёрт разберёт, что это такое применительно к данной личности), и настроение это постоянно находится в зоне штормовой погоды, так как зависит от замысла будущей книги, в которой писатель всегда хочет ускользнуть от себя – предыдущего.
«У меня нет принципов, – говорил Акутагава, – у меня только нервы».
Для меня слово «Родина» звучит несколько общо, несколько более расплывчато и грандиозно, чем я это чувствую. Оно не так сурово, как военнообязанное, краснознамённое слово «Отчизна», но всё равно отдаёт пионерским салютом, лагерными вышками, пригородным цементным заводом и торжественной клятвой. К тому же оно плохо гнётся и не укладывается в детской памяти. И в самом деле, что означает в географическом воплощении «шестая часть земли»? «Там хмурые леса стоят в своей рванине. Уйдя из точки «А», там поезд на равнине стремится в точку «Б». Которой нет в помине» (И. Бродский). Зябковато представить эту махину и страшно вообразить свою сиротливую фигурку в просвисте необозримых земель. Но стоит лишь произнести «мой город» – и дело меняется, налаживается жизнь, улучшается климат… И прямо в руки мне скатывается полосатый арбуз, в который вонзается нож, вырезающий лично для меня алый сахаристый конус с чёрными скользкими косточками: «Пробий, кизимкя! Сахарни-мьё-о-д!» Лицо у торговца загорелое-молодое; чёрная, в белых огурцах тюбетейка на бритой голове, зубы белее школьного мела: «Ай, чиройли кизимкя!» (красивая девочка!) Какой острый нож, какой сладкий арбуз, какая сладкая ранящая боль воспоминаний!..
Всё это роднее писателю, чем некое заповедное слово, пусть даже оно пишется с заглавной буквы.
Глава третья
Странный человек, сочиняющий истории
Я стал литератором потому, что автор редко встречается со своими клиентами и не должен прилично одеваться.
Бернард Шоу
– В одном из своих интервью вы признались, что «прозаик Дина Рубина» – некий персонаж, созданный вами же. Эта маска вам необходима? Что вы скрываете за ней – личную жизнь, писательскую кухню, привязанности, фобии ?
– Маска нужна любому человеку, без неё мы беззащитны и обнажены, как в бане. Видите ли, писатель, даже известный, это не рок-певец или шоувумен; наша профессия тихая, закрытая. И всё равно досужий до пустяков и сплетен мир валится на тебя ежедневно. Приходится защищаться… Если сколько-нибудь известный писатель к определённому возрасту не создал свою защитную «публичную личину», а щеголяет перед читателями, грубо говоря, в затрапезной пижаме или семейных трусах, то он либо открытый всем ветрам алкоголик, либо идиот. Разумеется, встречаются в нашем деле особо отважные и, что называется, «искренние люди», но мне всегда казалось, что это не от большого ума. Ум всё-таки предполагает стремление к защищённости в частной жизни.
Например, в домашнем обиходе я – молчаливый и довольно угрюмый персонаж, как ни трудно в это поверить. Могу целыми днями не произнести ни слова. Одинокий пишущий человек изначально странен и, как бы это помягче выразиться, диковат: его распирает постоянная внутренняя работа, ведь писатель – это такая мощная перерабатывающая установка, производящая ценные изделия из вторсырья. Его внутренний мир населён и перенаселён разными лицами, ситуациями, судьбами. Глубинные проблемы его личности разрешаются только на листе бумаги или на экране компа. Пребывая под вечным напряжением, писатель – в меру сил и нервов – отвлекается на собственную жизнь. Он, конечно, может быть душевным, добрым и интеллигентным… но крайне редко. У Набокова где-то есть меткая фраза о человеке «с глазами слишком добрыми для хорошего писателя».
Всё это не обязательно знать посторонним или, как я мысленно их называю, «внешним людям». И потому, когда приходит время выйти на публику, я выхожу, улыбаюсь, шучу, оживлённо отвечаю на вопросы читателей и журналистов. Это часть моей работы, и я её выполняю – под изрядным, повторяю, напряжением. Работаю – как вы сказали? – да: «прозаиком Диной Рубиной».
Как пишутся эти проклятые книги
Однажды я где-то вычитала признание известного артиста: чудовищность актёрской профессии, писал он, в том, что, переживая сильный драматический момент, например похороны близкого друга, актёр непременно думает о том, как бы это состояние запомнить и затем достоверно сыграть.
Очень точное наблюдение. У актёров – запомнить, чтобы сыграть, у писателя – запомнить, чтобы запечатлеть. Польский писатель Марек Хласко заметил как-то: для того чтобы писать книги, надо полностью потерять стыд; писательство, говорил он, – штука более интимная, чем постель.
Увы, это так. Мозг писателя, все органы его чувств – это такая независимая от носителя нравственных принципов рентгеновская установка, которая просвечивает всё, что попадает в поле её излучения. Писатель, прежде всего, рыщущий сюжетов волк.
Вот типичная ситуация:
Вы встретились в кафе с другом-писателем, чтобы выговориться перед ним. Вы переживаете тяжёлый период в жизни – разводитесь с женой, делите имущество и детей, встречаетесь с адвокатами… В общем, свет вам не мил, и только совет друга – писателя, инженера человеческих душ (!) – призван как-то облегчить душевную боль.
Инженер человеческих душ сидит напротив вас с искренним лицом, участливо качает головой, хмурит брови, цокает языком. Впечатление, что он полностью погружён в ваши проблемы, глубоко сочувствует и напряжённо ищет, чем бы вам помочь.
Боюсь вас огорчить: мозг его в те же минуты с безжалостной точностью фиксирует не только все детали вашей «вкусной» истории, не только все слова-обиды вашей супруги, но и выражение вашего расстроенного лица, и то, что утром вы посадили на рукав рубашки две капли кофе, а левую щёку выбрили не так тщательно, как правую. Краем глаза он видит, как за соседним столиком бодро щёлкает по клавишам лэптопа молодой человек, похмыкивая и припрыгивая то на одной, то на другой ягодице. Замечает, с какой нежностью клюнул того в щёку другой молодой человек, проходящий мимо… Он запоминает, что задница молодой официантки похожа на ступеньку, а брови она выщипала так тонко, что поверху пришлось рисовать карандашом вторую пару бровей.
Но, главным образом, в эти вот минуты вашей душераздирающей исповеди он обдумывает диалог двух героев из своей повести, которых минуту назад решил посадить в такое же кафе: хорошая нейтральная обстановка для трагической новости.
«Тогда я ей говорю… – бубните вы с несчастным лицом. – Хорошо, ты не желаешь разводиться как цивилизованные люди, будем разводиться со скандалом, и всё это отразится на детях».
«Это ужасно! Просто ужасно! – пылко и сочувственно произносит ваш друг-писатель. – Извини, покину тебя на минутку…» – и ушмыгивает в туалет, где достаёт блокнотик, ручку и, притулившись к раковине и игнорируя людей, моющих руки чуть ли не перед его носом, записывает: «двойные брови… жопа ступенькой… два нежных гомика… развод с несчастным полубритым лицом».
Через две минуты писатель выходит из туалета, пытаясь скрыть своё прекрасное настроение, ибо тот диалог двух героев, который утром был совершенно провален, сейчас сложился от начала до конца, как и вся сюжетная линия. «Да, шикарно небритая щека! – думает он, мысленно ликуя. – Шикарно!» А если что и заботит его, так только одно: в туалете он забыл отлить, и теперь нужно как-то объяснить свою вторую отлучку минут через пять… внезапным, скажем, циститом.
Вот как-то так, примерно. Прошу прощения.
Вообще, в качестве друга писатель пребывает ниже всякой критики. Хотя бы потому, что не может по первому зову «бросить всё и мчаться ради друга» куда-то там, неважно куда. Он ещё не закончил главу, куда ему мчаться?! Но он с удовольствием поболтает с вами по телефону вечерком, особенно если вы можете разъяснить кое-что по вашей профессии, что как раз понадобилось ему для новой книги. А уж если вы вернулись с Малых Антильских островов или с побережья Белого моря, переполненный впечатлениями и разными забавными случаями, то, будьте уверены, он нанесёт вам визит непременно, сегодня же! И, слушая ваши рассказы, ревниво предупредит, чтобы вы держали язык за зубами до среды, когда он снова приедет, уже с диктофоном, и всё запишет. «Не растрачивай рассказчицкого пыла перед всякими болванами! – говорит писатель. – И вообще, помалкивай. В среду повторишь всё свежаком, как в первый раз».
«Конечно, люди живут не для того, чтобы о них писали книги. Но всё же у меня отношение к людям производственное, я хочу, чтобы они что-то делали» (Виктор Шкловский).
Лёгких людей среди талантливых художников я пока не встречала. А большой талант – это вообще аномалия: он занимает в пространстве личности так много места и веса, что явный крен виден любому издалека. Человечество как объект любви мало заботит писателя. Да и невозможно любить человечество, похлопывая того по плечу. Писатель не миссионер в джунглях. Писатель всю жизнь занимается описанием пороков и добродетелей, что, в принципе, одно и то же (как ткань с лицевой и оборотной стороны). Он не может испытывать абстрактную «любовь к людям», не будучи святым человеком (то есть полным идиотом).
Нет, поймите меня правильно: писатель может участвовать в благотворительном вечере по сбору средств для больных какой-нибудь тяжёлой болезнью, но было бы крайне глупо ждать от него, что он станет дежурить по ночам у постели одного из таких больных. И не звоните вы ему каждый понедельник, приглашая на бесконечную вереницу подобных благотворительных подвигов. Не садитесь ему на голову! Эта голова предназначена для седалища его музы, в трепетном ожидании которой он пребывает ежеминутно.
Творчество накладывает на писателя свою неумолимую печать. Это своеобразное глубоководное погружение в материал, гулкое уединение мысли, умение быть и договариваться с самим собой похоже на артрит, уродующий суставы и выворачивающий наши конечности. Встречала я, конечно, и творцов, что выглядят вполне «нормальными людьми» – на первый взгляд. Второй взгляд бросать на такого не рекомендую.
Замечательный поэт Елена Игнатова рассказывала мне, посмеиваясь, как однажды много лет назад, в ленинградской молодости, её пригласил в гости Сергей Довлатов. Когда она пришла, за столом уже сидели и молча глазели на неё две юные девы. Они не встревали в разговоры, не проронили за вечер ни слова, смотрели на Лену внимательно и даже как-то опасливо. Это было не слишком уютное ощущение. Когда поздним вечером все трое вышли к остановке автобуса и Лена поинтересовалась – кто они и как оказались у Сергея, те признались, что Довлатов пригласил обеих «посмотреть на совершенно нормального поэта» – с условием, что те будут весь вечер молчать.
Но это не значит, что писателя надо обходить за версту или проклясть его со всеми его творческими потрохами. Просто, общаясь с этой редкой птицей, надо помнить, что писатель – прежде всего инструмент, предназначенный для создания текстов. Он всего лишь инструмент: тонкий, капризный, требующий постоянного заботливого ухода. Ради правды, художественной правды, он без тени сомнения пойдёт на чудовищный обман. И потому все мы – люди тяжёлые и эгоистичные, душевно одинокие люди, погружённые в себя и в свою работу. Поневоле угнетающие тех, с кем живём.
Но мы и самые счастливые из живущих существ: ведь только в наших силах воссоздать своё время, остановить мгновение, творить миры, вдыхая жизнь и вливая кровь в призрачных гомункулов. И в работе своей – любить, ненавидеть, сострадать, переживать бурю страстей, не выходя за порог своего кабинета. Иными словами, нам дано проживать десятки, а то и сотни жизней.
Такая вот профессия.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?