Читать книгу "Книга узоров"
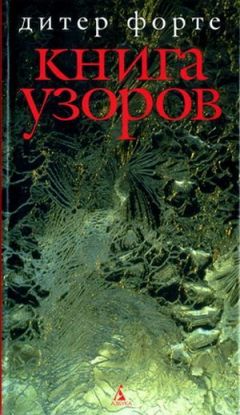
Автор книги: Дитер Форте
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
30
Павел, старший брат Йозефа Лукаша, был неграмотен. Своей земли у него не было, он служил конюхом в господской усадьбе, за это ему полагался небольшой огородик, и в нем он выращивал табак, который холил и лелеял не меньше, чем своих лошадей. Этот табак он приготовлял одному ему известным способом, набивал им свою длинную трубку, ту трубку, которую никогда не выпускал изо рта, которую знала вся деревня, и была эта трубка единственной вещью, которая ему принадлежала.
Как-то на Троицу он был в церкви на воскресной проповеди. Когда священник сказал, что-де Слово Божье – в нас, у него не то чтобы озарение случилось, но просто эти слова никак не шли у него из головы, они просто застряли в ней, как кол. Он никак не мог взять в толк, как это так: Слово Божье – в нем, и поэтому однажды воскресным утром начистил сапоги и отправился в путь – к дому священника.
Священнику было хорошо известно, что Павел со знанием дела только о лошадях говорить может, а со Словом Божьим у него, к сожалению, похуже дело обстояло, поэтому он указал ему на большую Библию, которая лежала у него на бюро, и Павел углубился в чтение. Павел был потрясен тем, что на каждой странице этой книги, когда ее листаешь, встречаются все новые и новые значки, которые священник называл буквами, но на самом деле они-то и были Словом Божьим, и Павел принялся увлеченно изучать эти странные значки.
Отныне он каждое воскресенье являлся в дом священника, становился возле бюро и читал Библию. Все привыкли к этому, и уже само собой разумелось, что по воскресеньям приходит Павел читать Библию, пока в один прекрасный день Павел, который до сих пор не в состоянии был прочитать ни письмо, ни какую другую бумажку, с серьезным, истовым видом заверил священника, что теперь он понимает Слово Божье. Священник устроил Павлу проверку, он тыкал пальцем в разные места Евангелия, при этом выяснилось, что Павел толкует сумятицу чудесных знаков как-то по-своему, неведомым для священника образом. Павел, с просветленным лицом, читал громко, уверенным голосом на каком-то странном языке, который явно был понятен только ему одному.
Священник прогнал его прочь, но Павел на этом не успокоился и продолжал проповедовать Слово Божье в захудалом деревенском трактире, откуда его также вышвырнули. Тогда он, одержимый своей верой, стал обходить дом за домом и одну деревню за другой и всюду провозглашал он Слово Божье на своем необычном языке, который так и остался для всех загадкой, а для простых людей он с величайшим терпением и доброжелательностью переводил все на польский язык. Так что постепенно он приобретал все больше и больше сторонников, которые прекрасно понимали Слово Божье в изложении Павла, тогда как прежде оно им не открывалось.
Когда у Павла появилась своя обширная паства и он стал во всеуслышанье проповедовать на деревенских площадях, явился некий чиновник из города и попытался помешать ему во время проповеди, но Павел уже хорошо овладел своим языком и отвечал чиновнику короткими, чеканными фразами, на которые тот ничего возразить не мог, поскольку не понимал ни слова. Чиновник послал письмо в Познань, начальству. В письме он описывал сей странный случай, особо подчеркивая то, что речь идет не о польском, русском, украинском, венгерском или немецком и даже не о латинском, греческом, еврейском или арамейском, в чем заверил его священник. Вне всякого сомнения, он столкнулся с языком, на котором говорит только этот самый Павел, и больше никто.
Павел сделался теперь явным соперником священника, и число его сторонников заметно увеличилось, когда он прибег к смелому новшеству: он стал проповедовать своей пастве скорое наступление рая на земле. Верные ему апостолы, ближайшие его сторонники, тут же переводили его проповеди на польский, русский и немецкий языки, переписывали и распространяли их, поэтому число верующих, совершавших паломничество в ту деревню, где Павел проповедовал, росло, и каждое воскресенье их собиралось все больше и больше. Церковь опустела, а Павел перед огромной толпой собравшихся провозглашал грядущий рай.
Павел служил, как известно, конюхом и хорошо знал, что лошади, когда наработаются, всегда хотят пить. Помня об этом, он однажды воскресным утром взял топор и прорубил дыры в пивных бочках, что стояли у пивоварни на краю деревни. Пиво, хлынувшее из бочек, он пустил в русло ручья, который тек по деревне, и указал на это явление своим сторонникам как на знак свыше. Веселья в этот день было хоть отбавляй.
Зато в следующее воскресенье царило уныние, люди начали уже было роптать, и тогда Павел решился украсть в соседнем имении несколько бочек шнапса и привез их на телеге в деревню. Он хотел объявить эту жидкость священной и на глазах изумленных сторонников вылить содержимое бочек в деревенский пруд.
Однако, увлеченный сотворением чуда, он, по всей видимости, сильно недооценил свойства алкоголя, содержавшегося в святой воде. Когда он, со своей извечной трубкой в зубах, склонился над только что успешно проделанным в бочке отверстием, раздался взрыв, вспыхнул гигантский огненный шар, и с тех пор Павла больше никто никогда не видел.
Сторонники еще долго хранили ему верность, ведь рай-то он предсказал правильно, правда, к сожалению, только для себя одного, ну так он там теперь и находится.
31
Изерлон был маленький, кособокий, стиснутый кольцом городской стены и разрастающийся вокруг нее древний городишко, окруженный скудной, угрюмой растительностью. В Европе он был известен благодаря иногородней торговле, которую вели кланы крупных торговцев. Изерлонские купцы колесили по городам и ярмаркам, покупая товары в одном месте и перепродавая их в другом, минуя сам Изерлон. Торговлей такого рода занимались только изерлонцы, известные торговые дома Изерлона перемещали таким образом большие партии товара от производителей – на ярмарки, от продавца – к покупателю, экономя при этом на том, что им не требовались складские помещения.
У Жана Поля Фонтана сохранились старые связи с этими торговцами, которые часто покупали шелк в Лионе, а затем перепродавали его на Франкфуртской ярмарке лондонским и амстердамским купцам. Когда родственник семьи Хоффманов из Базеля, Кристоф Мериан, который занимался наймом гугенотов во Франкфурте-на-Майне по поручению курфюрста Бранденбургского, предложил семейству Фонтана Изерлон как место для будущей мануфактуры, Жан Поль не возражал. Этот город в графстве Маркония отошел, по словам Мериана, к Бранденбургу после долгого спора о наследстве, который чуть было не перерос в войну, и уже несколько лет принадлежал курфюрсту. Поэтому курфюрст был крайне заинтересован в том, чтобы всемерно поддерживать развитие экономики в этом медвежьем углу. Это желание, исходящее из далекого Берлина, совпадало с мечтами изерлонских купцов, настроенных на то, чтобы помимо традиционной для тех мест металлургической промышленности у них развивалась еще какая-нибудь отрасль и рискованная торговля вдали от дома имела бы солидные тылы. Вот почему они с таким рвением заботились о французских ткачах-беженцах, странствовавших по Европе. Они старались заманить ткачей еще и потому, что во время великого пожара в 1685 году, за четыре дня до Рождества, Изерлон был почти полностью уничтожен и его нужно было отстраивать заново. И вот, после долгих размышлений и колебаний Фонтана решили не вливаться в общий поток беженцев, направляющихся в Берлин, а начать все заново в Изерлоне. Жанно, которому больше всего нравилось колесить по Европе и который уже практически принял предложение базельца Хоффмана представлять его товары на ярмарках, был против Изерлона. Жак в обсуждении старался вообще не участвовать, он в любом случае не собирался оставаться в Изерлоне, его целью был Амстердам. Решающую роль сыграло пристрастие Жана Поля к технике, он надеялся усовершенствовать новые ткацкие станки в сотрудничестве с изерлонскими металлообработчиками и создать новые машины. Так семейство Фонтана, снабженное паспортами и охранной грамотой курфюрста Бранденбургского, после нескольких месяцев пребывания в Базеле отправилось в Изерлон.
Что в Изерлоне никогда не будут расти тутовые деревья, Жану Полю стало ясно сразу, как только они прибыли. Но он никак не мог предвидеть, что, несмотря на гарантии и привилегии, дарованные курфюрстом, несмотря на интерес со стороны изерлонских торговцев и поддержку маленькой реформированной общины, фирме суждено было становиться на ноги с таким трудом. Население воспринимало французов как вражеских завоевателей, как чужаков, которые к тому же говорили на чужом языке и принесли с собой неведомое ремесло, которым раньше здесь никогда никто не занимался. Хотя шелковое ткачество не находилось под цеховым гнетом и им мог заниматься всякий, но цеха местных ремесленников противились всему новому и неизвестному. Им били стекла в окнах, вываливали перед дверьми дома тачки с нечистотами. Когда Жан Поль изготовил наконец новый станок и хотел было начать работу, его дом подожгли. Если бы изерлонские купцы не были очень заинтересованы в успехе ткачей, Фонтана не выдержали бы этих первых лет и уехали. Но их жизнь здесь все равно нельзя было назвать достойным существованием. Они оставались чужаками в этом городе, на радость тупоголовым обывателям, которые наконец-то нашли применение своим высохшим мозгам – возможность излить всю свою ненависть, злобу и ожесточение. Французы-гугеноты построили свою собственную церковь, свою школу, но они так и остались в своем замкнутом кругу, продолжали говорить между собой по-французски, заключали браки только между собой, держались веры и обычаев своей родины, оставались верны своему ремеслу и, окруженные враждебностью и непониманием, жили словно в каком-то гетто. Сопротивление и терпение!
32
Кто ты, парнишка? Я – поляк!
Белый орел – мой тайный знак.
Эти слова они выкрикивали по-немецки. Кричали хором, стоя прямо под окнами школы, чтобы позлить учителей, которые им это запретили, и чтобы иметь повод подраться с одноклассниками-немцами, которые, впрочем, понимали эти слова и по-польски. Дома они выкрикивали их, разумеется, по-польски или, если приезжали родственники, то и по-русски. Какие-нибудь родственники всегда были, их было необозримо много, и, рассеянные по всей Польше, они испытывали неутолимую потребность приезжать в гости.
Детские воспоминания Йозефа складывались в непрерывную череду фигур: это были дядья и тетки, которые чинно сидели в горнице и оживленно переговаривались. Брат отца из Лодзи ругал русских, другой брат – из Лемберга – ругал австрийцев, его отец бранил на чем свет стоит прусские власти в Познани. Так что у них было о чем поговорить – тема неисчерпаемая. А когда приезжали родственники матери из Кракова да еще привозили с собой богемскую родню – вот тогда споры разгорались вовсю. Мать нарочно садилась под образом Черной Мадонны Ченстоховской, который висел в горнице, непостижимый, как всегда. Родня тесным кружком размещалась вокруг нее, у женщин в руках были четки, которые они перебирали с громким стуком, когда брань становилась совсем уж немилосердной; мужчины все в черных жилетках, на животах сияют толстые цепочки для часов, они рассудительны, осмотрительны и спокойны даже в тот момент, когда стучат кулаком по столу.
Кто-нибудь один в семье всегда становился священником, люди копили для этого деньги, куска недоедали, поколение без священника считалось позором. Вся родня делилась на два лагеря, которые на крестинах, свадьбах и похоронах непременно сталкивались. Одни возносили хвалы Иисусу Христу, другие заводили речь о конгрессе, забастовках и восстании.
Маленький Йозеф скучал. Он любил белого орла и мечтал хоть раз увидеть его над заливным лугом, чтобы гот царственно и беззвучно парил между небом и землей, белый как снег. Сюда, на отмель, он приходил каждый день. До чего приятно было бродить босыми ногами по теплой воде, искать лягушек под прибрежными кочками, замерев, стоять в зарослях тростника до тех пор, пока не удастся наконец схватить рыбину и рывком выбросить ее на берег, или лежать на плоском дне челнока и неподвижно смотреть в небо, и чтобы вода слегка почмокивала.
Единственный человек, которого он брал сюда с собой, был дядя Станислаус. Дядя Станислаус приезжал из Богемии и был любимым братом матери. У этого высокого брюнета с большой окладистой бородой были какие-то дела в местной пивоварне. Он играл на кларнете, его все любили, и когда он приезжал в гости, то уже через четверть часа заговорщически подмигивал Йозефу, и они оба, крадучись, пробирались на заливной луг, потому что Станислаус не мог больше сносить весь этот проклятый сброд – а именно так называл он рассуждающих родственников. Он любил помолчать да рыбку половить. Йозеф прекрасно знал места, где любит стоять рыба, и показывал дяде самые лучшие омуты. И вот они сидели вдвоем, поглядывая то друг на друга, то на воду и обсуждая достоинства каждой рыбины, которую удавалось вытащить.
Часа через два Станислаус вставал, натягивал свою желтую куртку, вынимал серебряные карманные часы и говорил: «Вот и славно». Йозеф вел его через недавно заложенные поля хмеля и табака, которые приносили деревне доход. Станислаус ощипывал шишечки хмеля, разминал их неторопливо, нюхал, срывал с жердей вьюнок, эту дьявольскую бесполезную паутину, и только тогда обращал свое внимание на табак. А под конец, в некотором недоумении качая головой, стоял перед виноградниками, которые тоже только что заложили, – самые северные виноградники в Европе, как торжествующе провозгласил директор школы. Станислаус считал, что это глупость: варили люди пиво – вот пива и надо держаться.
После этого в сумерках он долго еще стоял с отцом Йозефа на крыльце и что-то обсуждал насчет центнеров и серебряных грошей. Потом они наконец-то ударяли по рукам, и тогда начинался праздник, которого все так ждали.
33
Банкир Жак покинул Изерлон уже через год и отправился дальше, в Амстердам. Имея обширные связи, он был полезен для дела именно там. Потом, через несколько лет, он переехал в Лондон, где и осел окончательно, женился на англичанке, снова стал совладельцем банка и безраздельно посвятил себя финансам. Он так успешно занимался биржевыми манипуляциями, что вскоре сделался одним из самых почтенных членов гильдии финансистов. Один из его сыновей выстроил в Лондоне отель, которым очень ловко управлял, другой позже переехал в Берлин и стал служить советником по созданию Прусского морского торгового представительства.
Жанно тоже недолго терпел изерлонскую жизнь. Еще от поры его прежних путешествий у него сохранилась привязанность к большим городам и ярмаркам, к суматохе чужестранных мест. Он любил развлечения, удовольствия, любил отдохнуть в дружеском кругу, любил жить сегодняшним днем. Он вовсе ничего не имел против строгой, упорядоченной жизни реформированной общины, но, однако же, повидал на своем веку, наверное, слишком много людей, городов и религий, чтобы во имя веры своих отцов осесть в маленьком городишке на обочине великих магистралей.
Он часто бывал в торговых городах Рейна, где товары Фонтана грузили на суда, плывущие в Амстердам или на Франкфуртскую ярмарку. Он все чаще распоряжался направлять товары через Дюссельдорф, где гавань была невелика, но зато попутно можно было с легкостью и приятностью совершать неожиданные сделки. Курфюрст Иоганн Вильгельм Пфальцский, у которого здесь была резиденция, женился во второй раз на флорентийке из рода Медичи, и поэтому в Дюссельдорфе было полно итальянцев. Анна Мария Тосканская привезла с собой не только личных поваров и врачей, но и банкиров, купцов, торговцев шелком, штукатуров по лепным работам, золотильщиков, резчиков по кости, золотых и серебряных дел мастеров, часовщиков, мебельщиков. Со всех концов Европы понаехали художники, скульпторы, архитекторы, певцы, музыканты. Собралась веселая, жизнерадостная компания, которая украшала придворные праздники, принимая и них самое деятельное участие, и поддерживала в городе обстановку непрерывного праздничного оживления. Здесь, при дворе курфюрста, развевались шелковые наряды, устраивались маскарады и костюмированные представления, оперы, балеты, фейерверки и водные праздники на Рейне, где в центре внимания всегда был корабль курфюрста. Эта смесь итальянцев, французов, голландцев, это сосуществование различных религий, это соседство художников и купцов было Жанно очень по душе, у него все чаще находились важные дела в Дюссельдорфе, а потом, в один прекрасный день, Жан Поль получил от него письмо, в котором сообщалось, что он не вернется больше никогда, потому что перспективы в Дюссельдорфе блестящие, будущее города обещает быть грандиозным и он откроет здесь новые мастерские. Курфюрст намеревается устроить у себя производство шелка, которое при таком дворе, где во главе стоит представительница рода Медичи, открывает совершенно новые возможности. А тогда, может быть, имеет смысл посадить здесь, в этом мягком климате на берегу Рейна, тутовые деревья и выращивать гусениц тутового шелкопряда. Кроме того, писал он, явно стараясь успокоить твердо приверженного своей вере брата, здесь уже давно действует эдикт веротерпимости, существует свобода вероисповедания, а поэтому протестантская община разрослась, уже построена большая церковь, есть латинская школа, тогда как в Изерлоне все это еще только предстоит. И хотя курфюрст – католик, но интересуется он в основном искусствами и обустройством жизни, а вопросы веры для него – это только средство для достижения политических целей; в политике же цели у него грандиозные. Здесь поговаривают о том, что он скоро станет королем Сардинии, а может быть даже, и Армении.
Через год пришло письмо, в котором Жанно сообщал, что женился на итальянке из Флоренции, дочери придворного художника, а в целом дела идут так себе, ни шатко ни валко, все зависит от того, как часто курфюрст устраивает праздники, но он надеется, что детям своим ему удастся что-нибудь оставить.
В последующие годы в Изерлон приходили от него лишь краткие весточки, но однажды прислал письмо сын Жанно, который сообщил о смерти своего отца, а также о том, что новый курфюрст задумал строить дворец в Бенрате и поручил его отцу, памятуя еще старое лионское с ним знакомство, поставить для стен дворца тяжелые лионские шелка и при этом высказал свои личные пожелания по поводу узоров. Отец умер, не выполнив заказа до конца, и поскольку теперь ему, сыну, придется продолжать эту работу, то хотелось бы узнать, существует ли еще старинная Книга Узоров дома Фонтана, которая может пригодиться ему при подборе тканей для дворцовых помещений в Бенрате.
34
Вода превращалась в сушу. Если верить самым первым воспоминаниям, то каждый год земли становилось все больше, и на ней сажали пшеницу, овес, рожь, ставили дома. Бескрайняя топь постепенно разделилась на заболоченную старую Обру и новую – молодую, на главное русло Обры и множество мелких проток, соединяющих рукава реки и землю, видневшуюся между протоками. Вода и земля разделились, болота подсыхали, и их поспешно возделывали, засаживая хмелем, табаком и виноградными лозами.
За домом, на лугу, где висело, пузырем надуваясь на ветру, белье, паслись овцы, гуси, в небольшом хлеву хрюкала свинья. Перед домом на лавке сидела бабушка за своей извечной прялкой и пряла тонкие шерстяные нити, а по праздникам ощипывала гусей. Вспоминались и сами праздники с их радостным волнением, когда отец брал аккордеон, а дядя Станислаус – кларнет, и, прихватив с собой бочонок пива и бутылку водки, они уединялись в маленькой спаленке, а ему разрешалось резать свечку на плоские мягкие кружочки и раскладывать их на красном крашеном полу в горнице. Из открытых дверей спальни неслись тогда звуки польки, мазурки, краковяка, и пары кружились на изумительно гладком вощеном полу – вся родня, все соседи, кто бы ни заглянул на огонек.
Потом он всегда пробирался в спальню, где оба музыканта наигрывали, довольные собой, после каждого танца отхлебывали по хорошему глотку пива, а он гордился тем, что ему доверено нацеживать им пиво из бочки и доливать в стаканы водку. Из горницы доносилось шарканье ног, которые притопывали все громче, слыша это, отец и Станислаус опрокидывали еще по стаканчику, поддавали жару, ускоряя темп, и через дверь спальни ему было хорошо видно, как взлетали юбки у женщин, как притопывали сапогами мужчины.
Нет, не надо лен носить,
Нет, не надо лен носить,
Будем всё из шелка шить.
На каждое «нет» они топали и кружились, а слово «всё-о-о» тянули долго-долго, переходя на низкие тона, а потом на слове «шелка» забирались вверх – это была кульминация всей песни – и выпевали его тонко, с повизгиванием, и в этот момент пары высоко подпрыгивали, так что становилось страшно, выдержит ли пол. А потом, когда краковяк всех разгорячит, да, именно тогда становилось так хорошо, так волшебно на душе, музыка, танцующие пары, вкус сладковато-горького прохладного пива, которое он прихлебывал тайком, что он не мог представить себе, может ли быть где-нибудь на земле лучше, чем у них в деревне, в этой теплой горнице, среди этих людей, которые смеялись, болтали, махали руками, обнимались, перешептывались, громко обсуждали что-то очень важное с глазу на глаз, вопили от радости, что они живут на этом свете.
И если в конце концов кто-нибудь плеснет-таки пиво в лицо своему лучшему другу, а тот в ответ съездит приятелю по роже, то все равно было хорошо, ведь это просто означало, что разговор перекинулся на конгресс, Варшаву, Москву, Берлин и Вену. Правда, один раз ему вдруг все стало безразлично, потому что между тайными глотками пива он впервые хлебнул и водки. Его рвало, а рядом обсуждали некоего Козловского, который оформил себе в магистрате города Бомста новое имя и стал теперь Коллером, то есть сменил польское имя на немецкое, оправдывая это тем, что хотя он и поляк, но все же отчасти теперь и немец, потому что говорит по-немецки и, будучи солдатом, носит мундир прусской армии. Ему возражали на это, что есть такие немцы, которые, между прочим, пишут свои имена на польский лад, потому что они хоть и немцы, но издавна жили в Польше с поляками, говорят по-польски и ощущают себя поляками. Мол, некий Долльман из Хоржека, например, стал Домбровским. А кто-то другой сказал на это, что, мол, тут выравнивание происходит, один в немца превращается, другой в поляка, и всё только из-за границ и из-за всяких там чиновников, которые не умеют имена правильно писать, и поэтому плохо быть Козловским в Германии, а зато в Польше лучше быть Домбровским, так что все дело только в границах, а границы попадаются на пути то там то сям, словно плотины, которые преграждают течение реки, и не будет ничего удивительного, если внука Коллера будут снова называть Козловским, а внука Домбровского – Долльманом, и не исключено, что в какой-нибудь войне они будут стрелять друг в друга, ведь от людей всего можно ожидать.
А тем временем, пока шли все эти праздники, пока тянулись эти споры, которые, как он помнил, устраивались по малейшему поводу, да, впрочем, и безо всякого повода тоже, – землю и воду разделяли все решительнее. Сотни рабочих стояли летом на плотине и насыпали на нее землю, забирались с лопатами в каналы и углубляли русло, чтобы вода лучше стекала. Он впервые видел, какие глубокие ямы можно выкопать в земле, минуя темно-бурые и черные пласты торфа, а иногда удавалось докопаться до слоя черного камня, который они называли «уголь», тогда приходили инспекторы, осматривали черную породу, что-то там измеряли, орудуя своими приборами, потом уходили. В некоторых местах копали еще глубже, посылали в эти штольни рабочих на разведку, а потом рабочие поспешно убегали прочь, когда в отверстиях появлялась вода. Инспекторы сменяли один другого, приспособления для бурения валялись, никому не нужные, вода наполняла ямы и вновь отвоевывала землю, которая не была защищена плотиной.









































