Текст книги "Лефортово и другие"
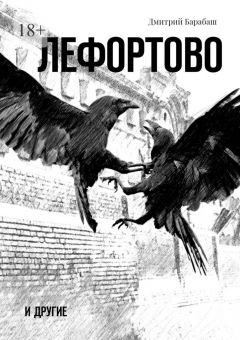
Автор книги: Дмитрий Барабаш
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
XIV. Фрэш
Спичечный коробок синагоги
трясётся над ухом Бульварного,
над красной раковиной кремлёвской стены.
Слышите треск?
Это спорят вполголоса, меряясь коленами
Израилевы сыны.
Мавзолей – мраморная беруша,
с резиновой куколкой
Acherontia atropos* в сердцевине,
ватные шарики склепов – хранители тишины.
То вьюга свистит, то звенит проводами стужа
и лыбится Стиксом по площади
ботоксный рот луны.
Пушка на мочке уха торчит серёжкой,
Гоголь пугает мальчиков из кустов.
Вот она! Кажется, грянет сейчас свобода,
дунет в стекляшки арбатовских парусов!
…и пронесется в Кутузовский, злобно лая,
вой красно-синих лампочек, скрежет жал…
Кто вам сказал, что она должна быть другая?
Кто вам все эти глупости обещал?
– Я обещала!
– А кто ты скажи такая?
Песенка, девка с хвостиком, дым костра?
Я не такая, скажешь опять, другая,
типа не с этой улицы, дочь посла?!
Поздно вихляться, деточка, ты попала,
здесь не канают сказки про то добро…
– Я ничего такого им, дяденьки, не обещала,
всё что хотите дяденьки, камешки, серебро.
Только не надо, пёрышками не надо,
я ведь люблю вас, дяденьки, я ведь для вас на всё.
– Девочке сотку виски и плиточку шоколада…
Вот и всего романтики: выжатые инстинкты —
фреш на подносе к завтраку.
Бросишь нечаянный взгляд
на своё отражение в том подносе,
в тонких морщинках, вырезанных по металлу,
под игривыми капельками разбрызганных страстей,
подумаешь, зачем ты здесь
нарисовался полусогнутый,
в белых перчатках, в облегающем ляжки трико,
в напомаженном парике
расфуфыренный нелепее официанта
ресторана «Турандот» на Тверском?
Неужели вот ради этого случайного
эксгибиционистского изгиба,
еле заметной улыбки в уголке безучастных губ
и стоило всё придумывать, завивать в сюжеты,
наблюдать внимательно как растут,
делать засечки по каждому из поколений
на камне, на глине, на обоях, на дверном косяке,
по миллиметру, по дюйму, до сорока колен,
чтобы поймать себя в странной позе,
с подносом на левой руке
перед четырехлетним мальчишкой
с чупачупсом державы, зажатом в кулачке,
с лицом, изображающим мудреца, старца,
властителя, самодержца, Бога,
ввинчивающего пальчик
в ушную раковину Кремля?
Я – Земля, я своих обожаю питомцев.
Вот напридумывал, раскинул споры
световых грибниц.
Медуза мысли с разноцветными щупальцами,
способная растворяться и обретать форму,
светиться и гаснуть, быть и не быть
во всём и всем, перетекая,
из того что вне, в то, что внутри,
наблюдая со всех времен, под всеми углами,
танец мысли над бездной,
ютящейся в черном целлофановом пакете
сетевого супермаркета «Азбука вкуса».
Одиночество
развлекает себя перебором физиономий,
тасует карточные колоды поколений,
считает светящиеся точки
на мятой чёрной плоскости,
дребезжит мельхиоровой реальностью
в плацкартном подстаканнике,
на никелированном подносе
с гранёным фужером фреша из сельдерея
или борщевика в зыбкой руке официанта
ресторана «Пушкинъ»,
бликует глазками коктейльных фей
за соседним столиком.
Почему бы сегодня ему не покружить
между спящих ворон,
чтоб в каком-то Лефортово чёртовом,
богом забытом,
выбирать между двух
идентичных по мерзости, зол —
одиночкой и общей,
подогнав шестерёнки реальности,
пружинки её механизмов,
заставляющих тикать часы на рубиновых родинках,
к невозможной, казалось бы, роскоши,
чёрт побери, – к праву выбора
между двух, в общем-то, равных пристанищ.
Если вы ругаете кого-то, предполагая в нём качества противоположные тем, которые вы ругаете, вы вводите в заблуждение и себя, и тех, кто вас слышит, и тех, кого вы ругаете, подразумевая в них то, чего в них, с большой вероятностью, никогда и не было.
На тюремном дворе, напротив столовой, в углу,
куда выплёскивали помои
и бросали одноухому Ваське
рыбьи кости и потроха, вырос гигантский укроп.
Упираясь листьями в бетонные стены,
он пробился сквозь трещину в асфальте,
расширил её, вздыбил твердь,
и за один солнечный месяц,
вымахал метра на полтора,
раскинулся шестью куполами
белых, приторно-гнилостных цветочков
с тысячами лепестков,
ощетинился ядовитыми иголками стеблей и листвы,
точно также, как и три миллиона лет тому,
на том же месте,
он же,
глаз Божий
без памяти, имени,
часть единого разума.
Что ему до смены ландшафтов и климатов,
до зубастых зверушек,
пробегающих мимо столетиями…
Ну, допустим, Лефортово, год две тысячи третий,
тридцать третий, три тысячи тридцать седьмой,
девятьсот двадцать первый…
Короче, Лефортово, осень,
купола пожелтели, последний росток запоздалый,
приютившись к стволу озирает стихающий мир.
Васька ждет у помойного бака дрожайщую крысу
и глазами сверкает, и ухом последним ведёт.
Тихо так, что услышишь,
как возле ложатся снежинки…
Отплывающий мир в свете жёлто-немых фонарей,
протянувших колючие тени
к подножиям сумрачных стен.
Тополя по периметру, голые чёрные ветки,
настороженный сон воронья между бешеных звёзд.
Коридоры в тюрьмах удобно строить
по форме латинской буквы V
или римской цифры V.
Ещё лучше,
если к ней примыкает с другой стороны,
такая же буква V или цифра V.
Тогда получается десятка хронограф Х.
И в какую из половинок не посмотрит тюремщик,
в ту и посыплется песок времени,
стражу предписано уделять пристальное внимание
каждому коридору.
Так и крутится он между двух пятёрок,
уравновешивая песок,
останавливая, тем самым, время,
следит, чтобы никто не вырвался
из-под чугунных засовов
реальности, в которую угодил.
Нет лучше мест, чем те,
где останавливается время,
для проведения чистых экспериментов,
без клубящейся примеси суетной пыли.
Надо самому дозировать,
по спичке, по песчинке,
вбрасывать детали, предметы, лица
и смотреть, как они врастают в кристалл событий,
исторических перипетий,
политических безобразий.
Можно потом расчленять мгновенья,
ловить их на каждой стразе,
почти так, как это делает гигантский укроп,
Heracléum – борщевик**.
Херасе!
Любой, конечно же,
из потаенных искателей,
окажись он на месте надсмотрщика,
в центре хронографа,
только дай ему волю нарушить
правила архитектурных пропорций,
законы гравитации —
развернёт пятёрки веером, пустит шаром,
деля пустоту на несчётные множества.
И когда накроит во всех плоскостях,
накуролесит, набесится,
научится видеть продолы все разом —
единовременно,
наблюдать за покоем и равновесием,
окажется, наконец,
в одной из беспризорных галактик,
давно потерявшим представление о реальности,
сжатой до хрупкого шарика,
до потёртой монеты, подноса, фужера,
фреша, из только что сорванной страсти…
А значит, если хотим задержаться здесь,
нам надо себя ограничить
устоями местных приличий,
законами здешних наук,
стремлением к значимым целям,
и верой во всё, что и все.
* Бабочка Мёртвая голова.
** Три названия одного и того же растения.
XV. Сокамерник
С ваших слов капает сладкий яд иронии.
Я и сам готов шутить над собой, потому как это
единственный достойный выход из этого места,
где мы с вами оказались.
Другие – прочно заперты.
Вы, насколько я мог заметить, литератор,
комичнее того – не брезгуете рифмой, ритмом,
в чём смысла по нынешним временам
нет никакого.
Если раньше каждая кухарка
могла-таки управлять государством,
то теперь она пишет стихи,
не говоря уже о бывших
каменщиках, токарях,
слесарях, пахарях,
молотильщиках, доярах.
Согласитесь, завидная компания бывших.
Последней каплей абсурда будет,
если я, насидевшись с вами, начну рифмовать
и строчки равнять рядами,
как в общем-то уже бывало:
помните, один кувырнулся сюда
в конце прошлого века
и вышел поэтом Осеневым.
Кто здесь крестит
такими обидными для мужчины фамилиями?
Скажите мне, как вам в мире
поголовного безумия словоблудством
представляется ваша художественная персона?
Не желаете ли славы? Почестей? Стадиона?
Самой обыденной плотской любви
с особями противоположного пола?
Представьте, вы здесь страдаете, а они стонут
там за дверьми —
рвут волосы, извергаются…
Сомневаюсь, что таким счастьем
вас можно завлечь.
Так какого же хрена вам ещё-то нужно?
Вы пали ниже некуда, взлетели – куда не нужно,
и сами не знаете какого хрена вам нужно.
Шутите тут, издеваетесь надо мной,
как над последним своим читателем,
как над последней своей страной.
XVI. Валерианка
Ходишь, ходишь по улице
неизвестно откуда известного имени,
и не подозреваешь, что его носитель
не только подписывал расстрельные списки,
но и сам сидел не единожды,
был заговорщиком, подвоёвывал,
стишатами баловался, скабрезные песни пел,
срамных баб ебал,
обожал шебутные компании – жил, одним словом,
и умер от закупорки артерии, не дотянув до 50.
Если вы хвалите кого-то искренно, подразумевая в объекте или субъекте качества, нуждающиеся в поощрении, надеясь стимулировать их развитие своей горделивой похвалой, вы вводите в заблуждение и себя, и тех, кто вас слышит, и тех, кого вы хвалите, подразумевая то прекрасное, которого в нашей реальности, возможно, и не бывает вовсе.
Вы, судя по вашему возрасту
и ухоженности кожных покровов,
не раз бывали на улице имени этого
забубённого поэта,
политического ссыльного,
высокопоставленного комиссара,
запойного весельчака и балагура,
соратника Сталина,
Валериана.
– Какого Валериана?
– Куйбышева Валериана!
– Улица Куйбышева?
Что-то предательски знакомое,
вертится перед глазами
и растворяется в густом тумане.
– Она же Дмитровка.
– Дмитровское шоссе?
– Да нет же. Кстати, вы замечали, что выражение
«да нет», таинственным образом напоминает
фамилию автора «Божественной комедии»
с её презабавным адом
и расфуфыренным раем, так вот,
это словосочетание —
утверждение и отрицание в одном союзе,
очень занимает иностранных студентов,
приезжающих в наши широты практиковаться
в русской разговорной речи.
Не всякий европейский ум в состоянии уместить
в поле зрения сразу две стороны одной монеты.
И когда они спрашивали, как такое возможно,
профессор Пушкинского института
Зимберштормский,
тайно состоявший на секретной службе
в соответствующем управлении,
приглаживая седые курчавые бакенбарды,
отвечал им покровительственно подмигивая:
чтобы постичь внутреннюю логику
русского языка —
читайте, а лучше учите наизусть,
великого Данте и всё, что смущало вас
в нашем образе выражения, как будто бы мыслей,
откроется в тихой прелести
дуалистического созерцания.
Данте – прекрасный учитель
русского сокровенного.
– Вспомнил. Конечно, Большая Дмитровка,
за Большим же театром, бывшая Пушкинская.
– А вот и нет. Нас влечёт не большая,
а другая Дмитровка.
Совсем другая.
Но уж, если вспомнили Большую,
то не кажется ли вам странным,
что приятную русскому духу Пушкинскую
переименовали назад.
Решили, видимо, что начеканенному
в бронзовых истуканах Александру Сергеевичу,
с которым по вездесущести
раньше могли сравниться
разве что Ленин с Иосифом Виссарионычем, —
а теперь исключительно внутренний мир Зураба,
достаточно будет отпущенной
от щедрот задротов площади в центре.
Пусть тускнеет неогранённым алмазиком
в бульварном кольце,
между Тургеневым и Тимирязевым
(славная парочка, согласитесь,
достойный декор на колечке),
пока не забудется вовсе за полной ненадобностью
в цифровом идиотизме грядущего.
– Соврали. А как же Высоцкий,
раскинувший руки в смертельном объятье?
– Так он затерялся в деревьях и смотрит в другую,
в обратную пушкинской сторону.
Он ретроспективен, как сам утверждал.
Приглядитесь, они на доске равновесий,
скейтбордом бульвара летят
над сиреневой бездной,
и кружат, и видят, как это ни странно,
одну и ту же реальность
на ломком изгибе Мёбиуса.
Не перегнуть бы.
– Конечно же, Дмитровская, рядом с Бутырской.
– Тьфу, тьфу, тьфу…
На ночь глядя не стоит такие места поминать.
Здесь не сахар, но там!
Если б Данте сменил на квадраты
и кубы из бетона и слизи свои кучевые круги,
то, пожалуй, и вышла б Бутырка —
императрица тюрем.
Есть, конечно, и хлеще,
но в ней поражают масштабы.
– А Кресты тогда что,
император всея пенитенциарии?!
Питер крестится знатно и дразнит
саднящей любовью свою дорогую подругу.
– Если б милый волшебник Зураб
изваял эту парочку в бронзе,
Бутырку с Крестами в императорском блеске,
проработав детально и выпукло, как он умеет,
их правдивые лица
с чертами народных красавцев,
трон бы в форме герба СССР, над которым
двухголово парит никакой не орёл,
а родная до боли ворона,
но такая большая, что крылья отринули небо
от земли, отмахнулись,
что б важным делам не мешало занудством.
Водрузить этот памятник там же, на Пушке,
напротив Александра Сергеевича
и кинотеатра «Россия».
– Тимирязев с обрубленным пальцем,
лилипутий фонтан и венчальная церковь,
опупевший домжур, пентагон, керамзитный Арбат…
XVII. Карьера курьера
А я иду шагаю по Москве.
Солнце играет в седых усах поливальных машин
на улыбчивом выглаженном лице улицы
пролетарского писателя Горького.
Телесно-розовые тени домов.
Курьерская юность.
Контора, в которой служу,
начинается на улице того самого Куйбышева,
бывшей Дмитровке, в переулке,
врастает в низкорослые домики
незапамятных веков
длинными коридорами,
кабинетиками, зальчиками…
Так как я никогда не углубляюсь
в её разветвлённую сеть,
не погружаюсь дальше фойе
и курьерского кресла в тёмном углу,
меня так и называют —
мальчик, который спит в углу,
бюрократические коридоры в моём сне
тянутся на сотни километров,
секутся, петляют, опутывают всю Москву.
Вполне возможно, что все госконторы города
связаны секретными перемычками, тоннелями,
линиями правительственного метро,
сведения о котором являются тайной
под особым грифом,
во всяком случае так утверждает
мой друг – репортёр газеты «Метростроевец»,
а он-то знает достоверно – не раз спускался
в адские недра столицы, имея соответствующее
удостоверение и специальный допуск.
Там, под землёй, текут реки в булыжной шкуре,
высятся неприступные скалы
в податливом для буров песчанике,
от храма к храму петляют подземные ходы
старообрядцев,
под торговыми рядами прячутся
потайные склады контрабандистов,
а в царских катакомбах по сей день живут
семьи белогвардейских офицеров,
скрываются беглые преступники
и пленные немцы.
Под землёй носятся на бешеной скорости
поезда-призраки по секретным тоннелям
между Кремлём, Старой площадью, Лубянкой,
Арбатом, Поклонной горой, Юго-западом
и Соснами.
Это центры силы СССР,
за которыми пристально следят все разведки мира.
Не рискуя нечаянно подорвать основы строя,
что-нибудь проболтать повсеместным шпионам,
я изучал потаённые связи
по разрешённым маршрутам,
соединяя разные точки снаружи:
добираясь от крыльца до крыльца,
от приёмной до приёмной
зигзагами поверхностного транспорта,
шурша потёртым целлофановым пакетом
с казённой корреспонденцией.
В конторах, независимо от ранга —
будь то министерство культуры
или сортировочный пункт
ржавой железнодорожной станции
встречал одинаковый запах
бумажной пыли, и те же лица,
с проблесками погасших в молодости улыбок,
женщин в строгих нарядах,
которым одна только радость —
улизнуть из тягучего ритма служебных обуз
и напиться
индийского чая с шоколадной конфетой,
с каким-нибудь Мишкой на Севере*,
болтая о детях и финских сапожках,
которые давеча в ГУМе,
так такая, представьте, очередь,
что её хвост вылез на Красную площадь
и смешался с другой очередью – в Мавзолей.
Люди запутались и уже не знали зачем стоят:
поглазеть на мёртвого Ленина
или финскими сапогами.
* Марка шоколадных конфет, выпускаемых Кондитерской фабрикой имени Н. К. Крупской
XVIII. Главный редактор
С утрачества боялся слова редактор.
Слышалось: революционное, ретроградное,
тракторное, реакторное.
Позже пошли социальные примеси:
нравственные, идеологические,
пенитенциарные, патологоанатомические.
Первый редактор, которого я увидел
соответствовал всем
перечисленным выше приметам.
В газете «Метростроевец»,
напротив моей курьерской службы,
репортёрил юный балагур и центровой повеса,
внук двух бывших министров СССР
и, вообще, очаровательный чел – Лёшка,
лучший друг отрочества.
Он же и подкинул мне вакансию,
сорвав объявление на двери соседней конторы.
И вот, поднявшись по скрипучей
деревянной лестнице на редакционный этаж,
приоткрыв обшарпанную дверь,
я оказался в небольшом зале,
заваленном серо-жёлтыми подшивками.
За круглым столом, занимавшим полкомнаты,
сидел человек с землистым лицом,
морщины гуляли по нему в негодовании
десятибалльным штормом,
играли мясистым носом
и низкими надбровными дугами.
В руках – не рукопись даже, а гранки,
как я позволил себе догадаться.
Он подносил их к глазам, кхекал,
хмурился, хватал шариковую ручку
и начинал быстро что-то писать на странице.
«Правит», – подумал я,
«По всему видно – главный редактор!».
Мне было указано жестом на стул напротив
и предложено ожидать репортёра Лёшу.
Редактор отшвырнул пачку листов
и взял в руки газету.
Искоса,
чтобы не выдать постороннего любопытства,
я стал вглядываться в правку.
И, о Боже! Она оказалась чудовищна!
Во всех буковках «о»
серединка была старательно заштрихована
синими чернилами*.
Господи, не пугай меня так буквально! —
взмолился я мысленно
и тут появился улыбчивый Лёшка:
– Знакомься, это Василий Иванович,
наш редакционный сумасшедший курьер. —
Он, именно так и сказал: «сумасшедший».
При нём. Но это уже не имело значения.
Образ моего первого редактора состоялся
и, сколько потом не повидал я редакторов,
сколько сам не рядился в их шкуру,
Василий Иванович так и останется первым,
самым точным и лучшим воплощением.
* Бедная Крупская!
XIX. Круговая порука
Москва прирастала торговыми рядами,
базарными площадями, рынками,
гостиными дворами,
ночлежками и кабаками.
Расширялась кольцами, паутиной —
ветошные нити, хрустальные и скобяные,
тёплые и ледяные,
а в центре не паук, а кристалл ощетинился,
зырит бойницами башен,
высится стеной неприступной,
по свисту времени меняя своё обличье:
дерево – на белый камень,
камень – на красный кирпич коралловый.
Площади мостились булыжником,
улицы застилались досками,
бревенчатые постройки каменели,
рядились в заграничные стили, цвета,
поражая изящными излишествами.
По Москва-реке баржами подвозили
товар с окрестностей,
приходили корабли заграничные
и купеческие суда.
Муравейник большого базара
с кристаллом на маковке.
Между торгом великим, пьянством и сном,
люд посматривал в небо,
вспоминал о крадущейся смерти,
о вражьих угрозах,
о смыслах своего человеческого
в толкотне и гомоне торговых рядов.
Эта память трудна,
а бывает и вовсе несносна,
если ей не подкинуть начертанных свыше задач,
не представить кого-то
над бьющей баклуши землёю,
кто следит за людьми, направляя их жизни на свет.
Над земными хоромами высились Божии храмы,
куполами вонзаясь в покойную негу небес.
Каждой улице – церковь.
Хорошая, видно, торговля
шла по старой Москве, раз повсюду цвели купола.
Я чертил твои карты задолго до улиц и скверов
в тёплом сладостном сне.
Просыпаясь снаружи времён.
В цифровом зазеркалье,
летящем исполнить желанье —
стоит только помыслить —
срывай тридэпринтовый плод,
наслади свой пронизанный синими иглами разум
вкусом цитруса, тмина,
терпкой пылью степного вина
Краснодарского края,
горькой клюквой
карельских дремучих глазатых болот
и кедровым надрезом металла, смолой Зауралья…
Только было б кому ощутить этот сказочный вкус.
Или в смрадных трущобах Варварки
в невкусное время,
где ютились впотьмах
под полами скрипучих домов,
чтобы утром на грудь короба и кричать петухами,
зазывая купить кренделей, свиристёлок, баклуш.
В коробейных рядах
с расчумазой счастливою мордой
пробираться глазеть на кареты парчовых бояр,
на гнедых жеребцов с завитыми хвостами,
несущихся в кремлёвскую раковину, туда, где
завывает море, кружат смерчи, блещут молнии,
вершатся войны, революции, перевороты —
то младенца зарежут, то яду тирану плеснут.
Так, бывало, посмотришь
с одной из заносчивых башен
на окрестное время, на то, что меняется впредь,
и – в салазках с горы,
по лефортовским топям на Нижний,
а с боков то леса, то повыжженные пустыри.
Обожаю Москву за её круговую поруку,
как не прыгай – прижмёт и приучит губами к сосцу,
я не Ромул и Рэм, но как братья, люблю эту суку,
защемившую память
меж двух электрических клемм.
XX. На Чистых
Когда-нибудь после праздника.
Сдутые темы о вечном мечутся по асфальту
вялыми воздушными шариками;
белые морщинистые лица бьются о бордюры,
купаясь в трамвайной пыли.
Жарко. Мутит моралями, откушанными на фуршете.
Прохожие медлят.
Чей-нибудь зад, непременно, виляя перед тобой,
указывает путь к метро.
В ноздрях – навязчивый аромат цветочных духов
и одеколонов с крепким спиртовым выдохом.
Натужный новояз антинавозен
по заключению ВОЗ, но!
Кривоватый, хромоватый, перебинтованный,
на ходулях цвета радуги, сигналящей свободу,
со шкатулкой очаровательных бессмыслиц
под мышкой.
Новозык, выпрыгивает за вниманием
шнытким пуделем с хозяйского поводка
за огрызком глазированного марципана
в оторопелой руке нимфетки.
Каждый круг внутри другого круга
на Чистопрудной выглади
безуспешно стремится выкатиться
за границы прежнего,
поприжать его своим кольцом,
но постепенно
первый перетекает во второй, сливаясь,
и вот уже четвёртый, пятый, тысячный
повторяют всё ту же гимнастику величия,
сальто-мортале
с надувными гирями на цирковую арену,
то в лебедино-белых выпуклых лосинах,
то в коротких штанишках с индейской бахромой,
то с завитыми от счастья чубами
или в антипомпезном, сереньком —
грустные клоуны, худыши с загадочным смыслом,
обведённым фиолетовыми подглазицами.
И тягают, тягают бутафорские гири
на потеху прохожим,
снующим кругами будничных грёз
по каменным функциям корпоративных обочин.
Особая прелесть для наблюдателя —
узнавать в пешеходах
партерных старичков и старушек,
театралов, выкрикивающих: «Браво!»,
«Вот оно – новое! Браво!», «Бис!».
Не смотрите на них с опаской,
не шарахайтесь, не протискивайтесь бочком.
Их укусы подобны мокрым поцелуям.
Ничего, кроме нежности.
Есть ли оно – это новое под луной?
Новое, о котором так звонко трещат попрыгунчики
Чистопрудных кустарников над тополиной водой?
Современник улыбается белозубо
колоннадой фасада. Приподнимает шляпу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































