Текст книги "Лефортово и другие"
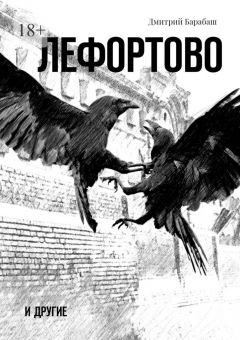
Автор книги: Дмитрий Барабаш
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Любовь – Футбол
Всё —
всегда.
Всё —
мгновенно.
Глаза-шестигранники —
смотри всё сразу —
со всех —
изнутри-снаружи.
Сквозь —
светит солнце, не преломляя луч,
морзят звёзды,
моросит дождь,
рокенролят снежинки —
щекотят радость касаний —
забываешь, что был человеком.
Возвращаешься в целое —
в то —
до его рождения —
жалко памяти об умершем —
исчезает бесследно,
сливаясь с другими —
которыми был-буду,
с листопадом лиц —
по ветру —
бижутерией снега —
шарами, зависшими
в пространстве
воплощённых уже фантазий и —
которым еще предстоит
очнуться
от чёрного,
назваться,
сорвать пластырем
девственный пушок со щеки зеркала,
жить,
наделить смыслом пыль —
упорядочить сор событий
мелодиями —
гиперголосьем —
полифонией «Але».
Бит или не бит.
Битлз —
между нулём и фазой.
Любовь-футбол!
Прожектора, слепящие чище солнца.
Зубастые лица болельщиков.
Ржу с каждым и с каждым ору «Але».
Мускулистые ноги в полосатых гетрах —
мои гладиаторы!
Сколько на них волосков,
вздыбленных жаждой
победы —
первенства —
преобладания.
Я ваш футбольный мяч!
Пинайте меня, мои боги.
Боги пенальти.
Вы мои боги.
Ги.
Одинцово. Оферта
Каждая грань соприкасается с гранью,
является гранью другого шести…
Углом – к углу.
Каждой гранью
соприкасаюсь с гранью,
каждым углом с углом.
И целым с другой становится каждая грань.
Каждая грань – грань двух шестигранников.
И это на плоскости,
а там – чем нежней накренишь,
тем пушистее сфера,
тем шерстиней
шестерёнки.
Такое пространство, такое время,
такое расслоение времени и пространства —
шарами на шару.
Шарман.
Наполнишь соты, помножишь шесть,
возведёшь в квадраты, в степени n.
Есть ли что вне?
Вен?
Вневеняемость.
Есть ли что внутрь?
Сизый голубь сидит под Москвой, урлыча
вдохновение майских утр.
Слухового окна шестигранник
в подтёках краски,
(Шехтель что ли?)
в наплывах помёта голубинного,
рисующих дальность распрелестных стран,
в дождевых, обжаренных солнцем брызгах,
в пыльце позалетних лип.
Пазолини?
Пазлы.
Жёлто-серые стекла, линзы мировоззрения.
Одинцово.
Голубь у слухового окна,
дребезжащей тепло-Москва ли.
Полно выкать. Привыкнуть пора бы.
Сизый дождь его перьев завис,
лишь пульсирует жалко
между сызранью серой
и кляксами жёлтых ночей.
Брызги зябко трясутся в пространстве.
Движенье руки, дворников —
по лобовому, сонливого взгляда
направляет задумчивость капель зигзагом к земле,
в неопрятную влагу февральского всхлипа
под подошвами пляшущих жизнь человеческих ног.
Эта кашица снега, песка и поваренной соли,
с ртутью белых фонарных столбов
и бензиновых радуг —
эликсир от бессмертия.
Вряд ли смогут надежду стеречь
на нечаянном лезвии лужи
абрис чёрной сосны над землёй
и луны любопытный монокль
в шестигранной оправе
неясных тревожных предчувствий.
Жизнь фонтанчиком бьёт
из затылочной косточки в небо
затихающий пульс.
Пуля влипла по пояс, расплавила юбку
в лобовую изнанку.
Реальность
во всех перебуженных выстрелом пташках
разлетелась, как дрожь
разразилась по каплям тумана.
Только голубь урчит одинцово
за жёлтым окошком.
Подмосковье прижалось
к теплу выхлопного комфорта.
Хорошо, что не надо
подписывать кровью бумажек —
это чисто формальность
(опять Торнаторе?),
оферта.
Кафель клофелина
Гексограф сфер, генетик гексогена,
ксенона свет, прилежный ксенофоб,
любовных фабул флобистьер игривый,
философ фобий, мнимостей вещатель,
пиарщик пошлости, змееобильный щёголь,
клещ полнолуния, напившийся изнанки,
ночное зеркальце в блистательном клозете,
одетом в белый кафель клофелина,
лежишь в тени и слышишь поступь крана —
цок-цок да цок, приплюснутой щекой
к лощённой глади,
к сумеркам забвенья,
где осознанье – смерть,
крестом по белым клеткам
тень от окна ползёт, ломаясь, по стене,
шесть псов полуночи протяжно воют в трубы
земных домов, уставленных житьём,
как будто время есть и бьют минуты,
и моря пульс ласкается с ребром,
и можно пере-ново-обратиться,
умыться сладко медною водой,
оправить свитер, к людям возвратиться.
Геометрия сфер
Правильную гексасферу
составляли мучительно долго.
Как же так?! – ты скажешь,
– Вот же футбольный мяч!
Зайди в Спортмастер, там сотни футбольных мячей,
включи в смартфоне канал Россия-матч,
и будут прыгать они по зелёным лужайкам,
в безумном свете многоглазых монстров,
склонивших железные головы над стадионом.
И в каждом их ртутном нутре,
в каждой клетке холодного света,
гексасферы запрыгают по зелёным лужайкам,
под ногами весёлых парней в полосатых гетрах.
Только бы не брили ноги! Только бы не брили ноги!
Я так люблю их завитые, и торчащие от экстаза
из пупырышков, волоски.
Но правильную гексасферу
изобретали мучительно долго.
Казалось уже сосчитали всё геометры…
Ан нет. Только в 2015 году
два еврея – выходца, как водится, из России
и, как всегда, прильнувший к ним некто, втроём,
напрягая до гари мозги терабитной
памяти своих персоналок,
сумели сложить, первую в истории человечества,
трёхмерную сферу из правильных шестигранников.
Почему же кожа футбольных мячей
нас так долго томила иллюзиями совершенства?
Правильные гексасферы позволят создать
новые кристаллические решётки
для сверхпрочных конструкций,
для сверхточных лучей.
Выходит, и геометрия – лженаука.
Сфера на трёх гипотезах.
Первоисточник трёх гипотенуз.
Без лица
Промозглым утром,
вечером, днём,
в Одинцово, Мытищах, Питере, Риме, Чернигове,
чёрти где,
когда пар превращается в снег
или снег обернулся водой
и холодная ртуть фонарей
по земле, как по зеркалу,
собирает молекулы влаги в брезгливые капли,
и скользим по стеклу, оставляя тоскливые струйки,
чтобы вывесить их в инстаграм*.
Я очнулся без плоти,
я смотрел на тело, я помнил тело.
Оно где-то там ещё билось фонтанчиком крови,
ещё потело, став на четвереньки в молитве
о малюсенькой жизни,
уткнувшись простреленной головой в снег
насмешливо белый.
Я метался по улицам, заглядывал в лица
между прошлым и будущим
между тем, что всегда —
и вот там, у подъезда.
Я ещё мог шутить —
не убий его тоже…,
не мсти…
Залетать в беспокойные сны
на исходе последних желаний,
забывать обо всём постепенно,
обо всех,
о себе,
становясь
обезличено целым
с мокрым воздухом, звёздами, волей,
управляющей жизнью и мраком,
оттенившим весь мыслимый свет.
2020
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ
Телави
Ты любим, пока жив
Ты люби! Тель-Авив! Пока жив ты любим. Телави!
Ты влюблён во всех славных девушек,
излучающих счастье,
во всех прекрасных женщин,
подающих сигналы секса, жизни.
Ты влюблён, ведь судьба не успела
тебя заплести в свои русые косы,
опоясать красным бантом отчаянья.
Подрежешь хулиганской финкой
хаер в эмгэушной общаге,
перехватишь семицветной фенечкой
заносчивый хвостик
на каких-нибудь новых или старых Гоголях
и зализанным станешь похож
на буддистскую кошку,
поджимая уши
и щурясь под рукой высшего разума.
Ты ещё только-только ступил на проезжую часть
и прикольны тебе бронированные лимузины,
снующие мимо,
по кремлёвской брусчатке.
Ты держишься близко к огню.
Не к тому, от которого в радугах плавятся будни,
гравий, металл, электрички,
обретая предметность метафор
и осмысленный сдвиг подсознания
в сторону майского утра,
когда всё очерчено солнцем,
и видится именно тем, что и есть.
А другому огню, на который летят
в белобрысом стенании славы,
подвигов, подлости, радости власти.
Страшный возраст.
Когда из-под откинутой крышки Красной площади,
из-за каждого, сука, ребра,
на колки в чёрном небе,
на блестящие шляпки сапожных гвоздей
из подошвы вселенной,
занесённой над миром, который ты якобы любишь,
на рубиновые звёзды земного величия
навиваются медные нервы тебя – рояля,
для концерта последнего виртуоза
прощальной юности.
Ждёшь маэстро, гудя от горячего бриза желаний,
от легчайшего дуновения памяти или предчувствия.
Только клавишу тронь,
и струна лопнет под молоточком,
обитым кровавым бархатом,
следом – другая,
и так – пронесётся восторг по венам,
разрывая в куски медовую алычу
твоей драгоценной личности,
твоё алое алчное мясо и белые кости
в неистовый бдзынь тирлибом.
Пурпурным туманом —
сквозь жёлтые конусы фонаринных вышек,
расставленных по периметру тихого времени
для уюта и нервного содрогания
в позднем советском недоумении,
кружись потом тучками мошкары,
вспоминая с пискливой тоской
целостность прежнего тела
и даже почти интимную близость
сознания.
* * *
На таком вот исходе страстей,
где каждый когда-нибудь будет,
если там не бывал.
Как бы стар ты на выдохе не был,
следом вечно крадется
кадриль обнажённой свободы,
чтоб на долю мгновенья
впорхнуть в твои полые очи,
заискрить своё ню уйли-лю тирли-ли труль-ля-ля,
перед тем, может быть, как навсегда
оставить белые нитки нервов
щекотать пустоту.
Посмотрите,
по небу плывут мёртвых глаз цеппелины.
Вот на том, самом пылком,
во время распахнутом теле,
когда всё оно – слух
(слышишь, словно прижимаешься ухом),
всё оно – зрение
(видишь прикосновениями),
обоняние, нерв,
гусеница души, вывернутая шерстью наружу,
шевелишь волосками, покрытыми липкой росой,
хищное, многощупальцевое желание,
искрящее соками жизни.
Вот где-то там, в том самом начале,
как их принято называть, чувств,
глядя на себя, проплывшего по Москве-реке
блатовато прикушенным бычком Беломора
(удачный прикус, позволявший раздувать паруса
папиросной бумаги), воздушным змеем
поднимаешься над водой, пролетаешь несколько
набережных отблесков
и вписываешься в переливающуюся волну
напротив приснопамятного бассейна Москва,
на зависть ждущим от бога погоды
сёрферам запоздалой веры.
Лживо утверждать, что ты тогда
был только настороженной гусеницей,
шарящей в переулках московского климата,
который…
Особенно вечерами…
Есть в них ласковая позолоченность,
заунывная тишина
по касательной мечущегося Садового,
перемигивание бессмысленных светофоров
на полированном асфальте,
чистота незримой солнечности московской ночи.
Когда-то от Москвы
исходило нежное телесное тепло,
вдыхая которое, хотелось жить.
Ты любим! Тель-Авив!
Ты любим, пока жив!
Телави!
Ты влюблен!
Курьерский трип
Тоже мне – работа!
Назовут же работой курьерскую службу!
Да, и та, словно в дружбу.
Без мучительных обязательств.
Опоздаешь с письмом в министерство на неделю,
так если заметят, в худшем случае скажут:
ну как же вы так, ай-яй-яй!
Приятная нега застоя —
от земли до кремлёвских высот.
Было где прусакам порезвиться.
Да что ж меня водит!
Привязаться б к сюжету,
вонзиться в него, словно дюбель
в бетонную стену,
и ползти альпинистом к портрету
по отвесным,
направленным к высшему замыслу тропам.
Так проступит судьба! Нарисуется жизненный путь!
Нет, тащусь
сквозь пронзённую дырами вымысла память.
Докопайся, пойди, до того, что на самом-то деле:
Пункта А, пункта Б, пункта С.
Временной интервал.
Посещение нужных инстанций.
Раз – сберсчёт, два – кредит,
три – карьерный скачок и почётный значок.
Некролог и проклятия тех,
кто наследством твоим ненасытен,
тех, кого отделил, тех, кому не помог.
Полукруглый искусственный камень
с печаткой распятья…
Хорошо, что не фабулой Землю придумывал Бог.
К тому моменту у меня накопился опыт первой любви, длящийся три года. Освоена Камасутра и совместные тантрические сексуальные медитации. С попеременными ласками Шекспир дочитан до середины короля Лира.
В то же время, ты был влюблён и в другую, рыжую стройную девушку, лет на семь тебя старше, в нежные прожилки её лодыжек из-под ситцевой бахромы, в её смуглую подругу с такими губами, словно со спелых слив сдёрнули кожицу, в толстопопую отличницу с ангельским личиком… В уголках её непорочных глаз пряталась похотливая дикость. Ноги, груди, бёдра, лица – мысленный взор скользил безостановочно, тело издавало арфические переборы и, то и дело, на улице или в общественном транспорте предательски выпячивало штанину в том самом щекотном месте. Ты был влюблён во всё, что скрывало секс под ильичами, кумачами, кодексами, приличиями, ты был влюблён во всё по другую сторону.
И вот тогда, отслужив положенный срок на курьерском поприще, в назначенный день, согласно графику, наступил первый отпуск, сдобренный льготной путёвкой от профсоюза, в столицу Грузинской Советской Социалистической республики – город Тбилиси. Не помню уже герой или не герой… А также в Алазанскую долину, которая и была нарисована на конверте зелёной грядой, упирающейся в скалы Кавказа под солнцем серпа и молота.
А в Тель-Авиве я никогда не был.
И, к сожалению, никогда и не буду.
Не потому, что стесняюсь,
комплексы, там, конспирология,
а потому, что с быдловатым пренебрежением
отношусь к узам крови,
исчислениям колен, и прочее,
чем заврали смысл одни,
чем другие отредактировали,
чем третьи зачли,
подёргивая перепончатыми крылышками
и потирая передние лапки;
не потому, что понамешано,
хотя и понамешано,
но можно, при желании, и размотать клубочек,
и добраться до чего-нибудь,
по-настоящему, существенного,
но мы ведь знаем, что яблоко иногда падает
очень далеко от ветки,
того и жди подвоха,
пера под ребро,
ответки.
Вот, наверное, поэтому
я и не был никогда в Тель-Авиве.
Потому же видать и не буду,
но сколько жизни,
сколько любви и солнышка
в этом грузинском слове.
Я первый раз летел в Аэрофлоте, и, в очередной раз, был прокинут Высоцким. Стюардессы, помнится, меня не впечатлили абсолютно. Приходилось тупить взгляд, стыдясь надежд, обманутых почти живым еще тогда классиком барделатуры.
Принимающий аэродром встретил оранжевой сковородкой. Ночное небо разрывалось космическим скрежетом цикад. Луна мячиком скакала в окне серпантинящего по склону скалы автобуса, а усатый в кепке, левой рукой крутя баранку, другой – наливал вино, в стакан какого-то гамарджопы, пока хвост автобуса то оставался за поворотом, то выскакивал в пропасть.
Здравствуй, Грузия!
Винный рай
Страна поэтов и художников.
Приют нешибко опальных русских интеллигентов,
переживающих отеческую критику
от царя или правительства
в гостеприимных объятиях
горячих ценителей высокого искусства.
Здесь всегда есть, кому утереть
твои справедливые слёзы обиды.
Следующим утром нам бегом показали Тбилиси:
там внизу – Кура,
тут на горе в ресторане – Хванчкара,
а на том берегу – купола,
это – турецкие бани.
Ты знаешь, я слышал, —
влез мне в ухо нахальный сосед, —
что в бане грузинки бреют друг дружке спины.
Потом два часа свободной прогулки
по ароматному рынку.
Тёплые воды Лагидзе, – сладкая радуга,
пойманная мутным гранёным стаканом.
Самые престижные в 80-х автомобили —
чёрные Волги ГАЗ-24,
носились по городу на запредельных скоростях,
не замечая красных светофоров,
распугивая прохожих,
выскакивали на тротуары и газоны,
воя клаксонами так,
что по знойному воздуху расходились волны,
которые можно не только увидеть, но и потрогать.
Вдарили по подреберью струны канатной дороги.
Осторожней, маэстро, с роялем.
Каплей солёной со скал:
Грибоеда везут.
Только тут
можно понять и принять, как родной,
этот серый приземистый город,
это – гнездовье ворон,
эту – орлов молчаливую высь.
Зацепился я там головой за натянутый провод
и вишу до сих пор
и смотрю зачарованно вниз.
В затрапезной гостинице,
возле обшарпанных пальм
в городке неприметном тогда…
О, влюблённость моя! О, Телави!
Сотня мелких домишек,
растущих в свои погреба,
потому, что нельзя строить выше,
согласно советским порядкам.
В погребах тех – вина океан —
пробуй годы любые со дня сотворения мира
на терпкость и сладость,
ароматы дымка, чистоту родника,
горечь горных полыней.
Погреба, уходящие вглубь на века.
Есть на вкус, до сих пор, даже то,
чего нет на земле и в помине.
Будет вам и бахча, и луна,
и сарай, и фонтан.
Испробовав сухого в бутылках ноль восемь по 69 копеек, которыми было уставлено всё на прилавках единственного гастронома в городе, мы восхитились ценой, но не качеством напитка «Сухое белое вино», для приличия украшенного в углу этикетки грузинской загогулинкой, вензелёчком, напоминавшим чахлый листик лозы.
А настоящих лоз тут было, аж до самого горизонта,
который бы длился и длился,
завиваясь вокруг Земли,
не встань на его пути неприступные горы Кавказа.
Зелёненькие такие, ровные рядочки,
как этикетки на бутылках ноль восемь.
Послушавшись совета бывалых —
в первый дом не заходить,
мы сразу постучали во второй,
где гостеприимный хозяин,
ни о чём нас не спрашивая,
лишь хитро высовывая глаз из-под седого уса,
жестом поманил в погреба,
где уже росился щедро нарезанный сулугуни,
истекали сиропом ломтики помидора,
розовели пушистые персики.
Мы пробовали и пробовали,
дегустировали и дегустировали,
пили за внучку в Москве,
за племянницу в Улан-Удэ,
за папу жены, погибшего под Берлином,
за маршала Жукова,
за товарища Сталина…
Проснулись утром в номере,
на столе две трёхлитровые банки —
одна красная, другая белая.
О, Телави! О, любовь моя!
Маэстро Любов
В нашей туристической группе
женщины, в основном, были преклонные,
с той незамысловатой формой туфель,
которая, ну, никак не предполагает
какой-нибудь искорки в других частях.
Потому и по лицам скользилось легко,
как по облаку.
Но были две сестрички! Щёчки с ямочками,
в глазах колокольчики.
В истомном возрасте – только рвать.
И мы с соседом как-то сразу их заприметили.
Он вертлявый студентик какого-то институтика
и туристический гид по совместительству,
я юноша,
чуть больше года как из-за школьной парты,
краснеющий от фантазий.
Они в нас тоже глазками цап-царап,
но похмелье
и график перемещения
по достопримечательностям
тем утром лишили нас приятного знакомства.
До вечера, сестрички.
Ненавижу экскурсии по замечательным местам
и доисторическим весям.
Часа два везут по жаре,
бормочут переломные даты,
повторяют
нафиг ненужные памяти великие имена,
пересказывают
вранливые сюжеты из путеводителя,
сочинённого редактором какой-нибудь
районной газетёнки,
выстреливают гороховым стручком из автобуса
в пыльную обочину,
обувают в байковые тапочки,
чтобы не поцарапали наборные паркеты,
водят табунами перед портретами,
выпучивших зенки,
напомаженных и разодетых,
чёрт знает в какую парчу,
бархаты, шелка, кружева, вуальки
скучнейших на вид особ разного пола.
Словно мне есть дело до того,
как и в чём позировал,
пусть самый распрекрасный,
воевода лет 300 назад.
Достаточно, что знаю, как сейчас выглядят
выдающиеся люди:
фото старцев из политбюро
на каждом углу каждого города СССР.
Крутишься, вертишься, потеешь, тупеешь,
думаешь: когда же это кончится, ёж вашу мать!
В то утро повезли и нас по музейному маршруту.
Я было приготовился
к угрызениям безобразной тоской,
как надо же – экскурсоводша —
грузиночка лет тридцати,
с выкрашенными пергидролем
озорными кудряшками,
орлино надломленным носиком
и жарким, улыбающимся, белозубым ртом.
Вот, думаю, есть чем полюбоваться.
И взглядом,
бесцеремонно так, вожу по всем местам.
А места, надо признаться,
только разжигают воображение.
И там изящно выпукло
и здесь тревожно колышется.
И надо же так, что я сижу на первом сиденье,
а она – напротив,
и слушаю, слушаю, глаз не спуская.
Она искоса на меня чирк ресницами,
но тут же вся выпрямляется,
чтобы слова не забыть.
Так и мчимся,
пронзённые молниями взаимного интереса.
Шалунья, ножку на ножку и, как бы нечаянно,
по подошве моей сандалеты скользит туда-сюда
острым носиком своей туфельки.
О, грузинские женщины!
Сколько же в вас огня!
Как же чувственны ваши прикосновения!
Привозят нас к древнему замку,
которому бесконечные тысячи лет.
Скала. Крепостные стены из каменных глыб.
Заходим в храм.
Фрески, и правда, не новодел —
потёртые, намоленные, жёсткие,
лица святых суровы и воинственны.
У алтаря высоченный, готически щуплый батюшка,
два тощих монаха в чёрных рясах
и наша туристическая группа
из двенадцати человек.
Рядом со свечным подносом – картонная коробка
из-под сухого вина за шестьдесят девять копеек,
с надписью, намалёванной шариковой ручкой
с усердием, аж до второго слоя бумаги:
«Для пожертвований».
И вот, стоим мы в блаженной прохладе храма,
внимательно слушаем пение батюшки
то ли на латыни, то ли на грузинском,
как вдруг, туристы расступаются.
Поворачиваюсь.
В церковь входит огромного вида грузин
с двумя шустрыми спутниками,
вихляющимися подобострастно
чуть позади центральной фигуры.
Не крестясь, не кланяясь,
она движется прямиком к заветной коробке,
вынимает толстенными пальцами
купюру немыслимого достоинства
из пухлого бумажника
и бросает её в коробку.
Туристы в шоке.
Батюшка поперхнулся на полуслове.
У тётушек в глазах и нежность, и восхищение,
готовность помолодеть лет на тридцать
и отдаться тут же, под сводами.
Тело разворачивается и чинно удаляется.
За ним и вся наша компания, как зачарованные.
А я замешкался.
Тут, один из прихлебателей:
к коробке – шасть,
купюру – хвать,
и на выход,
к своему господину.
Вот, думаю, грузинский понт,
который дороже денег.
А вы мне: Печорин, Печорин!
Вечером, вернувшись в гостиницу,
мы только было отважились на знакомство
с сестричками, как нашу туристическую группу
торжественно приглашает на пир
с шашлыком и хинкалями
некий таинственный покровитель прекрасного,
всю жизнь мечтавший встретить в Телави
путешественников из столицы нашей родины
Советский Союз.
Грузинское гостеприимство предстало в том самом
упитанном лице,
ошеломившем русских дам в божьем храме.
Его щедрый живот мог вместить трёх овечек разом.
Он был неразговорчив, улыбчив,
и нежно прижимая к сиськам
счастливых сестричек,
шептал: солнце, красавыца ты мои.
В тот поздний вечер туристы навеселе,
но в полном составе, вернулись в гостиницу,
а утром прильнули к окнам.
Вчерашний хозяин пиршества
напротив парадного входа в гостиницу
между двух пальм, позолочённых восходом,
обнажив мощный торс,
умывался из шланга, тянущегося от пыльной фуры,
на цистерне которой красными буквами значилось:
ВИНО.
Он пыхтел, жмурился, хлюпал подмышками,
брызгался, тряся шевелюрой,
подставлял лицо солнцу,
лучезарно улыбался и глядел высоко в даль
из-под крылатых бровей
взором полным благородства и любви
ко всему прекрасному.
Сестрички, заливаясь колокольчиками,
выбежали на улицу.
Оставшиеся четыре ночи
они в гостинице не появлялись.
Их доставил прямо в аэропорт
жизнерадостный друг на своем виновозе.
Когда я спросил его для истории:
– Как вас зовут, уважаемый?
– А ты хто такой? —
кашлянул он, глядя в сторону
приземляющегося ТУ из Ленинграда.
– Поэт, – говорю.
– Хе-хе-хе. Ну, тогда я – маэстро Любов…
О, Телави!
2018
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































