Текст книги "Лефортово и другие"
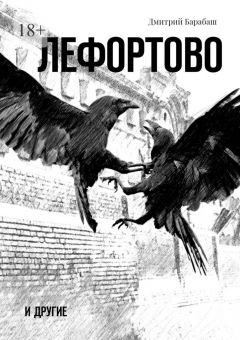
Автор книги: Дмитрий Барабаш
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
XXI. Монолог чиновника с поэтом
Я понимаю не всё, что вы говорите,
но догадываюсь почти обо всём,
что вы хотели сказать.
Существует люфт между тем,
что вы говорите и тем,
что я считываю с ваших слов.
От лёгких несоответствий
сказанного вами и понятого мной,
в зазоре, возникает приятная дрожь, вибрация,
которую вы, видимо, и называете мыслью.
Интерпретируя ваши слова на свой лад,
я, кажется, начинаю думать.
Или вы воздействуете на меня
изощрённой гипнотической техникой,
что сделать достаточно просто,
потому что мы, априори, находимся
в состоянии транса? Тюрьма. Тишина.
Полумрак. Камера на две персоны —
купе поезда с зарешеченными окнами,
несущегося в никуда, выражаясь, в вашем,
поэтическом стиле.
Несмотря на вероятность скрытого
воздействия на моё сознание,
я поддаюсь ему с непривычной лёгкостью,
и даже с удовольствием, потому
что всё, чего мне стоило бояться в реальности —
уже случилось.
Новая, нематериальная или
надматериальная реальность,
которую вы рисуете теперь, мне интересней той,
оставшейся в надоблачном прошлом.
Психиатрические опасности,
которыми, несомненно, изобилуют ваши речи
и, особенно, образы, из них возникающие,
меня не пугают. Какой они могут причинить вред
бывшему корпоративному божку,
сброшенному с Олимпа власти?
Там, на вершине, действуют другие законы,
неведомые прозябающим внизу.
Уголовный, гражданский, арбитражный, трудовой
кодексы —
это лава подножий, и если тебя окунули
в языки её пламени,
вскарабкаться к прежним высотам
можно только вырядившись в лохмотья мученика,
пострадавшего за высокие идеалы,
за гуманизм и социальную справедливость.
У меня другое амплуа.
Цинизма, пожалуй, хватило бы,
но азарта и жажды власти,
спирающей дух восторгом садиста,
волчары, пасущим овечье стадо,
уже недостаточно.
Мыслить и править – две вещи несовместные,
как гений и злодейство, если перефразировать,
а то, что там называется мыслью,
прислуживает звериному чутью:
где поднять хвост, где поджать,
где оскалить зубы, где присесть и высунуть язык,
где вцепиться в глотку,
кому отстегнуть, с кого взять,
где спрятать, где перепрятать спрятанное…
Так, с небольшими отличиями, было и при Иванах,
и при Александрах, и при Николаях,
и при Сталине, и при Брежневе…
Иногда подмешивался компонент веры
в наместника Божьего, в Справедливость
или, как сегодня, во всемогущий Маркетинг.
Вера – лучшее лекарство от вредной совести,
щемящей изредка грудь и мешающей работе.
Иначе и быть не может
в жёсткой системе равновесий,
чуть ослабишь хватку —
и ты, в лучшем случае, здесь, в Лефортово,
лежишь, вспоминаешь любимую поговорку
весёлого товарища Сталина:
«Молодец против овец,
а против молодца – сам овца»,
и слушаешь шизофренический поток сознания
милого инопланетянина,
врачующего твою паранойю.
XXII. Цветнот
Мой Цветной с облезлой вороной,
вытягивающей предсказания
из чёрного целлофанового пакета
потёртого изнутри так, что её глаз
то и дело моргал и шевелился
в окружении других звёзд,
пока она вылавливала сокровенную бумажку
в потустороннем пространстве…
Я раздваивался, оказываясь на Цветном,
напротив цирка, в обличии угодливого фотографа
в щуплых брючках и клетчатой кепке,
завлекающим безглазых прохожих на портреты
на растакую-то офигенную память
в компании шарманщика с клоунским носом
на венгерской резинке и серой вороной
на пёстром пологом плече:
Получите волшебный бонус —
пророческое напутствие от всевидящей Кари.
– Хари Кришна. Кришна Хари, – вторили рядом,
танцующие в лепестках белых акаций и лотосов,
в звоне колокольчиков и босоногих бубнов.
Слонов из удушливого цирка – на бульвар,
ублажать азербайджанскими фруктами
Центрального рынка,
а по главной аллее – испуганный Терри Гильям
на гигантском одноколёсном велосипеде
с золочёными спицами,
прямиком с огненного шоу —
бикапо Германа Виноградова,
карнавал постмодерна
врезает хрусталики счастья в зрачки ротозеев
по технологии одноногого волшебника —
профессора Фёдорова,
убитого вертолётом девяностых.
Вкручивая между глаз, точнее, чуть выше – в лоб
двадцатикратный зум,
фотостаратель проецирует детали
на заднюю стенку черепной коробки.
Нейроны дождевыми каплями выпрыгивали
из лужи мозга,
отбирали детали и впитывали в память.
На скрипучей тележке,
левое переднее колесо которой
покрашено солнышком с острыми лучами,
длинноволосый чел в чёрной робе
и фенечкой на запястье
везёт свинцовые слитки к Литературной газете
(свинцовое солнце имеет тревожный оттенок).
Их расплавят, и дождиком будут
выпрыгивать литеры для высокой печати.
Он идёт вдоль фасада особняка,
в котором сейчас (тогда) заседало посольство или
представительство третьестепенной страны,
а позже разместится предвыборный штаб
«Единой России».
Государственные секьюрити станут играться
в политтехнологов и аналитиков,
социологов и спикеров, в депутатов,
начальников департаментов,
министров и грозных главнокомандующих.
Высокая печать сменится на офсетную,
пробьется цифра,
тиражи стремительно рухнут
и в серых коридорах литературки
воцарится корпоративный дух
вертикального порядка.
Но тогда, в те, осыпающиеся с фотоплёнки годы,
еще теплится в полумраке кабинетов
настольными лампами непринуждённая жизнь,
греется водка в потайных шкафчиках,
черствеет бутерброд
и шебуршит конфета на занюшку
редактору, корреспонденту,
сотруднице отдела писем
с очаровательным личиком, толстой попой
и печальной судьбой.
Стучат машинки по чёрной ленте,
словно дождь в алюминиевый подоконник
впечатывает в бумагу своевольные фантазии,
завлекалки, интересности, рыболовные крючки,
спрятанные в дрожжевое тесто патриотизма.
Весенний, осенний, летний, слепой,
проходящий Цветным.
Так случилось, что здесь солнце всегда шпионит
из-за тучи,
подсвечивает детали,
заставляет искриться капли,
летящие к задиристой земле.
От того и Цветной,
что над ним выгибаются радуги.
Куда ни пойди от бульвара, винильная память
приютилась в проулках и крутит Вертинского
про Магдалину.
Бедный piccolo bambino.
Ванильный восторг от мещанской пекарни.
Здесь в четыре часа февраля за пятнадцать копеек
продавали с печи кренделя и румяные булки,
и замедленный пар
поднимался над выспренной сдобой,
извиваясь иглисто в медовых лучах фонаря.
Тут в морозную ночь, во дворе за зданием
Литературной газеты,
когда Феллини проплывал над Москвой
на воздушном шаре и прижимал к груди
светоотражатель, похожий на огромную Луну,
в его, полосующем небо, луче,
на глазах двадцатилетнего студента,
разгребавшего снег за жильё и копейки,
из подъезда пятиэтажки вышла обнаженная дама
с идеальной античной фигурой
и длинными, сияющими в лунном свете,
распущенными волосами.
Она босиком подбежала к уцелевшему
в первозданности снегопада сугробу,
бросилась в него и каталась в ледяных хлопьях
заливаясь волшебным, нечеловеческим хохотом.
– Alto! Alto! Sonoro! —
визжал Феллини с Луной в руках
из корзины воздушного шара,
пока девица не вспорхнула и,
перепрыгивая с ножки на ножку,
не скрылась
за коричневой деревянной дверью подъезда,
которые в те времена ещё не запирались.
Любовь насквозь пронзила сердце юного дворника.
Это была любовь к искусству.
К нематериальным воплощениям
в материальном мире.
XXIII. Счёты с Землёй
Вы, для своего времени,
хорошо образованный человек,
с избыточной мерой цинизма для того,
чтобы выглядеть умным
в кругах, представляющих власть,
взгляни вы на себя теперешнего
лет через двадцать,
а через двести, а через пятьсот,
удосужите ли вниманием?
А если, всё-таки, вдруг,
отыщите себя в толщах пыли,
то каким предстанет уровень
вашей нынешней просвещённости
и степень вашего цинизма?
А гипербола вашей важности?!
Представьте, что вам вот выпало жить
бесконечно долго
от этой встречи в Лефортово
до забытых в будущем цифр.
Каким вы будете выглядеть в своих же глазах?
И какою мерою станете измерять
значение собственной, некогда, персоны?
Я всего лишь к тому, что чины и заслуги,
а тем паче учёные звания,
и, как это не комично оттуда звучит,
научные труды…
Будет ли вообще существовать то деление
на линейке вашего продолжения,
которым вы являлись
до момента заключения сюда,
и тешите себя тем, что станете вновь?
Согласитесь, забавная шутка.
Почему бы нам вместе над нами
не посмеяться оттуда,
где мы только что посмели себя вообразить?
Это ли не величайшее из удовольствий,
отпущенное смертным,
то есть тем, у которых
отмечен забвения час?
Смерть страшна прежде тем,
что себя ты представишь реальным,
соразмерив с масштабами вечности.
В этом смысле
бессмертие каждой трепещущей твари
вручено, словно дар, при рождении.
Ах, эти масштабы!
Если с ними играться,
то можно дойти до греха.
Соразмерить, допустим,
снующего ныне тирана
с тем тираном,
который воздвиг пирамиды в пустыне
или в дикой Сибири построил гигантские ГЭС.
И тотчас обнаружите странную закономерность —
чем бездарнее царь,
тем число бесполезных смертей,
словно в подлой пропорции —
геометрично высоко.
Что же мерить прикажете?
Воплощения божественной мысли
или смерть на другой,
опустившейся в бездну руке?
До политик ли мне?
До сведения ль счётов с землёю?
Я ж её полюбил до утробы.
Я тот золотарь,
что готов пить с колен её сточные воды,
и с помоек питаться,
и строить, и мыслить, и быть.
Я люблю эту землю
последней возможной любовью.
Кто бы дал мне другой,
ослеплённой страстями любви,
окрылённой желаньями, верой,
дыханьем свободы?..
Но приходится жить на свои.
Я бы мог вас спросить…
Но боюсь в тишине не услышу
ваш ответ за пределами роли,
которую сам давно заучил на зубок,
и готов, если что, на подмену.
Если ж вырваться нам за пределы
обыденных тем,
отряхнувшись от формул,
навязанных ходом событий,
то опять монолог.
И поди, разорви эту нить
2019
Рахманинов
(очерки русской культуры)
Смотрел по ютубу блаблабла Градского.
Гранд-композитор гламура ру.
Рокер-брокер, который, вроде, и «за» всегда,
завсегдатай топа,
и в то же – против. Вертлявые па.
Мальчики справа, девочки слева.
Любовь forever!
Нет глаже голоса, чем у Г.
У Г. голосище —
сладок, чист.
Но какая-то гадость, давным-давно,
ещё в переходном возрасте,
попала в горло и там прилипла.
Сопли? Хронический гайморит?
Сделайте «кхе», маэстро.
Так вот.
Берет у него интервью
шпион трёх разведок (Джон Ланкастер)
и телеведущий
под прикрытием (по совместительству) —
дедушка Познер,
круглолицый, лысый, с ленинским прИщуром,
с масонским перстеньком на безымянном.
Они с Градским схожи – легко совмещают
высокое с низким, тирании, демократии,
позиции, оппозиции —
лояльная либеральная интеллигенция,
тремя словами матерясь.
Познер в очочках задиристых,
мол, всё не так просто,
мол, всё с подвохом,
мол, я поумнее буду,
чем кажется лохам.
Интервью течёт мёдом.
Душа в душу лучатся великие собеседники лыбами.
Того гляди, начнут вылизывать друг другу уши.
И тут Познер в позе Вергилия, что ли,
задаёт Г. любезный такой вопросик:
– А вот если, допустим, вы бы,
как бы, могли бы, когда-нибудь,
пригласить или провести день
с каким-либо умершим человеком,
из тех, которые? Или, ещё живые?
Вот, с кем бы вы?
– А что мы с ним делать будем?
Гулять? Обедать? Водку пить?
– Да, гулять, обедать, водку пить, разговаривать.
Так, с кем бы вы? А?
– Я бы, – отвечает, хихикая и лоснясь,
откидывая прядь длиннющих седоватых,
слипнувшихся волос, с лица;
– Я бы, пожалуй, с Рах-ма-ни-но-вым!
И смотрит под купол,
в софиты, сквозь янтарные линзы,
глазами гнусавого ангела.
Тут я подкинулся с праздной подушки.
Рахманинова переслушать? ЖЗЛ перечесть?
Глянуть ролик
какого-нибудь современного режиссёра в темку?
И на тебе! Лунгин, лапочка, любимый с пелёнок —
с унылого такси
в радужных каплях оконной нагости,
царя с бесенятами, резвящимися
в кишках отца Охлобыстина,
островом, кочегаркой, юродивым,
плывущим в гробу по ледяной воде
в бесконечную тоску нашей матушки
(межгалактическая босонога).
И дело о мёртвых душах, конечно,
искристый такой фильмец, бодрящий.
Ну, думаю, если такой хват за Рахманинова взялся,
то уж точно душу из него вынет и нам покажет
во всей слоистости.
Фильм называется по-бунински трепетно —
«Ветка сирени»
– уже интрига.
Начало.
Рахманинов, вдруг, ни с того,
будто спросонья, в Карнеги-холле.
Как затрясётся, как заверещит:
– Уберите из зала красных сатрапов,
кровожадных извергов,
губителей творческой интеллигенции, —
и длинными пальцами в ложу тычет, —
а то играть вам, америкосы глупые,
толерантные жадины,
ни за что не буду!
Зрители испугались, что концерт лопнет,
и стали кидать в советского посла огрызками яблок,
фантиками, скомканными салфетками,
грязными носовыми платками
и всякой гадостью.
Посол, отряхиваясь от чужеродного мусора,
и зыря наперекор, исподлобья,
попятился с ложи и вышел вон вместе со свитой.
Рахманинов приосанился.
Тремор унял.
Прямоугольно сел за рояль
и пролил звуковой нектар на Карнеги-холл:
блям блям блям
блюм блюм блюм
курлю мурлю бабах.
Зал – в сопли!
Газетчики строчат дифирамбы.
И есть про что.
Политическая выходка музыканта
ввергла общество в рекламный бум.
Контракты сыплются тыщами телеграмм
со всех концов и весей
американских штатов.
Рах-ма-ни-нов!!!
Блям блям блям!
Режиссёр держит ритм и, вцепившись зубами
в усталый штамп – телеграмм-паровозов —
побеждает банальность
количественным превосходством.
С такой щедрой железнодорожной нарезкой,
сравниться могут по масштабу разве
батальные сцены Бондарчука-отца.
И туда тух тух тух,
и сюда тух тух тух,
и с трубой тух тух тух,
и без трубы тух тух тух,
и вдоль экрана и поперек и наискось —
минут на десять
паровозно-телеграммного восторга.
Не купил, видать, когда-то папа
Лунгину железную дорогу,
так нате ж!
У героя киноленты, как это водится
в шизанутых творческих умах,
под однообразный стук чего бы то ни было
обо что бы то ни было,
пошли ретроспективки: чух-чух-чух.
Вкратце сюжет следующий.
Милого нищего мальчонку из разорившихся дворян
подбирает сердобольный, но строгий,
музыкальный профессор Зверев,
исполняемый, всегда одинаково
гениальным – Петренко
(даже часы в кармане жилетки
остались от соседнего фильма,
так и блестят на цепочке).
Ему в подмогу – воспитывать гения, сестрица,
вечный чёртик из табакерки – Лия Ахеджакова:
эхи, охи, ахи, шёпоты.
Юношу лелеют, шалабанов дают,
поскольку он на фортепьяно
лучше Листа должен играть,
а Лист – он не лыком был шит,
круче всех блямкал.
И, как только переплюнет юный Рахманинов
покойного Листа,
так мальчика – Петру Ильичу Чайковскому
на смотрины
и классические напутствия с благословениями.
Учёба была долга и трудна. Мальчонка мужал,
сочинительством предательски увлёкся
и влюбился, гад, в девицу,
поддавшись природе возраста
и рукоплесканию гормонов.
Влюбился в нечто несуразно губастое
в красном платье.
Нечто, по замыслу режиссёра,
соответствующее образу
светской дамы царской России начала 20 века.
Страсти, жидкости, сирень, раздрызги.
Для пущей чувственной пряности
является кузина из провинции:
зубки большие, острые, глазки жадные,
так и норовит слопать мальчика
божественными мухоловками.
Зверев при параде,
баранок накупил, самовары заправил,
Ахеджакова
кружевами из последних сил дрожит —
Чайковского на чай ждут, недоросля показывать.
А мальчик-то,
мальчик с девочками голой попой вертит.
Совсем не там тусуется,
где толерантный дух искусства.
Светятся в солнечных лучах ладные ягодички
на фоне розовых штор в спаленке дамы сердца.
Но что-то ёкнуло в груди юного Рахманинова.
Глянул на часы. Прервал лобзания.
Прыгнул в бричку, и летит в зверевскую обитель.
Бац. А Чайковского – и след простыл.
Опоздал. Облом!
Был Чайковский. Чайку попил. И откланялся.
Ахеджакова шипит змеёй,
Зверев проклятьями грохочет.
Юноша огрызается: тяф-тяф-тяф.
Так и не довелось Петру Ильичу на старости лет
испытать рахманинскую прелесть,
восхититься мальчонкой.
Зверев так осерчал, опечалился,
словно задаток какой взял да и потратил.
А чем теперь возвращать, и кому?
Погрустил, погрустил, да помер.
Сюжет мчит дальше.
Революция. Костры. Солдаты чумазые.
Будущий посол СССР
супит брови из комиссарского кителя,
свербит глазёнками,
стращает Рахманинова, стенкой грозит.
Или станешь нашим революционным Моцартом,
или конец тебе, буржуйский ублюдок!
По лицу героя пробегает тень близкой смерти.
Желваки выжимают готовность к подвигу.
Нет спасения. Компромиссы чудовищны.
И вдруг, его первая любовь, то губастое в красном
выплывает из марева революции.
Губы искусаны, два бессонных синяка
вокруг источающих пламя глаз,
на голове баранья папаха с алой ленточкой.
Спасение.
Провела героя между пьяных матросов,
так и норовивших штыком в попку кольнуть,
мандат справила и помогла бежать навсегда
из убийственной, растерзанной дикарями, родины.
За границей,
где пряталось утомлённое революцией солнце,
зубастая сестрица
уже поджидала своего богом суженного кузена,
заграбастала Рахманинова в тугие объятия
и мигом родила композитору дочь.
Вот они, типа, в свободной Америке.
Типа, прозябают в роскоши.
Типа, Голливуд.
И кресла в бархате.
И олдс мобил с клизмой-бибикалкой.
Казалось бы, всё окей, но что-то не так с героем.
– Нашей доченьке уже 10 лет, —
елейно мурлычет супруга.
Рахманинов выпрыгивает из машины
и бредёт в чащу кактусов, бормоча:
– Ни ноты за 10 лет. Ни ноты-ы-ы-ы!
Руки растерзаны иглами растений.
Герой пошатываясь,
тыкаясь в стены, замазанные мелом,
узенькими улочками,
мексиканскими лабиринтами, пробирается
по голливудским трущобам,
под знаменитыми горными барельефами,
а рядом греческие дети играют в прыгалки.
Пролетая по кадрам, абсурд
касается зрительского мозга
безжалостно нежным крылом.
Усилием воли вспоминаешь место действия
и успокаиваешь себя
неудержимым гением режиссёра:
на самом деле – это Америка,
место действия – Голливуд,
Рахманинов.
Актёр главной роли трагичен не ролью,
а сам по себе.
Присмотревшись, обнаруживаешь в его манере
ускользающие черты кумира —
мистера Бина, которого он мечтал сыграть,
но сыграл его не он, а Роуэн Аткинсон, да так,
что лучше уже и не выйдет.
Но как же хочется повторить гениальные ужимки,
гримасы, почёсыванья, почихиванья;
в результате – лицо сводит паралич,
и, бедный, не в силах моргнуть,
вильнуть бровью,
высунуть язык,
выпучить глаз,
так и шатается остолбенелым Рахманиновым,
пока в спасительном кадре не возникает
толстощёкая цветочница
с охапками ромашек и лютиков.
Рядом с ней в трёхведерном горшке
торчит несколько деревьев сирени —
белой, персидской, махровой.
Рахманинов обнимает стволы,
плюща о них недвижное лицо,
наконец, придавая ему мучительную гримасу,
пускает слезу и краем рта спрашивает:
– Откуда это здесь?
– Есть тут странная дама, – отвечает цветочница,
которая каждую неделю
заказывает по кусту сирени.
Вот и сегодня должна была прийти, да не пришла.
Так что забирайте себе, если нравится.
– Как зовут ту даму, – спрашивает Рахманинов.
– О, у неё очень сложное русское имя,
не выговоришь.
Её зовут Наташша, —
отвечает цветочница на чистом русском.
В глазу парализованного мистера Бина
мелькает прозрение.
Наташа – это и есть его первая любовь,
то самое чудовище,
спасшее Рахманинова от красных штыков.
Зритель поддаётся манипуляции режиссёра
и думает, что сейчас герой с деревом сирени
рванёт на поиски Наташи, бросится к её ногам
и сумбурная страсть
вспыхнет с новыми взвизгами…
Но хрен тебе зритель, а не букет страстей.
Рахманинов с деревьями в горшке
на своей вилле, в мексиканском Голливуде,
на дальнем плане – бушует океан,
на переднем – жена с тортиком
и доченька задувают свечи.
У них День рождения.
И видят дамы в окне,
промеж рам, шатающегося папу
с деревом в руках под проливным дождём.
– Что ты, – спрашивает мама, – загадала?
– Вот это, – показывает девочка
в сторону окна и папы,
пытающегося воткнуть горшок в газон.
– И я, – улыбается зубастая мама.
Бедный мистер Бин, бедный Рахманинов!
Бедный мистер Бин, бедный Рахманинов!
2019
Гекса
Сквозь
Я прозрачная сфера.
Метаться по прихоти мысли.
Одинцово. Февраль.
Сизый вечер. Звенят фонари ледяные.
Поднырну в пирамиду бессмертного ртутного света.
Снег кружит сквозь меня,
как игристый простуженный брют
пузырьками Массандры.
Весёлые полночи Крыма
с золотою луной
в бледно-синих прожилках экстаза,
исцелованных в кровь виноградного
красного с тонким
послевкусьем тоски и железа.
Так пахнут копейки,
если долго нести в кулачке на заветный прилавок,
за которым с курчавой улыбкой блистая очками
дожидается марка, на две пирамиды распавшись
отражением в линзах,
зализанных утренним солнцем…
Словно их почтальон налепил
для отправки в Египет
из Одессы, как будто, из той еще самой Одессы.
Кто сказал, будто радость проходит,
как время и жизни?
Если в ялтинской мороси
пульс маяка проблесковый
тянет трубочкой губы к ладоням ревнивого моря
и парит над волнами, пытаясь дыханьем согреть
изумлённые пальцы,
в перчатках туманного шёлка…
И скрипят, словно чайки,
борта обескрыленных яхт.
Только радость и есть,
только радость и будит реальность
от случайных предметов,
от хаоса смутных предчувствий,
от событий пустых,
от повторов неточных сравнений,
чтоб собрать из частей
и восполнить возвышенный образ —
тот, который и есть суть явлений, причина и цель
продолжения мысли с любого конца и начала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































