Читать книгу "В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма"
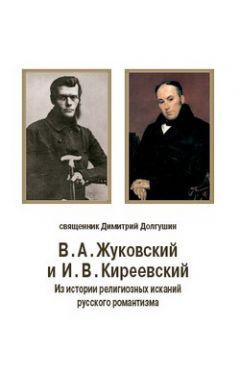
Автор книги: Дмитрий Долгушин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 4. Заграничное путешествие И. В. Киреевского (1830 г.)
Важным событием в жизни Киреевского было путешествие в чужие края, в которое он отправился в январе 1830 г. Жуковский смотрел на путешествие с педагогической стороны. Он видел в нем важное средство воспитания; недаром именно так, путешествием, он планировал завершить образование наследника престола.
В 1806 г., в свой период Lehrjahre, он сам хотел отправиться в Германию, чтобы «остаться в каком-нибудь университете, и именно в Ене» и там учиться, и этим «положить основание всей моей будущей жизни» [ПСС, III, 511]. То же самое он считал необходимым для молодого А. С. Пушкина. «Я бы желал пересадить его годика на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет!» [Жуковский 1985,218] – писал он П. А. Вяземскому.
И. В. Киреевскому Жуковский предлагает то же средство для образования себя к «авторству» и в письме А. П. Елагиной мечтает: «Как бы было хорошо, когда бы он мог года два посвятить немецкому университету!» [Лясковский, 20] (см. также [РБ, 95]). В 1827 г. Жуковский был готов хлопотать о том, чтобы послать И. В. Киреевского за границу для подготовки к профессорскому званию на казенный счет от Дерптского университета, но этот план не осуществился (см. [РБ, 104–105]).
Начиная с первой половины XVIII в. Европа постоянно посещается русскими путешественниками, причем обличие их меняется: насильно откомандированные Петром для обучения «мореходским и сухопутским» наукам сменяются щеголями елисаветинских и екатерининских времен, затем – чувствительными путешественниками по образцу Карамзина, и, наконец, в начале XIX в. появляется фигура русского, отправляющегося за границу не просто за «плодами учености», но для того, чтобы вслушаться в самый пульс европейской жизни и, пополнив образование, получив новые сведения и впечатления, вернуться в свое Отечество для деятельности, ибо, как писал H. М. Рожалин А. И. Кошелеву, «строить в чужих краях нам невозможно: место, цель, мера всему найдется только в России» [Колюпанов, I, кн. 2, 123]. Таковы любомудры.
В конце 1829-начале 1830-х годов многие из них едут в чужие края (1828 г. – С. А. Соболевский; 1829 г. – П. В. Киреевский, H. М. Рожалин; 1830 г. – И. В. Киреевский; 1832 г. – А. И. Кошелев). Внешние поводы этих поездок были разными, но внутренняя цель – одна, та, о которой говорилось выше.
И. В. Киреевский, вероятно, мечтал о поездке давно, но решение ехать пришло внезапно. Поводом стало тяжелое душевное состояние, вызванное неудачным сватовством[46]46
Подробнее об этом сватовстве см. ниже, с. 73.
[Закрыть] к Н. П. Арбеневой, на которое он не получил благословения своей матери и неудача которого ввергла его в уныние – он боялся огорчить всем этим Авдотью Петровну, хотел забыться в учебе и деятельности. Впечатления, заботы и труды, связанные с путешествием, должны были стать лекарством, способным залечить душевную рану. Впрочем, С. А. Соболевский подозревал еще одну причину – Киреевский чувствовал себя нездоровым и хотел лечиться, но так, чтобы скрыть это от родных, и потому решил уехать от них за границу [II]. Однако каким бы ни был повод путешествия, цель в конечном итоге состояла в том, чтобы «небесполезно провести время» и подготовить себя для будущей деятельности на благо отечественного просвещения.
21 августа 1829 г. И.В. Киреевский писал своему отчиму:
То, об чем я хочу просить вас, не минутный каприз воображения, но вещь обдуманная и зрелая, которая, по твердому моему убеждению, необходима для моего счастия, для моей образованности, и пр. и пр. Эта вещь – чужие краи. Отпустите ли вы меня? Денег я много не истрачу, разъезжать из города в город не буду, но стану жить на одном месте и надеюсь употребить на себя не больше того, что здесь на меня выходит. Это возможно, потому что цель моя – не смотреть, а учиться [РА 1894, кн. 3, 208].
Узнав о намерении Киреевского путешествовать, Жуковский обрадовался и, не дожидаясь письма своего воспитанника, первым написал ему. В своем письме он предлагал следующий план поездки: два года жить в Берлине и учиться в университете, два года – на путешествия по Франции, Англии, Швейцарии и Италии, в конце четвертого года – Греция, еще один год – на возвращение домой через южную Россию. Этот план в общем совпадал с намерениями самого Киреевского. Однако до поры до времени он хотел скрыть возможность долгой разлуки от маменьки и потому в письме Жуковскому, которое могло быть прочитано Авдотьей Петровной, писал, что не может уехать из дома более, чем на два года. Свое письмо Киреевский заканчивает обещанием:
Впрочем, Ваше слово во всяком случае будет мне законом, и как Вы решите, после того, как я изложу Вам свой план и его причины, – так и исполню; и чем больше Вы сделаете перемен в моих предположениях, тем больше я буду Вам благодарен, даже и потому, что это будет мне средством сколько-нибудь показать Вам, как дороги мне Ваши советы и участие [Киреевский – Жуковскому, л. 3].
Главное, в чем расходился Киреевский со своим «другом-отцом» в планах на путешествие было то, что он хотел в первую очередь посетить Париж, Жуковский же настаивал на том, чтобы сделать акцент на Германии (собственно, на Берлине) с ее университетами. Киреевский, видимо, уже тогда считал, что у Европы следует учиться прежде всего «фактам», он хотел почувствовать жизнь западного общества, для Жуковского же цель поездки виделась исключительно образовательной.
Из Москвы Киреевский выехал 8 января 1830 г. До московской заставы его провожал М. П. Погодин, который на прощание подарил ему стразовый перстень с пожеланием: «Пусть он чувством моей приязни обратится в бриллиантовый» [Барсуков, III, 57].
Проездом в чужие края Киреевский остановился в Петербурге. Благодаря подробным письмам, которые он ежедневно отправлял оттуда родным, мы можем достаточно полно представит себе эти 10 дней его жизни. В истории отношений с Жуковским они занимают особое место. Киреевский провел их «под родным кровом» поэта, близко общаясь с ним.
Киреевский приехал в столицу 11 января в 2 часа дня. В конторе дилижансов его ждала записка от Жуковского:
Здравствуй, милой Иван! Переезжай тотчас ко мне: я живу в Шепелевском дворце. Ты будешь жить у меня. Оставь свой чемодан в конторе дилижансов; за ним отправится мой человек и принесет его ко мне. Естьли не застанешь меня дома, то расположись в приготовленной для тебя комнате. Жуковский [Жуковский – Киреевскому, л. 23].
Киреевский немедленно воспользовался этим приглашением и отправился в Шепелевский дворец. «Жуковский обрадовался мне очень и провел со мною весь вечер…» [РА 1906, кн. 3, 580], – рассказывает он в письме родным, подробно описывая разговор, состоявшийся тогда между ним и Жуковским[47]47
Описание, которое Киреевский стремится сделать стенографически точным, в то же время – своеобразная художественная зарисовка, перекликающаяся со строками о Жуковском в «Обозрении русской словесности 1829 г.»: «каждое его слово, как прежде было, носит в себе душу, чувство, поэзию», «при нем невольно теплеешь душою, и его присутствие дает самой прозаической голове способность понимать поэзию. Каждая мысль его – ландшафт с бесконечною перспективою» [РА 1906, кн 3, 581]. Киреевский смотрит на Жуковского сквозь призму образа идеального поэта.
[Закрыть].
Жуковский расспрашивал его о матери, о родных; от Авдотьи Петровны мысль поэта спешила к милым образам прошлого – к М. А. Мойер и недавно скончавшейся в Ливорно А. А. Воейковой. Говорили опять о планах предстоящего путешествия, обсуждали литературные новинки – «Ивана Выжигина» и «Дмитрия Самозванца» Ф. В. Булгарина, «Юрия Милославского» M. Н. Загоскина. Жуковский читал детский журнал Елагиных «Полночная дичь», который ему чрезвычайно понравился. На ночь Киреевский дал поэту свою статью из «Денницы» («Обозрение русской словесности 1829 г.»). На следующее утро разговор был опять литературный. Жуковскому «Обозрение» решительно не понравилось – именно по причине уже известного нам «излишне систематического умонастроения», которое проявилось в ней и которое Жуковский называл «Прокрустовой постелью»[48]48
Похоже, что в последующем Жуковский не переменил мнения о статье. Больше он к ней, по-видимому, не возвращался. По крайней мере, в экземпляре «Денницы» из библиотеки Жуковского, довольно зачитанном, листы со статьей Киреевского остались неразрезанными [Денница] (Киреевский привозил в Петербург оттиск).
[Закрыть].
После разговора с Жуковским Иван Васильевич отправился к своим московским друзьям – В. П. Титову и А. И. Кошелеву. Обедал он вместе с Жуковским, который ради этого остался дома, а вечер провел вновь с Жуковским и Кошелевым у В. Ф. Одоевского. Этот вечер «был совсем Москва». Так – в общении с Жуковским, с «петербургскими московцами», которых поэт принимал очень приветливо [III], проходили последующие дни. 14, 15 и 16 января Киреевский виделся с А. С. Пушкиным. 14-го Пушкин был у Жуковского и «сделал мне три короба комплиментов об моей статье, – пишет Киреевский. – Жуковский читал ему детский журнал[49]49
Этот шуточный журнал «Полночная дичь» – характерный образец домашней литературы Киреевских-Елагиных. П. Бартенев пишет, что «живая, грациозная шутка была достоянием Елагинской семьи» [Бартенев, 492]. Это достояние они унаследовали от того «своеобразного семейно-дружеского литературного кружка» [Иезуитова, 209], вдохновителем которого был Жуковский. Здесь, по наблюдению Р. В. Иезуитовой, следует искать истоки арзамасской шутки, ибо, как писала А. П. Елагина в 1813 г., «столица галиматьи называется Долбино» [Парилова, Соймонов, 13]. В 1830 г. «Полночная дичь» еще выходила. «Милой брат Иван! полночная дичь после кори (которую перенесли младшие Елагины зимой 1830 г. – Д. Д.) по прежнему издается», – сообщает В. А. Елагин своему старшему сводному брату [Елагина, л. 8 об.].
[Закрыть], и Пушкин смеялся на каждом слове, и все ему понравилось» [РА 1906, кн. 3, 586]. 15-го они встретились с Пушкиным на улице и «отправились гулять по Петербургу».
16-го Жуковский, желая перед отъездом познакомить Киреевского с «отборными» столичными литераторами, устроил ему прощальный ужин, на который пригласил А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича, А. А. Перовского, П. А. Плетнева, В. П. Титова,
А. И. Кошелева, В. Ф. Одоевского, К. С. Сербиновича. Гнедич не пришел, и «его место заступил» В. А. Перовский[50]50
Об этом вечере сохранилась подробная запись в дневнике Сербиновича [Нечкина, 258–259].
[Закрыть].
Жуковский показывал Киреевскому Эрмитаж, они вместе ездили в Екатерининский институт, проведать дочерей покойной А. А. Воейковой. «Жуковский обходится с ними как дедушка, читает им проповеди, интересуется всякою безделицею, а они обходятся с ним как с товарищем, ласкаются к нему, толкают, рассказывают и как-то трогательно откровенничают с простосердечием» [РА 1906, кн. 3, 590], – описывает Киреевский это посещение в письме к родным.
Он уезжал из Петербурга 21 января, утешенный сердечным ласковым приемом, оказанным ему Жуковским и московскими друзьями. В контору дилижансов Киревского провожали Жуковский, И. С. Мальцев, В. П. Титов и А. И. Кошелев. Жуковский на прощание подарил ему «свою дорожную чернильницу и ящик со складными перьями» [РА 1906, кн. 3, 590], а главное – «надавал кучу рекомендательных писем» в Ригу, Берлин и Париж.
Вернувшись домой, поэт принялся за письмо Авдотье Петровне, в котором так говорил о ее старшем сыне: «Для меня он был минутным милым явлением, представителем ясного, и веселым образом будущего <…> Ваня – самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение. Его узнать покороче весело» [РА 1906, кн. 3, 595].
По дороге в Ригу Киреевский проезжал через Дерпт – город, с которым так много связано в жизни Жуковского. Он ехал ночью, и его охватило то особенное «грустно-радостное» чувство, которое следует назвать меланхолией: «мне было и весело, и скучно» [РА 1906, кн. 3, 594]. Вставали перед глазами связанные с Дерптом милые образы – А. П. Петерсона[51]51
Александр Петрович Петерсон (1800–1890) побочный сын П. Н. Юшкова, сводный брат А. П. Елагиной, в детстве жил в доме Киреевских (см. о нем: [Жуковский в воспоминаниях, 579]).
[Закрыть], H. М. Языкова; дилижанс проехал мимо дома Е. А. Протасовой.
В Ригу Киреевский приехал 25 января в 12 часов дня. Здесь ему впервые пригодилось рекомендательное письмо Жуковского, которое «прозаически познакомило» его с рижским генерал-прокурором Густавом Петерсоном, родным братом близкого знакомого Жуковского Карла Петерсона, скончавшегося в новогоднюю ночь на 1823 г. У него поэт всегда останавливался, бывая в Риге [Салупере, 444–446]. Киреевский описывает родным потрясающее действие, которое произвело на этого человека письмо Жуковского: «Когда я отдал ему письмо от Жуковского и назвал свое имя, он вскочил, бросился обнимать меня и пришел в совершенный восторг …» [РА 1906, кн. 3, 594]. Петерсон помог Киреевскому разменять деньги, показывал ему Ригу. Рассказ Киреевского о Петерсоне – не менее яркая психологическая зарисовка, чем та, которую мы видели в его письме о Жуковском. Из Риги через Кенигсберг Киреевский выехал в чужие края. По совету Жуковского он ехал в Берлин.
Сюда Киреевский прибыл 9 (21) февраля. Из берлинских знакомств половина состоялась благодаря рекомендательным письмам Жуковского. Киреевский имел их к барону Мальтицу (советнику при русском посольстве), Алопеусу (русскому посланнику в Берлине), Радовицу и Гуфеланду. У графа Алопеуса Киреевский провел день вскоре после приезда, познакомился с его женой и дочерью, «…они любезны и со мной были очень приветливы за письмо Жуковского, которого они очень любят» [Киреевский, I, 27], – сообщал он родным. У Мальтица Киреевский бывал чаще. В конце февраля он впервые посетил Гуфеланда, потом был у него еще несколько раз, и, как писал Жуковскому, «всякий раз выходил от него с душою, хорошо настроенною» [РА 1903, № 8, 453]. Эти слова звучат в тон дневниковым записям Жуковского 3 ноября 1820 г., написанным под впечатлением встречи с Гуфеландом [ПССиП, XIII, 148–150][52]52
Под пером Жуковского немецкий медик, основатель курортологии, Гуфеланд превращается в мудрого старца, чистого душою и высокого мыслью учителя жизни. Именно для духовного общения Жуковский рекомендовал его Киреевскому, надеясь, что Гуфеланд «потешит душу его своею душою».
[Закрыть].
Но более всех из берлинских знакомых Жуковского Киреевскому понравился Радовиц – друг поэта, которому Жуковский позже посвятит специальный биографический очерк. «Интереснее и теплее всех была для меня семья Радовицей, даже и потому, что они не иначе, как с самою горячею дружбою говорят и думают об вас» [РА 1903, № 8, 452], – делился он с Жуковским. В письме к родным Киреевский так характеризует Радовица: «Твердую, богатую, многостороннюю ученость соединяет он с душою горячею, с мыслями оригинальными и с добродушием немецким» [Киреевский, I, 28].
Но к тому, кто представлял для путешественника-любомудра наибольший интерес в Берлине, – к Гегелю – рекомендательного письма у Киреевского не было. Тем не менее, он был принят философом очень приветливо, несколько раз бывал у него в гостях, о чем подробно рассказывал в письме родным.
Дни берлинской жизни были заполнены учебой, впечатлениями от театра и произведений искусства. Время писать Жуковскому Киреевский выбрал только за пять дней до отъезда. В своем послании благодарил за совет провести месяц в Берлине и за рекомендательные письма.
Из Берлина он отправился к брату в Мюнхен[53]53
П. В. Киреевский жил в Мюнхене уже около года, слушая лекции в местном университете.
[Закрыть] (через Дрезден, откуда забрал H. М. Рожалина) и имел намерение поспешить оттуда в Париж. В Париже И. В. Киреевского с нетерпением ждал близкий друг Жуковского А. И. Тургенев[54]54
А. А. Дельвиг в одном из писем А. П. Елагиной писал в 1830 г.: «Тург<енев>, читал в моей газете о «Деннице» (т. е. читал в «Литературной газете» рецензию А. С. Пушкина на «Денницу» М. А. Максимовича – альманах, в котором была опубликована статья И. В. Киреевского – Д. Д.) и горит нетерпением познакомиться с вашим сыном. Скажите Жу<ковскому>, пишет он, чтобы он посылал его скорее в Париж, его талант найдет здесь окончательное образование. Желаю скорее обнять его» [Елагина, л. 3]. А. И. Тургенев и И. В. Киреевский познакомились позже, по возвращении из чужих краев, в августе 1831 г. [Канторович, 202].
[Закрыть], которого поэт просил «присоседить» Киреевского к себе и «быть ему руководителем на парижском паркете» [Киреевский, I, 20]. «Он будет тебе второй Жуковский» [Елагина, л. 3], – обещала А. П. Елагина в письме к сыну. Но в 1830 г. встреча с Тургеневым не состоялась. Киреевский задержался в Мюнхене до конца университетских лекций, представлялся Шеллингу. Тем временем в Париже началась революция, и въезд туда для русских подданных был запрещен.
Осенью газеты принесли в Германию новость о том, что в Москве холера. Это был жестокий удар для Киреевского. Все время в чужих краях он находился в состоянии какого-то лихорадочно-мнительного беспокойства о здоровье оставшихся в Москве родных. Любая задержка писем от них усиливала эти мучительные волнения многократно. Еще в Петербурге, узнав, что у младших Елагиных корь, Киреевский был готов бросить все и вернуться назад, если от них не будет известий. Деятельная берлинская жизнь настолько помогла ему взять себя в руки, что он стал подумывать, а не остаться ли в чужих краях еще на год, сверх оговоренного с маменькой срока. В Мюнхене общение с братом Петром и H. М. Рожалиным еще более успокоило его, но волнение за родных не исчезло – оно теплилось, как непотухший уголек, во глубине сердца, и нужен был только порыв ветра, чтобы этот уголек произвел пожар. Таким порывом стало известие о начавшейся в Москве эпидемии холеры.
Авдотья Петровна, предчувствуя, какое впечатление это известие произведет на ее сына, прислала в Мюнхен «докторское свидетельство, что де все здоровы и опасности никакой нет» [Соболевский, 495], но напрасно: Иван бросил все и поскакал в Россию «разделять опасность».
12 октября он выехал из Мюнхена и отправился в Вену, где тогда находились П. В. Киреевский и H. М. Рожалин, для того чтобы, простившись с ними, поспешить в Москву. Едва не разминувшись, Киреевский встретил Петра по дороге. Он скрыл от брата причину своей поездки, хотя и сообщил, что едет в Россию.
Тем не менее, Петр вскоре обо всем догадался. Хотя поступок Ивана он счел «вещью безумной» [Киреевский П. В. Письма, л. 15], однако и сам не смог усидеть в Германии и решил отправиться вслед за братом. 14 октября он пишет Ивану письмо, в котором умоляет его ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Москву и обязательно писать родным с пути.
Тут мы встречаемся с различными хитростями и маневрами, которые предпринимали братья, чтобы уберечь друг друга и родных от мучительных волнений беспокойства. Прежде всего они позаботились о том, чтобы подготовить к своему внезапному приезду маменьку.
18 октября П. В. Киреевский отправил в Москву из Мюнхена два письма – одно от себя, другое от брата[55]55
Письмо было написано И. В. Киреевским, уже шесть дней находившимся в дороге, заранее.
[Закрыть], в которых они делают вид, что, хотя и живут спокойно в Баварии, но уже подумывают, а не поехать ли им домой. «Скоро либо напишу вам еще, либо сам приеду» [Киреевский, I, 57], – невзначай замечает И. В. Киреевский в конце своего письма[56]56
Подобное же письмо он отправил в Москву и 12 октября, в тот самый день, в который выехал из Мюнхена. В этом письме он делал вид, что никуда не едет, хотя и «должен был испытать над собою все красноречие благоразумия, чтобы остаться в Мюнхене» [Киреевский 1907, 101].
[Закрыть]. Петр вторит ему:
Мы здесь, слава Богу, все как нельзя лучше здоровы, но разумеется не совершенно спокойно читаем в газетах поздние известия об этой ужасной болезни. Брату здесь не сидится, он говорит, что на это время поедет, может быть, к вам, и мы его не очень удерживаем. – Почему не сделать ему этого для своего спокойствия? [Киреевский П. В. Письма, л. 18 об.]
И. В. Киреевскому приходилось вести действия на два фронта: он хотел уберечь от беспокойства и опасностей не только оставшихся в России родственников, но и спешившего за ним вдогонку брата. Поэтому, несмотря на то, что Иван Васильевич собирался ехать прямо в охваченную холерой Москву, брату он сказал, что едет в Петербург, так как родные скорее всего там. С помощью этой хитрости Киреевский рассчитывал заманить брата в северную столицу, подальше от холеры.
11 ноября И. В. Киреевский был уже в Варшаве, откуда отправил три письма: одно – родным в Москву с сообщением, что едет на долгих и будет только через месяц (чтобы не беспокоились в случае промедления, на самом деле он приехал гораздо скорее); другое в Берлин – Юлию Петерсону, чтобы он задержал там возвращающегося в Россию брата «сколько возможно»; третье – Жуковскому, чтобы он адресовался к Густаву Петерсону и просил его сделать то же самое в Риге; когда же Петр прорвется сквозь этот двойной заслон и доберется до Петербурга, Жуковский должен был уговорить его остаться в северной столице и не предпринимать попыток проехать в первопрестольную [Киреевский – Жуковскому, л. 5 об.].
Это письмо Киреевского Жуковскому наполнено таким чувством, которое испытывает утопающий, хватаясь за руку спасателя. Спасателем, последней надеждой, опорой был в тот момент для Киреевского Жуковский.
Друг-отец! Позвольте мне так называть вас. Это имя идет так от полного сердца, что я уверен: вы примете его с такою же дружбою, с какою любовью я его даю вам. И в самом деле мое сердце не было никогда так полно, как в теперешнюю минуту. Но, по нещастию, его наполняет не одна любовь, а больше страх. <…> …через неделю надеюсь быть в Москве, где, может быть, уже найду ваше письмо. Не забудьте вложить в него ваше благословение; оно теперь нужнее мне, чем когда; не забудьте же: оно мне дорого, как отцовское [Киреевский – Жуковскому, л. 5, л. 6 об.].
В Москву Киреевский приехал 16 ноября и нашел всех здоровыми. Неделю спустя сюда же прибыл Петр. Жуковский прислал Ивану письмо, в котором называл его «милым Курцием»[57]57
Жуковский сравнивает И. В. Киреевского, ради любви к родным пожертвовавшего заграничным путешествием, с героем древнеримского предания Марком Курцием, пожертвовавшим собой ради любви к родному городу. Согласно легенде, в 362 г. до РХ посреди римского форума возникла пропасть. Прорицатели сказали, что она угрожает Риму многими бедствиями, но закроется лишь после того, как будет заполнена лучшим благом Рима. С криком «Нет в Риме большего блага, чем оружие и храбрость» Курций сел на коня и в полном вооружении бросился в пропасть. Она закрылась.
[Закрыть].
Холера заставила тебя сделать то, что ты всегда сделаешь, то есть забыть себя и все отдать за милых… Прости, мой милый Курций. Думая о том, каков ты и как совершенно во всем похож на свою мать, убеждаюсь, что ты создан более для внутренней, душевной жизни, нежели для практической на нашей сцене. Живи для пера и для нескольких сот крестьян, которых судьба от тебя зависит: довольно поживы для твоего сердца [Лясковский, 33].
Конец 1830 г. и лето 1831 г. Киреевский провел в литературных развлечениях, жалея о неудавшейся поездке[58]58
Подчас Киреевский был в состоянии, близком к унынию. «Душевные скорби ввергли его в бездействие, – сообщал тогда В. Ф. Одоевскому А. И. Кошелев, – он только и знает спать да есть, есть да спать» [Кошелев 1904, 205]. «Киреевского я не понимаю, – вторил ему М. П. Погодин в письме С. П. Шевыреву. – Лежит и спит; да неужели он ничего не надумывает. Невероятно».
[Закрыть] («а неудачна она была во всех отношениях, и не столько по короткости времени, сколько потому, что я ничего не видел кроме Германии, скучной, незначущей и глупой несмотря на всю свою ученость» [Киреевский, II, 223]) и «ругая немцев без памяти» [Баратынский 1998, 248]. Потом с энтузиазмом принялся за подготовку и издание «Европейца».
Глава 5. Издание журнала «Европеец»
История с «Европейцем» детально разобрана в работах Л. Г. Фризмана и М. И. Гиллельсона. По их мнению, «Европеец» возник как печатный орган литераторов пушкинского круга[59]59
И. В. Киреевский предлагал Пушкину страницы своего журнала для того, чтобы «высечь в нем Булгарина». Во 2 номере «Европейца» была опубликована сказка Жуковского «Война мышей и лягушек», которая легко читается как история «борьбы группы литераторов, близких к Пушкину, с Булгариным и его единомышленниками». По мнению Ц. С. Вольпе, в этой сказке кот Мурлыка – это Булгарин, крыса Онуфрий – Жуковский, Белая шубка – Киреевский, Бешенный хвост – А. С. Пушкин. А. П. Елагина идентифицировала себя с Прасковьей-Пискуньей [Фризман 1989, 500].
[Закрыть], призванный противостоять «торговому направлению» в русской словесности. Л. Г. Фризман, анализируя материалы, опубликованные в «Европейце», переписку вокруг него, приходит к выводу, что, вопреки прямым декларациям издателя, «Европеец» тяготел к тому, чтобы быть журналом политическим, и правительство парадоксальным образом оказалось право, утверждая, что программная статья журнала «есть не что иное, как рассуждение о высшей политике». «"Девятнадцатый век" – действительно статья политическая или, во всяком случае, затрагивающая ряд политических вопросов» [Фризман 1989, 447], – замечает исследователь.
Но нужно помнить, что издание журнала было частью большого просветительского проекта, уже давно завладевшего мыслями Киреевского, частью широкой программы «новиковствования»[60]60
Тот факт, что издание журнала было составной частью более обширной программы деятельности И. В. Киреевского, находится вне поля зрения Л. Г. Фризмана, который считает, что «первые дошедшие до нас сведения о намерениях Киреевского относятся к началу сентября 1831 г.». На самом деле их можно обнаружить в письмах Киреевского из чужих краев, с этими намерениями, вероятно, были связаны и мечты, которыми делится Киреевский с Кошелевым и А. А. Елагиным в письмах 1826 и 1827 гг. Подробнее о программе «новиковствования» см. ниже, с. 205–206.
[Закрыть]. Основана эта программа была не на политических, а на философских идеях. «Журнальная деятельность – необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностию» [Гиллельсон 1966, 132], – так Киреевский определял назначение журнала в 1855 г. Эта же идея определяла и замысел «Европейца». Под «образованностью» здесь следует понимать, конечно, не просто «грамотность», a «die Bildung», т. е. то, что мы обычно имеем в виду под словом «цивилизация». Журнал – это проводник основных «начал образованности» в широкие слои общества.
Из статей Киреевского конца 1820-первой половины 1830-х годов видно, что в это время он считал, что Россия должна «подхватить» эти начала, падающие из рук западных народов. Отсюда и необходимость журнала, имеющего целью «сблизить нашу литературу с заграничного». Вся эта концепция, конечно, тесно связана с философией истории немецкого идеализма, поэтому-то и в программной статье «Девятнадцатый век», в которой Киреевский декларирует направление «Европейца», по выражению Жуковского, «так много метафизического».
Журнал Киреевского был, по крайней мере по замыслу своему, не политическим, а просветительским, и долю политического в нем не следует преувеличивать [IV], однако несомненно, что сама идея журнала как транслятора начал европейской образованности в Россию ставила издателя перед необходимостью говорить и о политике. Да и помимо этого, программа Киреевского, хотевшего сделать «Европеец» «окном в Европу», была прямо противоположна охранительным тенденциям правительства, стремившегося все подобные окна закрыть. Поэтому «Европеец», по сути, был обречен с самого своего рождения [V].
Жуковский, благословивший при возникновении журнал «двумя руками», двумя же руками принялся работать для него. Каждый из трех вышедших номеров «Европейца» украшен его произведением. Для четвертого была готова «Сказка о царе Берендее». Своим деятельным участием Жуковский, по его собственному выражению, желал дать изданию ход.
Но именно это деятельное участие в журнале Жуковского и других литераторов первого ряда невольно привело к трагическим последствиям. Мгновенно превратившийся в лучшее русское периодическое издание, «Европеец» сделал Киреевского опасным конкурентом Ф. В. Булгарина, поставил под вопрос литературно-финансовую монополию последнего на политическую журналистику. Решив сокрушить соперника одним ударом, Булгарин написал донос в III отделение. В результате «Европеец» был закрыт.
Жуковский почувствовал в запрещении «Европейца» удар, направленный не только против Киреевского, но и против себя.
«…Запрещение журнала <…> падает некоторым образом и на меня, ибо я принял довольно живое участие в его издании» [Гиллельсон 1965, 120], – писал он императору Николаю, и был прав: в черновике доноса его имя стояло рядом с именем Киреевского (в беловом варианте оно было вычеркнуто Н. С. Мордвиновым, желавшем «локализовать донос на одном Киреевском» [Фризман 1967, 120]). Тем не менее поэт поспешил вступиться не только за свою репутацию, но и за издателя «Европейца».
Узнав о запрещении, Жуковский немедленно сообщил об этом Киреевскому письмом, рассказал о претензиях, которые ему предъявлены, и посоветовал оправдываться перед А. X. Бенкендорфом. Это письмо Жуковского не датировано[61]61
Публикатор письма В. Лазарев датирует его «после 22 февраля 1832 г.» [День поэзии, 69]. 22 февраля – день официального уведомления Киреевского о запрещении «Европейца». Но неофициально все было известно и определено по крайней мере еще за неделю до этого. Жуковскому незачем было писать такое письмо после 22 февраля. В то же время очевидно, что письмо Киреевского от 11 (или 14) февраля является ответом на это послание Жуковского [Фризман 1967, 121].
[Закрыть], но ответ Киреевского датируется по почтовому штемпелю 11 или 14 февраля. Следовательно, вполне возможно, что письмо Жуковского было для Киреевского первым определенным известием о постигшей его неприятности. Ответное письмо Киреевского, отправленное им по почте, поэт показывал шефу жандармов и одновременно прочитал ему свою обширную записку по поводу запрещения «Европейца». Еще одну записку поэт передал царю[62]62
Жуковский считал нужным действовать и через московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына. Для этого он послал Киреевскому рекомендательное письмо к князю.
[Закрыть]. В этих записках он безоговорочно защищал Киреевского и даже просил царя разрешить продолжение журнала. В то же время Жуковский излагал в них свое политическое кредо и мысли о положении литературы [Гиллельсон 1965].
Ходатайства поэта не увенчались успехом. Устное объяснение с государем закончилось бурно. В ответ на ручательство поэта за Киреевского император спросил его: «А за тебя кто поручится?» Жуковский «заявил, что коль скоро и ему не верят, то он должен удалиться; и на две недели приостановил он занятия с наследником престола» [Гиллельсон 1986, 128]. «Я уже писал Государю и о твоем журнале, и о тебе, – сообщал он Киреевскому. – Сказал мнение свое на это. Ответа не имею и, вероятно, не буду иметь. Но что надобно было сказать, то сказано» [Гиллельсон 1965, 70]. Характерно здесь это «надобно». Заступничество за Киреевского, несомненно, повредившее репутации Жуковского при дворе, было для него христианским нравственным долгом – не только как педагога и поэта, но и как верноподданного. Оно было реализацией на практике того «фундаментального правила поступков», которое Жуковский сформулировал в своем дневнике 1828 г.: «какой бы случай ни представился действовать, действуй – как скоро в действии есть справедливость, воздерживайся от действия – как скоро справедливость в недействии» [ПССиП, XIII, 301].
Киреевский был глубоко тронут самоотверженной заботой Жуковского. «Если бы дело касалось до одного меня, то я бы назвал его счастливым, столько прекрасных минут оно мне доставило, из которых лучшим я обязан Ж<уковскому> и Вам» [Гиллельсон 1986, 123], – писал он П. А. Вяземскому (Вяземский тоже обращался к Бенкендорфу с обширной запиской в защиту «Европейца»). По этому и по другим письмам, написанным вскоре после запрещения журнала, видно, что Киреевский крепился, старался не падать духом и даже намеревался не оставлять журналистской деятельности. «Если бы Сомов задумал издавать журнал по форме, я бы обязался доставлять ему каждые две недели печатный лист…» [Гиллельсон 1986, 125], – предлагал он. И все же за общим, весьма сдержанным («застенчивость чувства») тоном писем Киреевского этого времени скрывается боль. Киреевский переживал не только из-за запрещения своего журнала, но и из-за его последствий – ужесточения цензуры, серьезной болезни матери. К тому же это было третье подряд несчастие, постигшее его. Первым было неудачное сватовство к Н. П. Арбеневой. Тогда, чтобы спастись от меланхолии, ему пришлось отправиться в заграничное путешествие и задавить себя работой. Вторым была сама эта, неудавшаяся, как считал Киреевский, поездка в чужие края. История с «Европейцем» стала для него третьим ударом. Как и два первых, сначала она привела его в уныние. Однако Киреевскому удалось в конечном итоге справиться с ним.
В апреле 1832 г. А. П. Елагина писала Жуковскому: «Иван все еще не умеет опомниться и с собой сладить. Собирается в деревню зарыться в хозяйство»[63]63
Но и в деревне Киреевскому не жилось спокойно. Елагина сообщает Жуковскому о неприятностях от калужских властей по Долбину и просила защитить.
[Закрыть] [УС, 56]. Жуковский старался подбодрить его. В одном из писем к Авдотье Петровне он спрашивает:
Что делает Иван? Боюсь, что он ничего не делает, а это никуда не годится. Его неудача журнальная не может служить ему оправданием, она может быть только разве придиркой для его лени. Петр когда-то говорил мне о намерении переводить Шекспира: вот дело на целую жизнь, и какая была бы услуга для русского языка. Для чего бы и Ивану не выдумать себе подобной работы? Да и не все же работать для печати. Работай для того, чтобы душа созревала и не мелела [УС, 55].
То же советовал Киреевскому и Е. А. Баратынский:
Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным [Баратынский, 238].
Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления [Баратынский, 244–245].
Киреевский постарался, по возможности, следовать этим советам. В хозяйство он не зарылся и даже не поехал с родными на лето на дачу в Ильинское. Заменой журнальной деятельности становится для него интенсивная переписка с Баратынским. Здесь он развивает темы, при более благоприятных обстоятельствах, несомненно, ставшие бы предметом литературно-критических статей в «Европейце»: о «новой басне», о поэзии Гюго и Барбье (см. [Баратынский]).
Летом 1832 г. из заграничного путешествия возвращается А. И. Кошелев, и Киреевский вместе с В. Ф. Одоевским в сентябре гостит у него на даче. Общение со старыми друзьями еще более ободряет и утешает его. В письме от 17 сентября 1832 г., посланном Киреевским Кошелеву из Москвы, нет уже и следов уныния. Три друга, собравшиеся вместе за столом – счастливое предзнаменование, пишет Киреевский. Он с увлечением собирает материал для начатой Кошелевым работы по философии (наброски, очевидно, этого труда имеются среди писем Кошелева Киреевскому, хранящихся в РГАЛИ) и сам собирается приняться за труды. «Потому пиши, я буду делать то же, и потом посмотрим», – призывает он Кошелева. Это письмо проникнуто такой же ясной надеждой на будущее, как и письма Киреевского 1820-х годов. «17 сентября, день Веры, Надежды, Любви и Софии» – заключительная его строка звучит как программа действий и указание образа предлежащего пути [Киреевский, II, 226].
В октябре 1832 г. в Москву приехал Н. В. Гоголь. Он тоже не заметил в Киреевском следов уныния, напротив, жаловался П. А. Плетневу, «что Киреевский при его прекрасном уме слишком рассеянно, слишком светски проводит время». Очевидно, это была их первая встреча. В целом, Киреевский произвел на Гоголя выгодное впечатление. Гоголь, по выражению П. А. Плетнева, не мог им нахвалиться, а 28 сентября 1833 г. писал М. П. Погодину: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем думаю, и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине» [Гоголь 1988,1, 348].
В феврале 1833 г. в Москве по инициативе Н. А. Мельгунова стал «затеваться» альманах «Шахерезада». Среди других писателей пушкинского круга участвовать в нем собирался и Киреевский. Это издание осталось неосуществленным, зато летом 1833 г. Киреевский принялся за статью о воспитании женщин, которую намеревался окончить к октябрю и опубликовать под своим именем (очевидно, в альманахе А. П. Зонтаг – в нем в конечном итоге и появилось письмо Киреевского «О русских писательницах», помеченное 10 декабря 1833 г., правда, без подписи автора), и сообщил Баратынскому, что он «хочет усердно работать пером» [Баратынский, 248]. В 3 и 4 номерах «Телескопа» за 1834 г. появились две заметки Киреевского «О стихотворениях г. Языкова«. Как видим, можно согласиться с В. А. Котельниковым, что «катастрофа с журналом <…> не привела Киреевского к духовной замкнутости (которую предрекал Жуковский[64]64
Имеется в виду письмо Жуковского императору Николаю [Гиллельсон, 120–122].
[Закрыть]), к свертыванию литературно– философских замыслов, к угасанию публицистической активности» [Киреевский 1984, 23].









































