Текст книги "Здесь, под небом чужим"
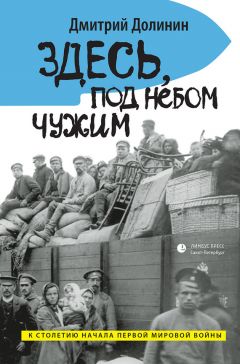
Автор книги: Дмитрий Долинин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Начинать полагается сначала. А то именно, когда что полагается, то есть кем-то предписано или общепринято, я всенепременнейше ненавижу. По этому совсем коротко: родился в северных лесах, в маленькой деревне. Было у меня еще три брата, а папаша мой пил горькую, выпивши колотил меня и братьев, и резал деревянные игрушки, выучил меня, и я тоже резал. Матушка моя совершеннейшая растяпа, отец и ее то и дело бил, а она молчала, не спорила с ним. Еще папаша, когда изредка протрезв лялся, ходил в лес охотиться, меня же брал с собой. С семи лет на учился я из ружья стрелять, довольно метко стрелял, и иногда, когда папаша доверял мне свое оружие, а сам был рядом, заводилась в голове моей мыслишка: не пальнуть ли ему в спину или злобную харю. С игрушек и охоты мы и жили. Да-с.
Наверное, не интересно это никому. Обыкновенно, как у миллионов. Поэтому сразу бегу вперед. Отдали меня в ученье в нашем уездном городке в ремесленную школу, учили там игрушки резать и мебель комстролить. От игрушек я отказался, потому что давно все по этой части освоил. Стал учиться по мебельной. Пошли успехи. Иногда работали мы на заказ, и построил я комод для городского головы. Надо сказать, что все там, на этом комоде, сделал я своими руками, вплоть до маленьких ручек на дверцах. И замочки с ключиками сам врезал. Тут мое игрушечное мелкое ремесло пригодилось.
Собрал комод, учителя сошлись, хвалили, а потом снова я его разобрал, чтобы везти заказчику, а там уж склеивать. Отвез. И первый раз оказался в богатом доме. Прежде я такого не видывал. Это потом, когда я много чего навидался, понял, что дом этого головы ничтожного городишки был так себе, средненький. А тогда взыграло ретивое, стал думать, почему это у одних так роскошно, и барышни чистенькие, беленькие порхают, носики морщат от амбре столярного клея, а у меня – пьяный папаша, немытые братишки, да мамаша – клуша… Вот… Да еще сам этот голова меня обидел. Комод я собрал, склеил, все им стали любоваться, барышни восхищаются, мне спасибо говорят, а одна, самая красивая, Александра, даже руку мне пожала. Но платить заказчик вроде бы не собирается. А я знал, что за комод этот можно рублей пятьдесят выручить. Я ему: извольте, ваша милость, расплатиться. А он в ответ: я, говорит, со школой договаривался, школе уже вперед сполна и даже больше договора уплачено, а тебе, любезный, за труды вот. И три рубля мне дает. Тут я как разъярился и возопил, кричать стал про то, что сам все строил, а при чем тут школа! Не по правде это! Сунули мне в карман трешку, и мужик здоровый, лакей там какой-то, меня взашей вытолкал. Выходит, что еще в отрочестве столкнулся я с несправедливостью и классовым неравенством. Потом я все ходил возле дома этого начальника и думу лелеял, как бы его спалить. Или еще раскидывал, школу поджечь, если начальник не врет, и вправду, школа деньги мои отняла. Да как убедиться-то? Снова стал у дома головы бродить. Как-то раз из ворот выехала верхом на коне барышня, та самая Александра, волосы русые, шляпка набекрень, личико румяное, сама в чем-то белом и штанах мужицких. Поводья натянула и мне: здравствуйте, как поживаете, вашим произведением все не налюбуются, даже губернатор заезжал, все вокруг него ходил да похваливал, а вы сами приходите в гости, будем шарады решать. Приходите в воскресенье, после обеда.
Она на коне, красавица, а я внизу, маленький такой. И заело вдруг меня, что она, чистюля этакая, из седла мне, смерду, свысока милость оказывает. Шарады? Что за шарады такие? Всё у меня внутри закипело, хотел выругать ее непристойно, да сдержался, все же очень нежная барышня. Только плюнул коню под ноги, повернулся, да прочь пошел. А думал все про то, как она сидит в седле, ноги раскинув, и как то, что у нее промеж этих самых ног, о седло трется. Вот бы штаны с нее стащить, да поглядеть, что там находится. Так ли устроено, как у простых баб, коих я в свои четырнадцать успел уже освидетельствовать.
В гости я к Александре, конечно, не ходил, ясное дело, куда там с моим посконным рылом в калачный ряд соваться. А перед домом тем мелькать перестал, потому как вдруг понял, что ежели дом поджечь, то мой комод ведь вместе с домом тоже сгорит! До слез жаль мне комода стало. Да и сам дом-то каменный, огонь ни к чему там не прицепить. А вот если с задов зайти, где овраг и лопухи, так там глухая стена сарая бревенчатого, в нем лошади. Вот его-то я раз ночью и подпалил. Заполыхал он за милую душу, а я бегом домой в школьный дортуар и лег, будто спал. На другой день весь городишко пропах кониной паленой, а народ только об том и говорил, что мол, три лошади там стояли, две вырвались, а одна сгорела. Я все это слушал, ахал, а внутри себя сильно гордился: это я сделал, я, значит, могу на своем поставить! Было мне тогда всего-то около четырнадцати с половиной годков.
А потом сманил меня один парень заезжий, бросил я эту мебельную канитель, да уехал с ним в П., поступил на завод. И вместо древесного дела стал учиться железному, слесарному. Железо мне показалось куда как интереснее деревяшек. Оно крепкое, твердое, им что угодно проломишь! А прежде можно его, как тебе нужно, сформовать, отковать, выточить, подрезать, заточить, и оно все равно таким же твердым и пробойным останется.
С тех самых пор, как покинул я свой глухой уезд, ни разу не видел я ни отца, ни мать, ни братьев. И не желаю. Только вот не знаю, хорошо сие или плохо. Другие-то нянчатся. Наверное, правильно, хорошо. Потому что, как написано, у революционера нет ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени, а все в нем поглощено одним интересом, одною страстью – революцией. Когда я в первый раз подъезжал к П. на пароходе, сразу увидал выше города по реке частокол заводских труб, а над ним нависло черное облако. Все небо ясно, а там трубы и шапка черного дыма. Позже узнал я, что эта шапка – шапка великана, одной большой общей пролетарской головы. А в голове этой всегда мысли дерзкие, непокорные, это знают все. Знает и начальство, потому-то тревожится и хочет проведать все, что эта голова задумала сделать. Буйных мыслей уже скопилось много, ведь шел девятьсот пятый год. Слухи, газеты: там забастовка, там баррикады, бои, там кого-то из царских сатрапов укокошили. И собрали мы рабочую сходку на Выхе. Выха – гора, довольно высокая, торчит над самым центром города, а на ней стоит захудалая пожарная каланча и часовня. Стали разные требования обсуждать, вроде восьмичасового рабочего дня, вежливого обращения, ну и, конечно, жалованья. Верили, что за правду-матку, которую говорили, правительство бить не будет. И когда под Выхой показались сотни две казаков, объезжающих гору, чтобы забраться наверх, то никто не забеспокоился. И кровь пролилась. Если 9 января 1905 года гулким эхом прокатилось по рабоче-крестьянской России и заставило умы и сердца тревожно работать, усваивая политические уроки, то 10 июня 1905 года – это был местный комментарий, нам разъяснение, толковое и вразумительное повторение урока. И мы его усвоили. И хорошо усвоили.
Я, конечно, по молодости молчал, слушал ораторов, а когда пьяные казаки стали всех лупить нагайками и саблями играть, народ побежал, и я побежал. Рядом со мной бежал бородач, один из тех, кто со ступенек часовни призывал прогнать царя, мне незнакомый, наверное, приезжий. Мы влетели в пустой переулок и остались вдвоем, но за нами скакал, размахивая шашкой, казак и уже догонял. Тут мой компаньон втолкнул меня в какой-то узкий коридор между двумя высокими заборами. Казак пролетел мимо, а потом развернул коня, втиснулся в коридор, стал наступать на нас, загораживал конским телом всю ширину прохода. Деваться нам было некуда, позади тупик, чьи-то запертые ворота. А приезжий вдруг как выхватит револьвер: убью! Да и пальнул вверх над головой казака. Лошадь взметнулась на дыбы, а потом стала пятиться. Ускакал казак, оставил нас в покое, жить ему хотелось, сукину сыну.
Незнакомец выглянул в переулок: пусто. И вдруг содрал с себя бороду, усы, закинул мой картуз за забор, напялил на мою голову свой, а сам вытащил из кармана какую-то круглую азиатскую шапку и надел. И то – волосы и глаза у него темные, за азиата или татарина сойдет, а шинелька на нем самая трепаная. Был он меня постарше годков на десять.
Смеркалось, мы шли вдвоем.
– Зачем вы стреляли в небо? – спросил я.
– А ты думаешь, нужно было убить?
– Непременно убить!
– Он просто темный обманутый парень. Таких убивать – грех.
– А кого не грех? – спросил я, предчувствуя ответ.
– Начальство.
– Как этого, министра Плюве?
– Плеве, – поправил он. – Именно. Из-за них все беды. И с японцем война. Тебя как звать?
Я назвался, он тоже. Оказалось, что он учитель в нашей вечерней школе для рабочих. Стал я ходить в эту его школу, стал книжки читать. Сперва полюбился мне Тургенев. Базаров очень понравился. «Капитанская дочка» пушкинская, Пугачев. Некрасова стихи. Учитель рассказывал нам про разные книжки, про писателей, а также про историю. К примеру, о французской революции много говорил, завлекательно говорил. И много чего еще о заграничной жизни, которая, как он рассказывал, не в пример нашей, вольготнее, чище и благообразней.
Через полгода некоторые его ученики, рабочие, и я в том числе, стали приходить к нему по воскресеньям на квартиру. Собирался там, кроме нас, прежний еще кружок разных людей: гимназист, конторщик с завода, токарь, литейщик и телеграфист с железной дороги. Обсуждали мы там политику, говорили о грядущей неизбежно революции и как сделать так, чтобы она быстрее наступила. Читали запрещенные книжки. Была замечательная короткая брошюрка «Катехизис революционера». Не все я там сразу понял, спрашивал Учителя, он мне разъяснял. В самое сердце поразила меня вот такая фраза из брошюры: «У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда». Но вот дальше: «Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию». Тут я озадачился, выходит, чем хуже, тем лучше? Наши хозяева недавно построили хорошее общежитие для рабочих, открыли приличную столовую. Взорвать? Спалить? Мне тогда казалось это неправильным. Всё же когда еще эта революция настанет, а пока ведь жить-то надо. В политике тогда не разбирался. Но тут пришла весть об убийстве московского генерал-губернатора Дубасова, и нам стало завидно: вот люди дело делают, а мы только разговоры разговариваем. Нет, здесь, у себя, и нам должно свершить нечто подобное, чтобы рабочий люд понимал про разлив революции по всей России.
Где выход из ада теперешней жизни, вопрошал наш Учитель, жизни, в которой царствует волчий закон эксплуатации, гнета, насилия? Выход, говорил он, – в идее жизни, стоящей на гармонии, жизни полной, охватывающей все человечество; выход – в идее социализма. Она уже близка к осуществлению, народ с открытым сердцем готов ее принять. Время настало, говорил Учитель. Нужно объединить ряды проповедников этой идеи и высоко нести знамя, чтобы народ его увидел и пошел за ним. И это первейшая задача революционеров. Социализм не должен быть только наукой, а еще и факелом, зажигающим в сердцах людей могучую веру и силу. Народ должен увидеть, что мы могучи, говорил он, а для того нужны наши смелые поступки…
Ссорятся
Пребывая взаперти, Петр Петрович отращивал бороду и усы, чтобы в будущей вольной бодрой жизни опять стать иным, неузнаваемым, ведь жандармы знавали его бритым. Старался набраться сил, но не очень-то удавалось, мучили ночные кошмары и бессонница, засыпал он только под утро, спал допоздна. Поднимался в полдень, суровая Алевтина молча накрывала ему в столовой завтрак, ел он сперва с жадностью, а через пару недель, насидевшись в комнатной неволе, – с некоторым даже отвращением. Выпивал непременно две чашки кофе и направлялся с разрешения Ивана Егоровича, пока тот был на службе, в его кабинет. Читал. Книг самого разного свойства тут накопилось множество: философия, исторические сочинения, кое-что из естественных наук, беллетристика, журналы. Иногда Петр Петрович делал выписки или записывал свои мнения о чем-либо, сильно его заинтересовавшем. К примеру, попалась ему книжка статей германского музыканта Рихарда Вагнера, и он списал оттуда вот такой текст: «Всё, что существует, должно погибнуть, это вечный закон природы, это необходимая основа бытия. Революции лишь выполняют этот закон. Они вечно разрушают, но они и вечно созидают новую жизнь. Старый порядок построен на грехе, и потому мир, в котором мы живем, должен быть потрясен до основания». Процитировав в своей тетрадке Вагнера, Петр Петрович приписал: вот ведь, немчура, музыкант, а как верно все раскинул!
Из Фридриха Ницше, германского, опять же, философа: «Угрызения совести – такая же глупость, как попытка собаки разгрызть камень». Оригинально, может быть, истинно, – заметил Петр Петрович. Снова Ницше: «В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою». Петр Петрович: это очень серьезно, нужно обдумать, хоть и воняет барством, но, похоже, что так оно и есть. Как последняя запись соотносилась с тем, что сам он всегда молился страдающему народу, который заменил ему Господа Бога, как вязалась она с заботами о будущем народном счастье, то есть о довольстве стада, – неведомо. Впрочем, полагать Петра Петровича, как и всякого деятеля, цельным изваянием – грех упрощения. Конечно, в душе у каждого гнездятся самые разные, иногда противоречащие друг другу чувства и стремления, но вот вопрос – какое из них, в конце концов, побеждает, вырывается на поверхность, обернувшись поступком, действием, вмешивается в будничную постороннюю жизнь, оставляя свою борозду на зацветшей поверхности ее болота?
Но не только философы интересовали Петра Петровича. Так, скопировал он в свою тетрадку и рекламное объявление из «Нивы»: «НЕВРАСТЕНИЯ и нервные заболевания, половое бессилие, спинная сухотка, параличи, сердечные заболевания, истощение и худосочие с успехом лечатся СПЕРМИНОМ ПЕЛЯ. СПЕРМИН ПЕЛЯ – единственный настоящий спермин, прошедший всесторонние испытания». Фразу о том, что профессор Пель – поставщик Двора его Императорского Величества, Петр Петрович копировать не стал.
Как-то раз, зайдя в кабинет Ивана Егоровича в свое привычное уже время, Петр Петрович неожиданно застал там хозяина. В этот день занятия в Институте пришлось отменить, вовремя не привезли дров, стало слишком холодно. Иван Егорович с удовольствием вернулся домой и принялся править, отделывать недавно законченную статью о некоем Печерине, русском дворянине, ставшем католическим монахом и священником в Ирландии. «Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта – вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала. Тоска по загранице охватила мою душу с самого детства», – писал Печерин. Иван Егорович понимал, что цитировать Печерина, касаться темы католичества и его отношений с православием следовало осторожно, выбирая точные слова, пользуясь округ лыми фразами: цензура хоть и стала либеральнее, но в вопросах религии оставалась суровой и придирчивой…
Застав в неурочное время в кабинете Ивана Егоровича, Петр Петрович хотел было ретироваться, но Иван Егорович радостно оторвался от очередного своего ясного абзаца, который надлежало сделать мутным, и поднялся навстречу гостю.
– Рад вас видеть, присаживайтесь, прошу вас, – и указал Петру Петровичу кресло. – Я вижу, вы тут многое успели. Чем увлекаетесь?
Книжки, которые Петр Петрович прочел или приготовил к чтению, были сложены аккуратной стопкой на табурете.
– Читаю разное, кое-что занимательно, увлекаться же особенно нечем.
– А Достоевский? «Преступление и наказание»? Вижу, вижу, вы читали.
– Перелистывал. Прежде читал, а сейчас решил еще раз… убедиться.
– И что?
– Да ничто… Пустяк… Зачем сперва целую философию заворачивать, а потом какую-то старуху убивать? Старуха ведь совершенно не Наполеон. Даже не губернатор. Этот Раскольников – обычный разбойник. Тоже ведь не Наполеон. Я таких навидался. Поклоны справно бьют, да лоб крестят, каются, грехи свои ничтожные замаливают.
– То есть, вы полагаете, что если Наполеон, так рубить его топором разрешено? Грешить с великой целью можно? А так, по мелочи, не стоит?
– Наполеон тут просто к примеру. Ежели этот Наполеон народ угнетает и мучит, так чего же с ним миндальничать?
– Ну, если Достоевский вам не по вкусу, Чехова почитайте.
– Кое-что прочел. Тоскливо. Да еще и врет ваш Чехов. Вот про революционера написал. А революционер там какой-то квелый, таких не бывает.
– Так уж и не бывает?
– Ну, случаются, так они и не задерживаются. Зачем про такого писать? Это вроде поклепа получается. А вам нравится этот Чехова рассказ?
Тут Петр Петрович вынул портсигар и собрался закурить.
– Ох, простите, – сказал Иван Егорович. – Прошу вас, не курите здесь, пожалуйста. Запах, знаете ли. Давно хотел вас попросить, да как-то не довелось. Мы так редко и коротко с вами видимся.
– Об уюте заботитесь, – холодно сказал Петр Петрович и, пряча портсигар в карман, откинул голову на спинку кресла.
Ивану Егоровичу показалось, как прежде Наде, что теперь круглые темные глаза Петра Петровича глядят на него сверху вниз, хотя сидел тот в кресле чуть ниже, чем Иван Егорович у себя за столом.
– Не вижу ничего дурного в уюте, – возразил Иван Егорович.
– Кроме того только, что девять десятых народа русского его лишены.
– Это не делает мой уют порочным. Если я заслужил этот уют, так почему же мне им не пользоваться?
– А вы уверены, что заслужили? – наседал Петр Петрович.
Иван Егорович подумал, усмехнулся.
– Нет, я не совсем уверен. Тут отца моего главные заслуги, царствие ему небесное. Он был водопроводных дел мастер. Приехал в Петербург из Швеции, основал свое дело, работал, всем был нужен, хорошо зарабатывал, родил десятерых детей, всех обеспечил, выучил. Все они, как вы изволите выражаться, живут в уюте. Трое – доктора, двое – военные, сестры замужем тоже за приличными людьми…
– Счастье эксплуататоров, – сказал Петр Петрович. – Уют угнетателей.
– Помилуйте! Отец мой добился всего своим трудом. Братья мои также живут своим трудом, да и я тоже никого не эксплуатирую!
– Неправда. В общем раскладе, на круг – многих, про кого вы вообще ничего не знаете. Через деньги. А поближе гляньте-ка. Ваша Алевтина, ваш Макар. Кто они, как не ваши рабы?
– Я их нанял, я им плачу. Они служат, понимаете! А меня нанял институт, он мне платит жалованье…
– Ваше жалованье раз в сто больше, чем у рабочего.
– Но я получил образование и знаю раз в сто больше, чем ваш рабочий! Мне платят за знания. Я учу студентов, они станут образованными людьми, России будет польза… И вот что я вам скажу, уж простите, но пока ведь и вы пользуетесь моим уютом! Уют – приют.
– Это верно. Только получилось это потому, что деваться-то вам от меня некуда.
Иван Егорович удивленно воззрился на Петра Петровича.
– Кажется, не мне, а именно вам деваться некуда, – произнес он с усмешкой. – Куда вы пойдете, если я откажу вам от дома?
– А выгнать-то вы меня не можете, – поддразнил его Петр Петрович, – потому не можете…
– Могу! – перебил его Иван Егорович. – Но не собираюсь, успокойтесь. За вас просили! Просили люди, которых я знаю давно. И уважаю.
– А вот их-то вы и боитесь, – подхватил Петр Петрович. – Не посмеете им отказать.
Иван Егорович оторопел и долго смотрел на Петра Петровича.
– С чего вы взяли, – наконец сказал он.
– Да уж знаю, знаю. Слыхал-с. Ваши неблаговидные прошлые поступки могут, скажем так, оказаться распубликованными.
– Не было таких поступков. Это сплетни.
– Вы же пребывали в нашей партии. А теперь вы где? Вы – отступник, предатель. Кто вас уговорил? Кому выгодно, чтобы вы, человек известный, отреклись от идеалов?
– Да, я не хочу убийств! Но цели партии я разделяю! Пишу для партии. Публично не отрекался. И никого не предавал!
– Никого лично, возможно. Вы предали дело.
– Вы наглец! Если бы предал, так вас здесь и близко не было бы!
– Это вы грехи замаливаете, откупаетесь. Пока придется вам потерпеть. Хоть вы меня не любите.
Петр Петрович встал и направился к выходу.
– Вам еще и любовь подавай! – выкрикнул Иван Егорович ему в спину.
Петр Петрович приостановился.
– Христос учил всех любить друг друга. Даже врагов, – сказал он, усмехнувшись, и шагнул к двери.
– Погодите! – приказал Иван Егорович. – Вот что. Не смейте строить куры моей Наде! Я видел, как вы на нее поглядываете. Не сметь!
Петр Петрович пожал плечами и вышел вон.
Через несколько дней он встал необычно рано, за окнами еще было темно и синё, осенние утренние сумерки только начинали светлеть. Домашние собирались по делам. Иван Егорович уже сидел в пролетке, ожидая Надю. Каждый день он завозил ее в гимназию, а сам направлялся в свой Институт. Надя торопливо выскочила из своей комнаты в полутемный коридор, тусклый дальний свет сочился из распахнутой двери гостиной. Вдруг – голос за спиной.
– Надежда Ивановна, не откажите в любезности.
Надя вздрогнула, обернулась. Не сразу в полутьме разглядела. Перед ней, словно сгустившись из темного воздуха, оказался вдруг Петр Петрович. Закрывая за собой дверь, она его не заметила, не видела, не было его, и все тут. Он возник. Впрочем, было, как сказано, темновато.
– Вот вам записка, нужно мне купить некие вещи. Лекарства и кое-что из туалета. Вас не затруднит?
– Но я в гимназию, – растерянно пробормотала Надя.
– После гимназии.
Со двора долетел отцовский зов, пора было ехать.
– Давайте. – Надя схватила записку, кинулась к лестнице, приостановилась на верхней ступеньке, обернулась, словно хотела что-то спросить у Петра Петровича, взмахнула рукой и побежала вниз, вспоминая на бегу, что денег у нее нет. Придется рассказать о просьбе Петра Петровича отцу, хоть и не хотелось.
Пролетка нещадно прыгала и тряслась на ледяных буграх. Иван Егорович ткнул Макара в спину.
– Пора в сани пересаживаться.
– Так что сани, – возразил тот. – Тут то лед, то камни голые. Какие уж тут сани.
Начинался декабрь.
– Папа, – нерешительно сказала Надя, – мне тут Петр Петрович дал поручение.
– Что это он вздумал! Какое поручение?
– Вот, записка. Ему какие-то лекарства нужны. А у меня нет денег.
Иван Егорович схватил записку и прочитал, дождавшись очередного редкого фонаря: спермин Пеля, фиксатуар.
– Когда он дал эту записку? – спросил он беспокойно.
– Только что.
– Оставь мне, я сам куплю. Однако, какой наглец! Фиксатуар ему подавай. Да еще чтоб юная девушка… непристойно…
– Ты, папа, сердишься на него? За что?
– Не твое дело. Куплю я ему, что нужно… А впрочем, сегодня я допоздна, купи-ка лучше ты. Не хочу его видеть. Вот деньги… Нет, тебе тоже лучше с ним поменьше бывать… Купишь, передай мне, я отдам, черт с ним…
– Что случилось, папа?
– Ничего. Делай, как я сказал. И не смей ему глазки строить!
– Вы, папа, все время что-то придумываете.
Петр Петрович
Учитель объяснял про террор: для меня вся революция в терроре, говорил он, теперь нас еще мало, но будет много. Здесь пока тихо, бьют только нас, вот мы и должны начать бить их, дабы прогреметь на всю Россию. Каждый правящий негодяй должен знать, что он по краю ходит, пусть остережется злодействовать.
Стали выбирать, кого всенепременно нужно убить, и сошлись на К., здешнем приставе. Этот К. славился тем, что собственноручно мучил арестантов. Воров не трогал, а с политическими разбирался сам. Заковывал в кандалы, хоть никакого права на это не имел. Закованных избивал руками и ногами, а однажды одного парня велел высечь. Разложили его надзиратели на лавке и давай лупцевать ремнями с пряжками. Тот потом помер, кровь у него замутилась. Я этого пристава К. видал, был он мне гадок, я всех полицейских, бар и буржуев совершенно не обожал, но в юности к круглолицым и полным относился как-то спокойнее. Они люди солидные, таким власть, казалось мне, вроде бы к лицу. А вот такие, как этот К., стройные, худые, ехидны белокожие, потом узнал слово – аристократичные, мне тогда казались главными врагами.
В зеркало я в молодости гляделся крайне редко, не было его под рукой почти никогда, а то бы сообразил, что и сам я лицом как бы слегка аристократичен, высоколоб и даже ехиден, на папашу не смахиваю, видно, согрешила мамаша моя с кем-то из высшего сословия, а глаз у меня темный и очень убедительный.
Начали мы думать, как пристава станем наказывать. Один там был у нас яростный гимназист, так он предложил: вы, говорит, меня динамитом обмотайте, я к нему подойду в театре, вроде бы что-то спросить, да и взорвусь. Почитаю, мол, что если кого убиваю, так и сам должен быть готов погибнуть. Рано вам погибать, сказал Учитель, ибо пока мало нас, каждый светлый человек на счету. Всех отправил по домам, а меня оставил.
– Ты ведь охотник, – говорит.
– Ну.
Лезет он под матрас, достает ружье и мне протягивает.
– Знаком?
– Непременно. У моего папаши такое же. Четыре рубля за него папаша отдал.
– Это не такое. Четыре рубля – охотничье, переделанное, гладкоствольное. А ты сунь-ка палец в ствол.
В стволе нащупываю нарезку.
– Это солдатская берданка. Сможешь в пристава попасть?
Тут меня как будто что-то по голове ударило, слова вымолвить не могу, выходит, мне выпадает святым убивцем сделаться и свою головушку в петлю сунуть. Приговорил меня Учитель. Ну что ж, деваться некуда, отказаться – труса сыграть.
– Смотря откуда палить, – говорю.
Он опять лезет под матрас и вытаскивает какую-то трубу.
– Знаешь, что такое? Это телескоп германский, чтоб прицелиться. Чтоб стрелять издали. Только он от другого ружья, а мы с тобой должны его приспособить к этому, – учитель стал быстро расхаживать по комнате, разрубая рукой воздух, глаза его загорелись. – Дело делаем так. Этот пристав ходит в театр. По воскресеньям. Спектакль начинается в семь. Летом светло. Приезжает заранее, гуляет возле театра, трубку курит. С другими барами и барынями любезничает. А ты представь: вот он гуляет, болтает свою чепуху… И вдруг бац! Падает! Все в панике, никто ничего не понимает… Доктора, кричат, доктора! Смотрят, дырка в голове, крови немного, а выстрела никто не слыхал, стрелка не видал! Кто стрелял?! Мистический ужас, Божья кара! Не иначе сам Господь Бог распорядился! А? Как тебе?
Помню, я долго тогда молчал, не знал, что ответить. Одно дело, конечно, рассуждать про пользу террора, а другое – вот он, террор, делай его сам и подставляй себя самого под петлю или пулю.
– А как же это получится, чтоб выстрела не услыхали? – спросил я.
– Стрелять из пожарной каланчи, что на Выхе, изнутри, в окно не высовываться.
– Так далеко же, не попасть! От каланчи до театра тысячи полторы шагов будет.
– А телескоп на что!
– А сторож на каланче?
– Не твоя забота.
– Что, его убьют? – испугался я. – Да нет, пьяным спать будет. О нем позаботятся. – А как ружье нести, чтоб никто не увидел? – А это тоже не твоя забота. Ты только стреляешь, а принесут и унесут без тебя.
Сделал я в заводе обхваты для телескопа в виде двух колечек с винтовыми зажимами, один обхват спереди ствола, второй – назади. Снизу у этих обхватов – струбцины, тоже на винту, чтоб к стволу ружейному крепить. Пошли мы с Учителем далеко в лес, выбрали голую опушку, свободную шагов на тысячу, привесили к дереву лист бумаги и давай издали стрелять. Нужно было так выставить телескоп, чтоб его взгляд точно совпадал бы с настоящей точкой, куда пуля угодит. Полдня провозились и выставили.
Настал тот самый день. Пробрался я на каланчу. Никого не встретил ни внизу, ни наверху, а ружье с телескопом уже лежит в условленном месте, меня дожидается. Зарядил. Вскинул, приложился и стал смотреть в телескоп. Возле театра люди ходят, экипажи подъезжают, а мне кажется, будто все это рядом. Афишу читаю: Виктор Дьяченко, «Гувернер». Стал разглядывать одного человечка, другого. Помню, видел, как мундирный гимназический инспектор поймал парочку гимназистов и что-то им толковал и пальцем грозил. Нельзя, мол, гимназёрам без взрослых по театрам шляться. Пошли они понуро прочь. Тут еще один экипаж подкатил, верх его поднят, кто внутри – пока не видно. Вдруг выходит этот самый пристав, сердце мое заколотилось, он протягивает руку кому-то, кто еще в пролетке, и из нее выпрыгивает барышня в белом, волосы светлые, вроде той Александры, что меня шарады решать звала. Пристава дочка, наверное. У них у всех такие дочки – чистенькие барышни в белых платьишках. Навел я на нее телескоп, и мысль меня посетила, что вот сей момент могу я выступить как Господь, нажму на спуск, и всё, нет барышни! Моя власть! А она ничего не знает и даже не узнает, а просто прекратится. И белое платьишко будет все в крови! Рука аж затряслась на спусковом крючке. Но остановил я себя, моя дичь – пристав.
Экипаж отъехал, и вся картина опять передо мной как на ладони. Вижу, как пристав барышню в театр посылает, а сам стал на крыльце и набивает трубку. Стоит на месте, стреляй – не хочу! Мой момент! Но тут мысль мелькнула, что момент-то не простой, а в момент этот вся моя дальнейшая жизнь решается. Мыслишка мелькнула, и я чуть-чуть промедлил. А тут вдруг к приставу кто-то подходит, какой-то в зеленом сюртуке и того от меня загораживает. Вижу спину этого господина, он стоит под крыльцом, а над его головой только голова пристава торчит. Не могу стрелять! Чуть пуля отклонится вниз – и убит будет не пристав, а этот сторонний человек. Строгое мне приказание – только пристав, никто более не должен даже быть задет! Если не сложится, не стрелять! В другой раз стрелять. Нет, должно сложиться! Иначе стыдоба. Жду.
Тут опять какой-то экипаж подъезжает, загораживает от меня и пристава, и того, который в зеленом. Жду. Экипаж отъезжает. Пристав, наконец-то, в одиночестве, зеленый исчез, выдыхаю, собираюсь духом, готовлюсь, а тут из двери барышня появляется и тянет папашу за руку внутрь. Оказались они друг от друга на расстоянии двух вытянутых рук, потому что пристав вроде идти пока не хочет, а она все его тянет. Пора! Жму на спуск. Пристав дергается. Колени его вдруг подгибаются, он начинает оседать, а потом валится на спину, сперва не разжимает руки и тащит за собой руку дочери. Потом, видно, рука его теряет силу, кисть разжимается, и отставленная рука дочки застывает в воздухе. Дело сделано! Тут, хоть мне приказано после выстрела немедленно убираться, оставив ружье, не могу прекратить свой интерес, гляжу в телескоп на барышню, как она растерянно озирается, какое у нее опрокинутое лицо, раскрытый рот, перевожу око телескопа на другие лица, недоуменные, испуганные, удивленные. Один что-то кричит, наверное, как предсказывал Учитель: доктора, доктора! Барышня и кто-то еще склоняются над упавшим. Всё! Оставляю ружье, спускаюсь бегом с каланчи и быстрыми шагами ухожу прочь, хотя хочется бежать, бежать, бежать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































