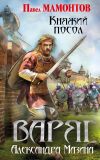Текст книги "Дровосек. Сага «Ось земли». Книга 2"
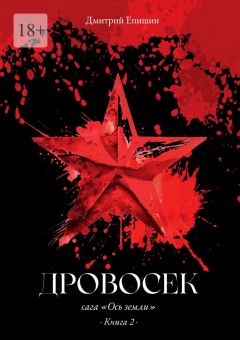
Автор книги: Дмитрий Епишин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть вторая
Половецкие пляски
Кто не помнит половецких плясок из оперы великого Бородина «Князь Игорь»?! Удивительная музыка, соединившая в себе могучие ветры Великой Степи с шумом валдайских дубрав, ветры, ворвавшиеся в наши пределы и оставившие след в русской душе. Что такое половецкие пляски? Это буйная стихия степной вольницы, столкнувшейся со странами Заката в неукротимом поиске истинной свободы духа. Не половецкие ли пляски гудят в соленой русской кровушке, так и не захотевшей смешаться с пресной европейской водицей?
Глава 1. 1987 год.
Живи, олень
Олень брел по голубому январскому снегу не спеша, по-хозяйски оглядывая окрестность и похрапывая от обжигающего воздуха. Его мех искрился в лучах молодого утра, и он был беззаботен, этот олень, не знавший, что за ним поворачивается ствол карабина. Чистое синее небо источало дрожащий свет, роившийся бесчисленными золотыми бликами. Кедры вокруг большой, занесенной снегом поляны беспомощно опустили ветви, не в силах остановить расправу над жизнью, ликовавшей в теле горячего животного.
Данила поймал оленя на мушку. Осталось только спустить курок – и… «Господи, в кого я целю? Зачем я хочу убить его? Ведь это Твой плод, Твое дитя. Чем он хуже меня? Разве он не брат мне? Он не знает подлости, он лучше меня. Почему я целю в него, Господи? Ведь я верю в Тебя – как же Ты позволяешь это? Где кончается моя воля и начинается Твое повеление? Господи, что же происходит?
Зоя… Я целю в оленя, а в глазах она, лишившая мою душу света. Под прицелом моей боли и ярости. Все, на что способен раб Твой, Господи, – это ненавидеть себе подобного за грехи свои. За свои, за свои, за свои, конечно. Все греховное, что делала, она делала именем моим, потому что была отражением моим. Отражением моей душевной скудости, слабосердия. Не смог от ее ожогов подняться. Закаменел душой, а она своей женской волной об этот камень разбилась, разлетелась мелкими брызгами – и такого натворила, что дышать трудно, как вспомнишь. Стерва, нечисть, нелюдь. Господи, неужели я так ужасен в отражении своем – в жене моей?
Что ж, подставь карабин стволом к подбородку, закричи зверем в последний раз оттого, что она тебе за все хорошее душу растоптала, нажми курок – и полетишь в преисподнюю, потому что не смог смириться, не смог в себе доброты найти, чтобы простить ее и подняться на ангельских крыльях благости. Тогда еще знал, что не смогу, никогда не смогу.
Ты, Господи, не позволил позорной смерти в петле, голос Твой в последнее мгновение остановил меня. Ну и, конечно, мальцы. Тогда еще крошки были: папка, папка, покатай на спинке… От смерти Ты спас меня, Господи, а жечь продолжал годы и годы. За что, за что?..
Хорошо хоть со «Столбовым» задачку решил, одна отрада за столько лет. Решил задачку и сам целехонек остался. А его жалко, несчастный парень. Не повезло ему.
Как же я жил тогда? «Столбов» все нервы съедал, а тут еще тени ее любовников в постели, и она – с бесконечными скандалами.
Какую же Ты, Господи, помощь мне тогда со Светой послал, слава Тебе! Если бы не она – что было бы. А началось так курьезно.
Накануне Нового года на лесной дороге налетел на мой «Опель» встречный грузовик, какой – плохо помню. Нырнул я от него в кювет, а тот глубоким оказался, машину выбросило, закрутило в двух плоскостях, потому что скорость была сто сорок, и полетел я к ангелам. Помню удар, помню, как по салону стёкла и всякая мелочь летали, а я матерился, значит, сознания не терял. Дверь «Опеля» еще в полете открылась, я на траву вывалился. Гляжу – машина моя сплющена между двух сосен, и шины шипят, спускают последний воздух. Быстро к багажнику подполз – там запакованная под новогодний подарок аппаратура связи лежала. Едва успел ее вынуть и в кусты бросить, а тут уж и свидетели подкатывают. Пожилой немец подбежал и говорит: «У тебя, парень, есть ангел-хранитель». В этот день мы со Светланой и познакомились…»
Данила вскинул карабин и выстрелил в воздух. Хлесткий короткий звук ударил по окружавшим поляну кедрам и ушел вверх, отрезвляя Данилу и возвращая его в светлый день. Он забросил оружие за спину и пошел к стоянке, где уже грелись у костра его спутники – егеря Шашинского охотхозяйства.
Данила Булай находился в отпуске, завершив командировку в Бонне. После прохождения положенной каждому «возвращенцу» диспансеризации в поликлинике ПГУ главный терапевт позвонила начальнику его отдела. Держа перед собой заключение психиатра, зачитала несколько выдержек из результатов обследования и рекомендовала отправить Булая, по крайней мере, месяца на два, подальше от всего, что может связывать его с работой. В заключении значилось: сильное нервное истощение и стресс, вызвавший отклонение ряда показателей от нормы.
Терапевт не знала, что поднаторевший в исследованиях здоровья разведчиков психиатр не написал того, о чем догадался еще во время собеседования с пациентом. Помимо профессиональной измотанности, у Булая просматривалась трудно восполнимая душевная травма личного плана. Доктор не стал углубляться в эту тему, полагая, что может лишь разбередить человеку душу. Такие травмы лечит только время. Для него же главное заключалось в том, что этот молодой полковник вышел из заварухи с адекватной психикой и после отдыха сможет работать дальше.
* * *
Данила любил Арзамас какой-то особенной, трудно объяснимой любовью. Этот старинный город лежал неподалеку от его родного Окоянова, на пересечении железнодорожных и автомобильных путей, и был той гаванью, из которой начинались путешествия Булая по белу свету. Сплошь застроенный храмами до революции, Арзамас и во времена советской власти сумел сохранить несколько старинных церквей. Данила хорошо помнил, что когда их четвертый класс привезли в этот город для посещения музея-квартиры Аркадия Гайдара, не музей, а величественный Воскресенский собор произвел на него самое сильное впечатление. Вспоминая этот эпизод в свои взрослые годы, Булай думал о том, какая могучая музыка заключена в церковной архитектуре. Будто новый мир открылся перед его детским взором – мир торжественных линий, чистоты и благости. Тогда же к нему пришло первое знамение, определившее внутреннюю жизнь до конца дней. В тот день он увидел в соборе большую, сияющую небесно-голубым и алым светом икону Богородицы с младенцем на руках, и чувство теплого, необъяснимого притяжения охватило его. Много раз возвращаясь к этому воспоминанию, Данила был уверен, что именно такое чувство бывает у ягненка, тянущегося к своей матери. В его душу упала искра. Потом, с годами он понял, что это было неслучайно.
Хотя в дальнейшей своей жизни Булай прошел все положенные этапы становления – октябрятский отряд, пионерию, комсомол – и считал себя неверующим, увиденный образ Богородицы согревал теплом его сердце, и сильную скорбь вызывали картины разрушенных храмов, встречавшиеся в ту пору повсеместно.
В Арзамасе проживало много выходцев из Окоянова, что для соседствующих городов является естественным делом. Одним из них был одноклассник Булая Сергей Стеблов, служивший священником в Воскресенском соборе.
Сергей происходил из духовного рода. Прадеда его, настоятеля окояновского Покровского храма, отца Лаврентия, глубоким стариком сослали на Соловки, и оттуда он уже не вернулся. Дед, дьякон церкви в Сергаче, уехал в двадцатом году в Самарканд, а в двадцать третьем его жена вернулась в Окоянов вдовой, привезя малолетнего Николая – будущего отца Сергея.
Традиции духовенства в семье были очень глубоки. Несмотря на лихолетье, отец Сергея тоже хотел стать священником, но бабка, настрадавшаяся из-за старшего поколения мужчин, горой встала на его пути и не пустила в духовную семинарию. В результате Николай окончил ветеринарный техникум, всю жизнь работал районным ветеринаром, слыл человеком замкнутым, не от мира сего. Сергей в некотором роде пошел в отца. Он также был далек от общественной жизни, не скрывал, что верит в Бога, за что часто подвергался насмешкам сверстников. С этого и началась его дружба с Булаем. Физически крепкий и активный Данила взял шефство над слабеньким и хрупким Сергеем, не раз защищал его от нападок насмешников и, бывало, по случаю квасил им носы. Сергей отвечал ему преданностью одинокого мальчика, нуждающегося в старшем друге. Жизнерадостный и напористый характер Данилы привлекал его своей силой, однако, инстинктивно чувствуя, как такая сила опасна, если ее не оберегает душа, он иногда заговаривал со своим приятелем о Вере и Боге. Булай не был склонен слушать Сергея, в нем сразу же появлялось нетерпение и раздраженность, хотелось закричать на этого блаженного с его глупостями. Однако его приятель был очень чуток к настроениям и сразу же замолкал. Когда настало время расставания, и они разъехались учиться по разным городам, в памяти Данилы осталось лишь несколько обрывков их разговоров, которые не забывались, а напротив, стали превращаться в маленькие маячки, дававшие возможность оценивать непростые жизненные ситуации, в которых он оказывался. Постепенно он стал понимать, что разговоры Сергея о духовности играют какую-то роль в его сознании. Пока еще неосмысленное ощущение присутствия в мире чего-то большего, чем его собственное представление о мироздании, уже поселилось в нем к тридцати годам его жизни. Через десять лет после расставания Данила узнал, что Сергей, закончив саратовскую духовную семинарию, получил назначение в Арзамас. Это было весьма престижно для него – приход считался самым большим на юге Нижегородчины. Данила разыскал своего приятеля, и они стали изредка встречаться – когда Булаю удавалось приехать на родину. На сей раз Данила ждал Стеблова на перроне вокзала Арзамас-2, уже с билетом в кармане на поезд Чебоксары – Москва. До прибытия экспресса оставалось двадцать минут, а Сергей все не появлялся. Наконец его хрупкая фигурка в цивильном костюме замелькала среди пассажиров, и он скорым шагом приблизился к Даниле.
– Ах ты, поп, толоконный лоб, опять опаздываешь. Целый год не виделись, а тебе и не стыдно нисколько, – приветствовал его Булай упреком.
– Прости, Данилка, ради Христа, у меня ведь вечерняя служба сегодня. Потом, пока от храма до вокзала доберешься… Сам знаешь, автобусы сейчас плохо ходят, перестройка в стране…
– Ладно, ладно, расскажи, как живешь, как семья. Что дети?
– Слава Богу, Данила, у нас все неплохо. Ты же знаешь, если венчание не по притворству, а по доброму расположению, значит, и по Богу, семья крепкая получается. На Софью свою не нарадуюсь, хотя, конечно, она у меня генерал в юбке. Главнокомандующий чистой воды. Я-то с ней не спорю. Понимаю, что такая моя планида. Да и жизнью доволен. Сам всегда в добром здравии, дети умыты, ухожены, в семье мир-покой. Только, Данила, на душе все равно тьма-тьмущая. Что вокруг нас делается? Такая, прости меня Господи, бесовщина из людей полезла, что отчаяние берет. Только в молитве и спасаюсь. Вот сегодня с утра в одну семью жену с ребенком возвращал. Вчера на автобусной станции обнаружил женщину молодую с двухмесячным младенцем. Уж третий день там жила. Муж из дома выгнал и с какими-то пьяными девушками в загул пустился. А у нее нет и медного гроша, сидит на скамейке и слезы льет, ребеночек надрывается. Я ее у себя приютил, а утром домой повез. Оскорбил он меня бранью и выгнал на улицу вместе с супругой. Снова к себе я ее вернул, потому что милиция в такие дела не вмешивается. Он ведь не хулиганит. Ну ладно, у них между собой всякое может быть. А как же у него душа не болит за крошечную дочку, которую он фактически на улицу выбросил, ты мне можешь это объяснить?
– Я думаю, Сережа, ты лучше меня умеешь все объяснить. Дело тут не в нашем понимании, а в том, что это душу жжет. Нельзя русскому человеку между небом и землей болтаться как неприкаянному. Ведь что, на мой взгляд, получилось? Пока до революции православными были – жили на небе. А там не все так хорошо. Душа впереди желудка идет, а желудок ноет, своего просит. Мол, давай, человек, все местами переставим: я впереди, а душа после меня. Так вот жадная плоть нас на землю и спустила – хотелось сладко есть и много пить. Душу запретили, стали по земле ползать, заползли по уши в навоз. Тогда, значит, начали думать, куда теперь двигаться. И придумали всем гамузом еще раз в неизвестную сторону шарахнуться. Без ветрил и без паруса. Вот тут из нас и полезло всякое окаянство, за многие годы накопленное. Этот мужик, что жену с грудным ребенком выгнал, наверное, просто не знает, что есть добро, что есть зло. Вот и не хочет ничего видеть, кроме своего брюха да своего блуда.
– Согласен, во всем с тобой согласен, только скажи, откуда столько нечистой силы в людях оказалось? Думаешь, это в природе их заложено? Почему же тогда в других народах это с таким размахом не проявляется?
– Знаю, о чем ты говоришь, Сережа. Опять меня агитировать вздумал. Теперь уж не тот я стал, чтобы меня убеждать. Ты прав, конечно. Оттого, что Бога в душе нет, и лезет в нее всякая нечисть. И ничем от нее русский человек не защищен. А может быть, в силу неустроенности своей даже больше открыт. Вот что страшно. Потому что сегодня он, тот мужик, что жену выгнал, от Бога очень далеко. Да и придет ли к нему когда? Я вот вроде бы уже что-то понимать начал, а тоже неизвестно, где нахожусь. Приду в церковь – половину службы постоять не могу, ноги сами из храма выносят. Крестное знамение в первый раз на себя очень долго наложить не мог – руку как чугуном наливало. Все-таки преодолел себя. Знаю, что надо, а трудно получается. Два года к Богу иду – и все в начале пути. Пьянство меня мутит. Борюсь, борюсь с ним – вроде бы одержу временную победу. Душа более-менее на место встает, с женой мир появляется, а потом опять все сначала. Как начну выпивать – такие черти душу крутят, только держись. А как окончательно от этого избавиться – не знаю, дружок. Вот какие дела, Сереженька. Вон, поезд уже пыхтит. Так мы и не поговорили с тобой по-настоящему. Может быть, в Москву ко мне приедешь? У меня отпуск ныне длинный. Нашли бы, чем заняться, да и пообщались бы как следует.
– Нет, Данилка, не могу обещать. Служба у нас очень трудная. Прихожан прибавляется, а клир маленький, каждый из нас на счету. Кто же меня отпустит. Приезжай-ка лучше ты ко мне, коль на отдыхе находишься. Здесь-то будет легче пообщаться. Заодно и на службу будем вместе ходить. Если научишься всю литургию выстаивать, считай, что еще один шаг к Господу сделал. Да и хорошо тут у нас. Приезжай, милый.
– И вправду, надо приехать. Вот что сделаем. Я сейчас в Москве кое-какие дела распихаю и к тебе недельки через две подкачу. Тут тебе и лыжи, и подледный лов, и храм Божий. Ничего, если я дней на несколько объявлюсь? Очень уж надо с тобой пообщаться.
– Что ты спрашиваешь, родимый, все мы рады будем, а уж дети-то как! Они твои подарки еще с прошлого раза не забыли. Приезжай, обязательно приезжай.
Глава 2. 1987 год.
И сходятся судьбы…
Декабрь восемьдесят седьмого года выдался в Горьковской области снежным и морозным. Выйдя из вагона в темное зимнее утро, Булай вдохнул обжигающий ледяной воздух и оглянулся вокруг. Перрон станции Арзамас освещался тусклыми электрическими фонарями, по нему брели к вокзалу немногочисленные пассажиры, прибывшие из Москвы. Встречающих не было. Не было и Стеблова. Данила поднял воротник дубленки и поспешил к теплому зданию вокзала. Он был полон воспоминаний о прощании со Светланой в предыдущий вечер. Почему-то она не хотела отпускать его в Арзамас, хотя вразумительных объяснений этому дать не могла. Единственным понятным мотивом было то, что она очень любит быть вместе с Данилой и каждый момент разлуки воспринимает болезненно. Светлана призналась ему, что по натуре она – кошка. Если пригреется на груди, то согнать ее трудно. Однажды она даже рассказала, что, вспоминая его в разлуке, смотрела на себя в зеркало, плакала и без конца повторяла «мяу». Но сейчас было что-то другое. Светлана странным образом реагировала на известие, что он едет к своему другу-священнику. Она не верила в Бога и считала религиозность вредной блажью. Ей были неприятны люди, становившиеся на колени перед иконами, унижающие свое достоинство надеждами на помощь непонятных сил, умиляющиеся от вида храма на пригорке или колокольного звона. Поэтому и дружба Данилы с попом не укладывалась в ее представления о нормальном отношении к миру.
Данила увидел Стеблова, в тулупчике, выбирающегося из дверей вокзала.
– Здравствуй, здравствуй, милый, чуть было не опоздал. Едва с соседом его «Москвич» завели, видишь, мороз-то какой. Ну, поехали быстрей.
Через полчаса они уже сидели в теплом домике священника в Выездном Арзамасе, вместе с его женой Софьей пили чай и вели разговоры. В соседней комнате спали трое малолетних детей Сергея. Поначалу в его супружестве были трудности, Софья никак не могла понести. Только после пяти лет неустанных молитв и поездок по святым местам дело наладилось. Теперь в семье росли две девочки и младший – мальчик. Софья сильно располнела, но природный румянец, белый цвет кожи и голубые глаза делали ее привлекательной.
«Интересно, а венчанные женщины хотят нравиться посторонним мужчинам?» – подумал Булай, глядя на жену Сергея.
И как бы отвечая на его вопрос, Софья вдруг сказала:
– Что мы говорим о всяких пустяках. Я же вижу, что Данила прямо из любовной печи приехал, в глазах голубое пламя. Не до разговоров ему сейчас. Пусть идет спать, о суженой своей помечтает. Рано еще день начинать. Пять часов утра только.
Все пошли отдыхать и, укладываясь на диване, Булай подумал о том, насколько же проницателен женский глаз к сердечным делам. Надо же, все с ходу поняла. Ну, Софья, ну, попадья! Значит, не все равно ей, что у других на личном фронте происходит.
Проснувшись утром, Данила обнаружил, что Сергей ушел на утреннюю службу, а с кухни доносится запах жареных блинов. Был скоромный день. Софья подала к блинам сметану и молоко. Данила ел это забытое кушанье, и воспоминания детства приходили к нему на память. Вот его бабка Анна, худая и строгая старуха в темном платке, стоит у печи со сковородником, поочередно доставая из нее две сковороды с блинами. Блины пекутся на углях, края чуть-чуть подгорают. Они замешаны на ржаной муке и, наверное, поэтому очень вкусны. На столе стоит плошка с топленым маслом. Каждый новый блин делится между тремя детьми на три части. Каждый, свернув свой кусок в трубочку, окунает его в масло и с аппетитом ест. Блинный день – это событие. Он бывает редко, не каждые выходные. Муки всегда в обрез. На дворе пятьдесят третий год. Голода нет, но и сытой эту жизнь тоже не назовешь. Не хватает даже хлеба. Булай хорошо помнил, как тогда добывали хлеб. Теплые буханки привозили в лавку с хлебозавода на конных санях часов в пять утра и продавали по одной на человека. На всех не хватало. Поэтому, чтобы досталась буханка, надо было занимать очередь с вечера. Никогда из памяти его не уйдут: и толпа людей, которая жмется друг к другу под звездным зимним небом, чтобы согреться, и жгучий мороз, протекающий через дыры валенок к пальцам ног, и сонное стояние под рукой у бабки, с железной выносливостью каждую ночь уходившей в очередь с двумя старшими внуками, а его мать оставалась с младшей трехлетней дочерью.
Хорошо это было или плохо? Прожив на свете сорок лет, Данила решил, что так было надо. Человеку очень важно знать цену таким вещам, как хлеб, воля, любовь. Ему пришлось познать все, и, наверное, поэтому он оказался сейчас здесь, где хранится изначалие всего главного, – в семье священника.
Булай распивал с попадьей на кухне чай, когда со службы явился Сергей. Он принес с улицы запах морозного солнечного дня, в бородке его светились искорки инея.
– Хорошие новости, Данила. Завтра заглянем, если Бог даст, в Санаксары. Знаешь такой монастырь?
Данила не знал, и приятель рассказал ему, что в Темниковском районе Мордовии стоит заброшенный старинный Санаксарский монастырь, в котором покоится прах Федора Ушакова. Знаменитый флотоводец после выхода в отставку уединился, стал отшельником, все время проводил в молитвах и завещал похоронить его в Санаксарах. При советской власти монастырь был разорен, а сейчас в нем снова затеплилась жизнь. Появились первые добровольцы, которые на свои средства начали ремонтные работы. Но пока еще это все самодеятельность. Разрешения властей на открытие обители нет.
– Но туда мы по пути заедем, а повезу я тебя к одному очень интересному человеку, который неподалеку проживает. Я с ним познакомился, когда Санаксары навещал. Он тоже там в свободное время трудится. Так подружились, что обязательно разок в два-три месяца до него доберусь. Наговорюсь – как водицы из чистого ключа напьюсь. Вот и ты увидишь, какие люди у нас в самой глубинке проживают.
На следующий день оранжевый, как апельсин, «Москвич» уверенно катил по расчищенной грейдерами автобусной дороге на Мордовию. За рулем сидел его хозяин – соседский сын Геннадий, смешливый и разговорчивый парнишка. Занесенные снегом поля слепили глаза, отражая яркий солнечный свет. Среди них темнели полоски перелесков да редкие села, притихшие среди зимнего дня. У попутчиков было хорошее настроение, тон ему задавал водитель, который, как понял Данила, помогал приходу по воле верующего отца за символическую плату. Зная о необходимости вести себя сдержанно в присутствии священника, Геннадий, тем не менее, не мог молчать. Видно, это противоречило его натуре.
– Вот, Сергей Николаевич, объясните мне, как быть. Отец говорит, что без венчанья жениться не позволит. Наташка, напротив, венчаться не хочет, она неверующая. А я, значит, как цветок в проруби болтаюсь. Жениться хочу, а сделать ничего не могу. Теперь вопрос: если я без венчанья не женюсь и мы с ней по сторонам разойдемся, это будет – по Богу или как? А если убегу с Наташкой в Москву и там мы с ней в ЗАГСе зарегистрируемся – это как, против Господней воли? Ежели против, то, выходит, все поколение наших родителей против Господа детей рожало? Коли так, все мы, без венчанья рожденные, – Божьи беспризорники?
– Правильно, Гена. Вы – беззаконники, хоть об этом и горько говорить. Другое дело, что это не вина родителей ваших, а беда. Их такими сделали без их на то воли. Понимаешь, брак без Божьего благословения – это повторение первородного греха. Ведь в чем вина Адама и Евы? Не просто в том, что они вступили в блуд. Они сделали выбор против Господней воли. Господь всегда дает право выбора, но один из открывающихся путей всегда против его воли. Это возможность сочетаться с Сатаной, с грехом. Они сделали выбор в пользу греха. Вот и появилось от этого на свет греховное, преступное потомство. И Каин убил Авеля. Душа человека, родившегося на свет без Божьего позволения, будет метаться во мраке и совершать ужасные ошибки. И себя она будет губить, и другие души. Поэтому, Гена, не сомневайся в выборе. Ты ведь даже не о себе заботиться должен, а о своем потомстве. Чтобы оно с миром в душе рождалось и жило.
– Ну да, конечно, – сказал Гена. – А то до революции лучше было. Венчаться-то все венчались, а безобразия творили только так. Я читал немало об этом.
– Здесь ты не совсем прав. Во-первых, ты читал лишь то, что для тебя специально подбирали в школе и в библиотеках. Очень много художественных свидетельств прошлой жизни от читателя утаивается. Поверь, если бы ты и с ними познакомился, то представлял бы прошлое совсем по-другому. До революции в людях был другой дух. Хотя жили непросто, но Бога почитали, а через это и в семьях отношения были крепче. Конечно, и то, о чем ты говоришь, тоже встречалось. Ведь человеческая душа – это поле борьбы светлых и темных сил. И у православных она также подвержена нападкам. Православный человек не безгрешен. Он просто в отличие от неверующего знает, кто его мутит, и борется с искушением с помощью Господа. Кто-то побеждает, а кто-то нет. Если мало молится, то проигрывает.
– Выходит, вера в Господа меня лучше не делает?
– Делает, Гена, еще как. Когда ты начинаешь осознавать, что именно темная сила подталкивает тебя к грехам, в тебе появляется сопротивление этой силе. Ты постепенно закаляешься и со временем уже можешь во многом очиститься, хотя, конечно, настолько мы грязны, что это будет только малый просвет. И все равно это лучше, чем, не осознавая своего свинства, валяться в грехе.
Данила слушал Сергея, и тяжелые мысли приходили ему на ум. Он вспоминал свою молодость, любовь к Зое, череду унизительных открытий ее измен, скрутивших в узел его душу и заставивших невыносимо страдать в самые заревые годы. Он пытался понять, что же это было – наказание за неизвестные преступления предков, или, может быть, просто следствие собственного безбожия? Теперь, когда прошло много лет, и на эту историю можно было посмотреть спокойно, он понял главное: все испытания, которые ему принесла жена, не были результатом случайного стечения обстоятельств. Это было кому-то надо, и Данила начинал осознавать, что это было надо силам, ведущим его по какому-то неведомому пути.
Наконец показались обветшалые корпуса Санаксарского монастыря, но священник велел ехать мимо, сказав, что остановятся здесь на обратном пути. Преодолев еще несколько километров по черневшему голыми стволами лесу, въехали в небольшую мордовскую деревеньку, будто уснувшую среди снегов. Остановились у крайнего дома и посигналили. На гудок «Москвича» ситцевая занавеска в мутном оконце отодвинулась, и в нем показалось бородатое лицо пожилого мужчины. Он приветливо улыбнулся, призывно помахал рукой. Через две минуты гости уже стояли в маленькой прихожей, окутанные холодным паром с улицы, и здоровались с хозяином. Тот обнялся со священником, пожал руку Геннадию, а затем с улыбкой обратился к Даниле:
– Комлев, Аристарх Аркадьевич. Вольный философ.
По ироничной тональности и ударению на последнем слоге, было видно, что он вроде бы подшучивает над самим собой. Но фамилия и имя как-то насторожили Данилу. Они были знакомы ему. Память Булая заработала напряженно, так, как это бывало в острых оперативных ситуациях. В голове его палочка ударника отсчитывала секунды, приближая удар литавры. И литавры ударили: он вспомнил. Пока рассаживались за стол, пока хозяин расставлял посуду для чая и высыпал в тарелку сухарики, в память Булаю накатывал Дубравлагерь в 1972 году.
Тогда его, молодого сотрудника ПГУ, послали в Дубравлаг в командировку для знакомства с агентом, которого он впоследствии должен был вести в Германии. Дубравлаг, или в просторечьи, потьминские лагеря, представлял собою несколько зон, разбросанных в лесах Зубово-Полянского заповедника Мордовии. Управление находилось в поселке Явас. Туда вела узкоколейка со станции Потьма, давшей название всему этому заведению. В большинстве отделений сидели уголовники, но два из них находились в ведении КГБ: так называемая иностранная зона, в которой отбывали сроки иностранные граждане, осужденные в основном за контрабанду и шпионаж, и сто первая зона – там сидели осужденные по статье 70, так называемые диссиденты. Их было немного, всего около ста заключенных. Когда Данила узнал об этом количестве, он подивился тому, какая вокруг этого ничтожного числа людей раскручена гигантская пропагандистская кампания Запада. Несведущий человек мог бы подумать, что советская власть занимается массовыми репрессиями инакомыслящих. Позднее он с такими представлениями столкнулся за рубежом. Среди диссидентов большая часть являлась евреями. Здесь же сидели и звероватые украинские и прибалтийские националисты да странная компания студентов и преподавателей Ленинградского университета, попавших сюда за создание подпольной Христианско-социальной партии, собравшейся бороться с коммунизмом.
Специально созданный оперотдел обслуживал этот контингент, стремясь вербовать в основном евреев, которые, отсидев срок, выезжали в Израиль. Правда, по пути многие задерживались в Австрии и Германии, где стригли купоны с преступлений гитлеризма и неплохо легализовались. Кое-что у чекистов с вербовками получалось, и из Дубравлага в Вену и Западный Берлин регулярно уходили их источники. Большая часть их тут же делала КГБ ручкой, но не все были такими, кое-кто становился хорошим подспорьем в разведработе. Человек, к которому приехал Данила, был в своем роде уникальным приобретением.
Борис Курихин происходил от смешанного брака. Мать его была еврейкой, вывезенной из блокадного Ленинграда и потерявшей там всех родных, а отец -русским врачом. В молодости Борис не прикоснулся к идеологии сионизма в силу того, что проживал в городе Кашине, где никаких сгруппировавшихся этнических меньшинств, за исключением трех татар на хладобойне, вообще не было. Борис показывал хорошие способности в учебе, поступил на истфак МГУ и с наивными представлениями о мире вошел в прогрессивную прослойку студентов этого факультета. В основном она состояла из москвичей, гораздо лучше его развитых в общем плане. Борис потянулся к этим бойким ребятам, даже не представлявшим, что будущий историк может не слушать западные радиостанции и ничего не знать об экзистенциализме.
Неспособность Курихина рассуждать о наиболее животрепещущих темах современности – культе личности, волюнтаризме Хрущева, неосталинизме Брежнева – всех смешила и удивляла. Борис стал набираться ума-разума и, наконец, был удостоен приглашения на кухонные посиделки к своему тезке Боре Нейману. Разговор на кухне под рюмочки ликера «Южный» закрутился вокруг коммунистической морали. Привезенные Курихиным из провинции аргументы в пользу чистоты рядов КПСС быстро развеялись, потому что его новые друзья были вооружены мощной и неопровержимой фактурой о злоупотреблениях партийных боссов, хотя где правда, а где сплетни – разобраться было невозможно. Система партийных привилегий, о которой в Кашине и понятия не имели, была общеизвестна в столице и сильно ударила по убеждениям Бориса Курихина. Но самую неожиданную реакцию у компании вызвал нечаянно упомянутый им факт, что его мать – еврейка. Нейман громко и долго смеялся и, наконец, просипел сквозь смех:
– Ну, Борька, ну, молодец. Люблю. Так и продолжай дурилку лепить. Мы тебя в ЦК продвинем.
С тех пор Курихин получил доступ к материалам самиздата, ходившим по рукам в Москве, и постепенно стал пропитываться демократическими идеями. Чем дальше, тем больше Борис осознавал, что реальный социализм с настоящей демократией ничего общего не имеет, а к четвертому курсу он созрел для написания созвучных работ собственного сочинения. В личном плане это закончилось крупной ссорой с отцом, который, в силу своего провинциального патриотизма, не смог понять новых веяний, привозимых сыном из столицы. После этой ссоры случилось другое знаменательное событие – Курихин был арестован по подозрению в антисоветской агитации и пропаганде. При обыске в тумбочке Бориса были найдены рукописи, однозначно указывавшие на его соавторство в труде под названием «Ночь коммунизма». Вторым автором работы был его сокурскник Миша Фридман. В результате оба они получили по четыре года заключения в колонии общего режима. В лагерь уезжали героями. Сотоварищи по подполью их не забыли. Курихин и Фридман частенько получали письма в свою поддержку, а кроме того, была налажена тонкая струйка продуктовых посылок через подкупленных охранников зоны. Продуктовая посылка по инструкции полагалась раз в год, но у большинства заключенных этой категории особых проблем с питанием не было. У Бориса под кроватью хранился довольно объемистый короб с сухим молоком, шоколадом и консервами. В этой зоне многие охраняемые питались заметно лучше, чем охранявшие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?