Текст книги "Как опасно предаваться честолюбивым снам"
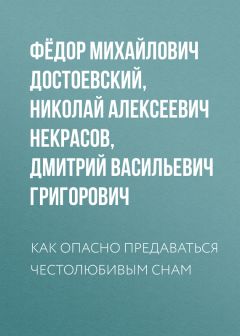
Автор книги: Дмитрий Григорович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
VI
Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокойный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шажком в свой департамент… Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь – от сеченья и греческих спряжений в детстве, голоданья и переписыванья в юности до последнего недавнего распеканья – проходит перед его глазами, – и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности – не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице – никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съеживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» – думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник отделения?…» – думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю… И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума – ничто не утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в отставку, – думает он, – так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а покуда выйдет отставка, тиснуть в «Полицейской газете»,[10]10
…в «Полицейской газете»… – Имеются в виду «Ведомости С.-Петербургской городской полиции».
[Закрыть] что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом…» Тут он на минуту запнулся… «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? – продолжал он с некоторым смущением, – что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафах и под судом не бывал, зложелателей, благодаря всевышнего, не имею… подал в отставку… ну, что ж? Вышел случай такой, с кем не случается!.. просто случай вышел такой… Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, – я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия… Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях… Да! да! В малороссийских губерниях лучше – климат теплее, да и народ-то попроще… народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую… ух! шельма на шельме! Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк… на каждом, на шельмеце-то, синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она какая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три-четыре тысчонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже… а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается… Ух! раздолье-то! раздолье…» Тут Петр Иваныч потер руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, – на что русский человек очень скор… «Да только та беда, – продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху, – да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто не возьмет… Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иваныч Бризенмейстер, или еще помудреней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь… а то – Блинов! на вот тебе в самый рот – блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил бога, что и оканчивается она на ов, а не на ский. «Да опять и то, – продолжал размышлять наш герой, – осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идет-то, как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческом… вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну, уж известно: по какой части пойдешь, с тою и степень значения в лице своем соразмеряешь… степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь… А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб па лице было написано, что ему и черт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностию, не лишенною благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое… Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иваныч!..“ Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам…» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч и покончил тем, что, как ни вертись, службу оставить невыгодно, розорительно, словом, неблагоразумно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решился он идти в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошел до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице, пожалуй, чем черт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да! – повторял Петр Иваныч, – оно в самом деле даже и хорошо», – и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожался и падал перед несчастием. На четвертый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.
Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! – сказал он себе с тайной радостью. – Видно, уже завтра!» – и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.
Бежал он на службу…
VII
В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется из «Соннамбулы»,[11]11
…из «Соннамбулы»… – «Сомнамбула» (1831) – опера итальянского композитора В Беллини (1801–1835), входившая в 1840-х годах в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы. По свидетельству приятеля Достоевского, врача С. Д. Яновского, писатель в молодые годы восхищался «Нормой» – другой оперой этого композитора, где главная партия исполнялась итальянскими певцами Д. Борзи и А. Гризи.
[Закрыть] которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те, в свою очередь, передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой… К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.
И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительны» наклонением головы, – в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, – как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха.
Начальник повторил свой вопрос.
Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, II тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, – в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии»,[12]12
…мотивов из «Лучии»… – «Лючия ди Ламмермур» (1835) – опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797–1848), также входившая в постоянный репертуар петербургской Итальянской оперы.
[Закрыть] слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся…
Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал медленно, важно, делая ударение на каждом слове:
– А что скажете вы?
Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать…
Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано,
Что чиновники то же, что воинство
Для отчизны в гражданском кругу,
Посягать на их честь и достоинство
Позволительно разве врагу,
Что у них все занятья важнейшие –
И торги, и финансы, и суд,
И что служат все люди умнейшие
И себя благородно ведут.
Что без них бы невинные плакали,
Наслаждался б свободой злодей,
Что подчас от единой каракули
Участь сотни зависит людей,
Что чиновник плохой без амбиции,
Что чиновник не шут, не паяц,
И не след ему без амуниции
Выбегать на какой-нибудь плац.
А уж если есть точно желание
Не служить, а плясать качучу,
Есть на то и приличное звание –
Я удерживать вас не хочу!
Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык…
Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.
VIII
«Корабль, обуреваемый
Волнами – жизнь моя!
Судьбою угнетаемый,
В отставку подал я,
Немало тут утрачено –
Убыток – и большой!
А впрочем, предназначено
Уж видно так судьбой.
И есть о чем печалиться.
Нашел чего жалеть!
Смерть ни над кем не сжалится –
Всем должно умереть!
Почетные регалии,
Доходные места,
Награды – и так далее,
Всё прах и суета!
Мы все корпим, стараемся,
Вдаемся в плутовство,
Хлопочем, унижаемся,
А всё ведь из чего?
Умрем, так всё останется!
На срок пришли мы в свет…
Чем дольше служба тянется,
Тем более сует.
Успел уж я умаяться
В житейском мятеже,
Подумать приближается
Пора и о душе!
Уж лучше здесь быть пешкою,
Чем душу погубить…
А впрочем, что ж я мешкаю?
Уж десять хочет бить!
Есть случай к покровительству!
Тотчас же полечу
К его превосходительству
Ивану Кузьмичу –
Поздравлю с именинами…
Решится, может быть,
Под разными причинами
Блохова удалить
И мне с приличным жительством
Его местечко дать…
Не нужно покровительством
В наш век пренебрегать!..»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































