Текст книги "Крым глазами писателей Серебряного века"
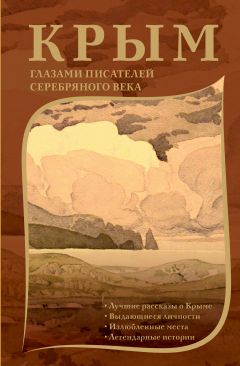
Автор книги: Дмитрий Лосев
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
…Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, но все-таки неподвижном лице.
Недалеко от Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу.
Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над нами и ругали нас по-своему, мы решили уйти из аула, испуганные все возраставшим среди аульников враждебным отношением к нам. Отойдя верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и с торжеством показал мне, воскликнув:
– Больши нэ надо работать! Продадым – купым всего! Хватыт до Тыфлыса!
Панымаишь?
Я был возмущен до бешенства, вырвав кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго пред этим мы слышали от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на дороге в станицу. Казаки не однажды строго предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе, – не верить им я не имел основания.
Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы основательно колотили друг друга, и, наконец, Шакро с гневом крикнул мне:
– Будэт!..
Измученные, мы долго молчали, сидя друг против друга… Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул краденую кисею, и заговорил:
– За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл? Что тэбэ – жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украл… Работаишь ты, я нэ умэю… Что минэ делать? Хотэл помочь тэбэ…
Я попытался объяснить ему, что есть кража…
– Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава как дерево… – презрительно отнесся он ко мне и объяснил: – Умирать будишь – воравать будишь? Ну! А развэ это жизнь?
Малчи!
Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были в Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные весы.
Тогда мы тоже едва не подрались.
– Ну, – идем далшэ? – сказал он, когда оба мы несколько успокоились, примирились и отдохнули.
Пошли дальше. Он с каждым днем становился все мрачней и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаура, он заговорил:
– Дэнь-два пройдет – в Тыфлыс придем. Цце, цце! – почмокал он языком и расцвел весь. – Приду домой, – гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду… ага! Есть буду много… ах, много! Скажу матэри – очэнь хачу есть! Скажу отцу – просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл, – разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу – пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ… Вот человэк, – был минэ как старший брат… Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэперь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми – вот сколько! Слышишь, Максым?
Я любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие речи были мне и потому интересны, что я не имел в Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась зима – на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся немного на Шакро.
Мы шли быстро. Вот и Мцхет – древняя столица Иберии. Завтра придем в Тифлис.
Еще издали, верст за пять, я увидал столицу Кавказа, сжатую между двух гор.
Конец пути! Я был рад чему-то, Шакро – равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот. Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.
– Ты думаешь, я – грузински дыварянин – пайду в мой город днем такой, рваный, грязный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчера. Стой!
Мы сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-грузинской дороги дул резкий и сильный ветер.
Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню… Я думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни пред жизнью кочевой.
– Идем! – поднялся Шакро с решительным лицом. Стемнело. Город зажигал огни.
Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.
– Слушай! ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо… а то узнают мэнэ знакомые, может быть…
Я дал башлык. Мы идем по Ольгинской улице. Шакро насвистывает нечто решительное.
– Максым! Видишь станцию конки – Верийский мост? Сыди тут, жди!
Пожалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать…
– Ты недолго?
– Сэйчас! Адын момэнт!..
Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем – навсегда.
Я никогда больше не встречал этого человека – моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.
Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, – ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
Крымские эскизы
I. Уми…По утрам, просыпаясь, я отворяю окно моей комнаты и слушаю – с горы, сквозь пышную зелень сада, ко мне несется задумчивая песня. Как бы рано ни проснулся я, она уже звучит в утреннем воздухе, напоенном сладким запахом цветущих персиков и инжира.
Свежий ветер веет с могучей вершины Ай-Петри, густая листва деревьев над моим окном тихо колышется, шелест ее придает звукам песни много красоты, ласкающей душу. Сама по себе мелодия не красива и однообразна – она вся построена на диссонансах; там, где ожидаешь, что она замрет, – она возвышается до тоскливо-страстного крика, и так же неожиданно этот дикий крик переходит в нежную жалобу. Поет ее дрожащий, старческий голос, поет целые дни с утра и до вечера, и в какой бы час дня ни прислушался – всегда с горы, как ручей, льется эта бесконечная песня.
Жители деревни говорили мне, что вот уже седьмой год они слушают это задумчивое пение. Я спросил их:
– Кто же это поет? – и мне рассказали, что это сумасшедшая старуха, Уми, у которой шесть лет тому назад муж и двое детей поехали в море ловить рыбу и все еще не вернулись.
С той поры Уми сидит на пороге своей сакли и смотрит в море и поет, дожидаясь своих родных. Однажды я пошел посмотреть на нее. По извилистой тропинке, мимо вросших в гору саклей, через сады и виноградники я поднялся высоко на гору и там увидал полуразрушенную, скрытую в камнях и яркой зелени саклю старухи Уми. Платан, фига и персики росли среди громадных камней, скатившихся с вершин Яйлы, журчал ручей, образуя на пути своем ряд маленьких водопадов, на крыше сакли росла трава, по стенам ее вилось какое-то ползучее растение, и дверь ее смотрела в море.
На камне у двери сидела Уми – высокая, стройная, седая, с лицом, исчерченным мелкими морщинами и коричневым от загара. Камни, нагроможденные друг на друга, сакля, полуразрушенная временем, серая вершина Ай-Петри в жарком синем небе и море, холодно блестевшее на солнце, там внизу, – всё это создавало вокруг старухи обстановку суровую и проникнутую важным спокойствием. Под ногами Уми, по горе, рассыпалась деревня, и сквозь зелень садов ее разноцветные крыши напоминали о рассыпанном ящике красок. Снизу доносился звон лошадиных сбруй, шорох моря о берег и иногда – голоса людей, столпившихся на базаре около кофеен. Здесь наверху было тихо, только ручей журчал, да песня Уми аккомпанировала ему, бесконечная, задумчивая песня, начатая шесть лет тому назад.
Уми пела и улыбалась навстречу мне. Ее лицо от улыбки еще более сморщилось. Глаза у нее были молодые, ясные, в них горел сосредоточенный огонь ожидания, и, окинув меня ласковым взглядом, они снова остановились на пустынной равнине моря.
Я подошел и сел рядом с ней, слушая ее песню. Песня была такая странная – в ней звучала уверенность и сменялась тоской, – в ней слышались ноты нетерпения и усталости, она обрывалась, замирала и снова возрождалась, полная радостной надежды…
Но что бы ни выражала собой эта песня – лицо старухи Уми выражало лишь одно чувство – ожидание, в котором не было сомнения, уверенное ожидание, спокойное и радостное.
Я спросил ее:
– Как зовут твоего мужа?..
Она ответила, ясно улыбаясь:
– Абдраим… Сын первый – Ахтем, и еще Юнус… Скоро приедут. Они там едут. Скоро увижу лодку. И ты увидишь!
Она так сказала это «и ты увидишь», точно была уверена, что и для меня увидеть их будет великим счастьем, великое наслаждение принесет мне с собой лодка ее мужа, когда она покажется на горизонте, где небо отделялось от моря тонкой темно-синей чертой и куда она указывала мне своим коричневым пальцем мумии, высохшей на солнце юга, беспощадно жарком.
Потом она снова запела свою песнь ожидания и надежды. Я слушал, смотрел на нее и думал: «Хорошо так надеяться! Хорошо жить с сердцем, полным ожидания великой радости в будущем!»
А Уми все пела, тихонько раскачиваясь корпусом и не отрывая глаз от пустынного моря, ослепительно блестевшего на солнце.
Ее сознание, все поглощенное одной идеей, не воспринимало ничего больше, и я, сидевший с нею рядом, – не существовал для нее. И, полный уважения к ее сосредоточенности, чувствуя, что я готов завидовать ее жизни, полной одной только надежды, – я молчал, не мешая ей забывать обо мне. Море в этот день было спокойно, оно, как зеркало, отражало блеск неба и мне не обещало ничего. Я долго просидел рядом с Уми и ушел не замеченный ею, унося с собой много грусти. Вслед мне неслась песня и звонкий плеск ручья, над морем реяли чайки, целое стадо дельфинов резвилось недалеко от берега – даль моря была пустынна.
Никогда и ничего не дождется старая Уми, но будет жить и умрет с надеждой в сердце…
II. ДевочкаСреди больных, гулявших в полдень по дорожкам парка, вдыхая целебный воздух моря, я увидал однажды девочку, поразившую меня огромными глазами, полными какой-то странной грусти, – грусти, как бы молча спрашивавшей о чем-то.
Трудно было определить ее лета – темные вопрошающие глаза её смотрели старчески серьезно, взгляд ее был взглядом человека, много страдавшего и думавшего. Но ее худое, костлявое тельце и маленькое личико не позволяли дать ей более десяти лет.
Розовая блузка висела на ее угловатых плечах, как на вешалке, и веселый цвет материи еще резче оттенял жёлтую кожу иссушенных болезнью щек и шеи. Девочка была немножко горбата и ходила переваливаясь с ноги на ногу – очевидно, у нее ноги были кривы. Но невыразимая и грустная прелесть глаз больного ребенка, привлекая и сосредоточивая на себе внимание, как бы сглаживала уродство тела, исковерканного болезнью, и девочка была красива одухотворенной красотой мученицы.
Было ясно видно, что бремя болезни, исковеркавшей ее хрупкие кости, она несла со дня своего рождения и что скоро уже смерть снимет с нее это бремя. Она кашляла зловещим, сухим кашлем, и, когда проходила близко от меня, я слышал – может быть, это казалось мне – ее учащенное дыхание. Среди роскошной растительности парка, в блеске южного солнца, она возбуждала странное и болезненное чувство – было жалко ее и как-то неловко пред ней – точно я сам косвенно был виноват в том, что она так несчастна. Бывало, она медленно идет по дорожке парка и смотрит пред собой своими дивными глазами – вокруг нее всё цветет и жадно дышит оживляющим воздухом весны, поют птицы, кипарисы кадят небу своим ароматом, журчат обильные водой ручьи, всюду прорезывая зеленые лужайки парка, море и небо любуются друг на друга, добродушно ворчат волны – точно сказки говорят; девочка как бы не видит богатых красок и не слышит музыки возрождения природы, она идет к старому кедру и там, в тени его могучих ветвей, садится на лавочку. Ее провожает всегда одно и то же лицо – высокий человек, щегольски одетый, с неподвижным лицом и с большим перстнем на указательном пальце правой руки, в которой он всегда держит толстую палку.
Когда девочка садится на скамью, он спрашивает ее:
– Устала?
Он говорит громко, и девочка, вздрагивая от его вопроса, кивком головы отвечает ему. Сидит она обыкновенно долго – час и более, но я никогда не видал, чтобы она разговаривала со своим провожатым. Глаза ее смотрят вперед и безмолвно спрашивают – кого? о чем? Против нее пруд: среди пруда из воды торчит некрасивый пирамидальный камень, струя воды бьет высоко кверху из его вершины и с звонким шумом падает в пруд. Там, где эта струя, переламываясь, дробится на капли и они каскадом падают вниз, – лучи солнца окрашивают их во все цвета радуги, это очень красиво и похоже на град из разноцветных драгоценных камней. Но девочка никогда не смотрела на эту игру солнца – взгляд ее направлялся всегда куда-то дальше того, что было пред ним, точно она видела что-то сквозь предметы.
Это созерцание среди жизни, кипевшей вокруг больной, производило какое-то мистическое впечатление, близкое к ужасу.
«За что она страдает? Ради чего и кому нужно было, чтобы она родилась для такого существования?»
Такие вопросы родились при виде ее, и становилось холодно от этой жестокости, никому не нужной, и тем более жестокой.
…Однажды, когда ее проводник – гувернер или отец? – ушел, оставив ее на лавочке под кедром, – я сел рядом с ней. Она посмотрела на меня и улыбнулась – печальной улыбкой, от которой у меня сжалось сердце. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал о чем, – и молчал, смущенный ее взглядом, чувствуя к ней что-то большее, чем уважение.
Вокруг нас раздавался веселый и мощный шум жизни, над нами птицы, у наших ног муравьи – все торопилось жить, летало, пело, суетилось. Я смотрел на ребенка и думал: «Хорошо, если она не сознает глубокой оскорбительности контраста между нею и кедром, под которым она сидит, и муравьем, на которого она, не замечая его, бросила лепесток цветка!»
Она заговорила со мною первая.
– Вы тоже хвораете? – улыбаясь, сказала она слабым голосом.
– Немножко, – отвечал я.
– Вам хорошо здесь?
– Да… А вам?
– Я не люблю, когда много солнца… и шум…
– Разве вам не нравится этот шум? Он же такой красивый… Послушайте – соловьи и жаворонки, волны моря и ручьи, шелест листьев…
– Много очень… и громко. Если бы тише…
– Да, пожалуй, тише было бы лучше…
Она с убеждением кивнула головой и сказала еще:
– В Петербурге – вот где противно! А в деревне у нас тихо, тихо! Особенно ночью. Я очень любила ночью лежать и слушать. Слушаешь долго… долго, и ничего не слышно… точно и нет ничего на земле… и даже земли нет… Потом что-нибудь вдруг услышишь и вздрогнешь… Так очень хорошо…
Она закашлялась.
– Вам вредно говорить…
– Да, – просто сказала она, помолчала и тихонько, почти шепотом, сказала: – Мне всё вредно…
Я встал и ушел от нее, боясь выдать пред ней скорбное волнение, охватившее меня.
С той поры, встречаясь, мы стали раскланиваться – она всегда кивала мне головкой и улыбалась, и с каждым днем в ее улыбке все менее было жизни.
Однажды, когда я пришел в парк и искал ее, я увидал безучастного господина, который шел мне навстречу, держа девочку на руках.
Когда он поравнялся со мной, я, охваченный какой-то боязнью, тихо спросил его:
– Уснула?
Он озабоченно взглянул на меня и глухо ответил:
– Умерла…
Сергей Елпатьевский
Крымские очерки
Фрагменты книги
БалаклаваБалаклава тихая, уютная, укромная.
Когда едешь на пароходе из Севастополя в Ялту, мимо Балаклавы, ее не видно. Скалистые, высокие берега, тянущиеся от Георгиевского монастыря, в одном месте понижаются маленькой седловиной, но все же кажутся непрерывной линией скал. И вы можете десять раз проехать по старому шоссе из Севастополя в Ялту и не заметить, что тут, рядом, в каких-нибудь 2-х верстах от шоссе, приютился городок и даже, можно сказать, столица крымского греческого населения. В середине – озеро, голубовато-синее, неподвижное, чуть зыблющееся в ветер, а кругом горы, тесно сдвинувшиеся, голые, без травы, без деревьев, сухие, каменистые, так вбирающие в себя жар дневного солнца и так медленно остывающие ночью.
Вокруг озерка вьется узенькая набережная. Справа больше ничего и нет, прямо над домами, кое-где врезавшимися в скалу, поднимается высокая, неприветная голая гора, а слева, над набережной, ползут по горе 4–5 узеньких улочек, прорезанных еще более узенькими, короткими переулочками. На набережной франтоватые дачи 2-х и 3-х-этажные, чуть не вплотную придвинувшиеся к воде, – и кажется, что с балкона можно закидывать удочки и ловить рыбу; в улочках и переулочках маленькие, одноэтажные домики в 3–5 оконцев, с палисадничками, цветочками, с неизбежными белыми акациями и тутовыми деревьями, где селится приезжая публика победнее.
Когда бываешь в первый раз в Балаклаве, не хочется верить, что эта синяя гладь воды – не озеро, а бухта, как-то не допускаешь мысли, что в этих крутых, скалистых, окутавших Балаклаву сплошным кольцом горах, есть прорыв, которым можно выйти из тихой бухты в открытое море, через который когда-то могли войти грузные, тяжелые корабли из далекой Англии.
Балаклава – единственный город в Крыму, ни на кого не похожий, свой отделенный мир. Через Балаклаву нельзя проехать, как через Ялту, Алупку, Алушту, и ехать дальше. В нее можно только приехать. Впереди лишь море, а кругом каменные, непроездные громады, – дальше некуда ехать, здесь – конец мира.
Если вы приедете в Балаклаву вечером, когда в Балаклаве – музыка, вы встретите деревянные козлы перед главной улицей-набережной, и если вы желаете достигнуть гостиницы, вы должны слезть с извозчика, деликатно отодвинуть этот балаклавский шлагбаум и скромненько, тихонечко пробираться со своим экипажем через сплошную толпу, наполняющую в этот час балаклавский Невский проспект. И когда вы остановитесь у гостиницы, кругом вас собирается публика, – и та, что сидела на завалинках и щелкала подсолнухи, и та, что торжественно дефилировала по набережной. Публика начинает рассматривать вас и соображать по количеству багажа, приехали ли вы надолго, или вы – шаромыжник, который провертится в городке 2–3 дня, а по качеству ваших чемоданов определяют, откуда вы приехали, из Петербурга или Москвы, или из иных мест, – из Сум, Кременчуга, Ахтырки, Карасубазара. К вам сейчас же подойдет величественная дама-комиссионер и сделает вам обстоятельный доклад об имеющихся комнатах в 40–50 руб. в дачах на набережной и о квартирах и комнатах на верхних узеньких улицах, – о маленьких квартирках и дешевеньких комнатах…
Как-то сразу, удивительно быстро, вы становитесь своим человеком в Балаклаве и входите во всю жизнь ее. Узнаете, кто приехал и куда уехал и кому принадлежат богатые дачи на набережной, кто чем раньше занимался и почему поселился в Балаклаве, какие у кого приятные и неприятные случились семейные истории.
Тихая Балаклава, уютная. И бухта тихая, уютная. Какие бы бешеные сине-зеленые валы ни бились в открытом море об острые ребра утесов, в бухте тихо и спокойно, – разве потемнеет вода, да зыбь избороздит всегда спокойную гладь воды. Венеция…
Нет извозчиков, нет экипажного грохота. Как и в Венеции, роль извозчиков исполняют лодочники. Они весь день толпятся на набережной у своих лодок, а если не окажется лодочника, вы можете командировать любого гречонка в ближайшую кофейню, – лодочник сейчас же явится и повезет вас за 10 коп. на другую сторону бухты, за 25 коп. в час отдаст лодку в ваше распоряжение, а за 40 коп. в час сам повезет вас в открытое море.
Но все, как в хороших домах… Есть и городское самоуправление, хотя и упрощенное, но самоуправление, есть две гостиницы, одна даже в три этажа, а перед гостиницами – «поплавки» – легкие постройки над бухтой, где люди завтракают и обедают, и проводят долгие вечера, когда играет музыка, и засиживаются иногда и после музыки… Есть купальня, есть хорошее ванное заведение, есть театрик, в котором устраиваются спектакли и литературно-музыкальные вечера непереводящимися в летнее время в Балаклаве артистами, литераторами и певцами.
Хорошо в Балаклаве… Утро. Тишина. Земля только что просыпается, а синяя бухта еще спит. И тени ложатся от горы на маленькие домики, на синюю бухту, на противоположную гору. А мы уже проснулись. На всех балконах самовары, белые платья и косоворотки. Прохлада веет с успевшей остыть за ночь горы, и широко и глубоко дышится сильным и нежным, бодрым и сладким утренним воздухом Балаклавы. Все мило и просто кругом. Все видно и слышно в Балаклаве. Я живу в верхней улице, и мне видно все, что делается внизу, подо мною, в других маленьких дачках, – как люди встают и одеваются, как моются и чешутся, и как целуются.
Должно быть, 10 часов утра. В соседней даче петербургская консерваторка начинает свою неизменную арию: «Кто б он был?» Я вижу на балконе белокурую девушку в беленьком платье, она опирается о перила балкона и взывает к озаренным горам, к подернутой белым туманом синей бухте:
– Кто б он был? Кто б он был?
А он уж там, на набережной, слушает и ждет. Глаза у него, как угли, а усы, как копья, и весь он тонкий и жилистый, и страшный в своей черной косоворотке с широким, темным ремнем. И встречает он беленькую, беспомощную, несопротивляющуюся Тамару и замогильным басом, с демонской тоской говорит:
– Я же вас ждал, ждал!.. Вы же казали учера…
Беленькая девушка собирается шагнуть в лодку. Черный демон подхватывает ее за талию и, как перышко, сажает на скамейку.
И они едут без руля и без ветрил из маленькой бухты в открытое море. В золотой туман разгорающегося дня.
Бухта оживляется. Набережная наполняется людьми. Разбираются лодки; по двое, по трое, целыми компаниями, с корзинками, рассаживаются балаклавские гости в лодках и отправляются в открытое море. Чудесная «Слава России» расправляет парус и с большой компанией едет в Георгиевский монастырь. А с противоположного берега отчаливает стройная беленькая яхта, и паруса трепещут, как расправляющиеся крылья, она делает крутой поворот, и бока ее черпают воду, а потом выпрямляется и с надувшимися парусами, как белый лебедь, словно не касаясь воды, плавно скользит по бухте к открытому морю.
Оно широкое и, должно быть, именно после узенькой, запертой горами бухточки, кажется огромным и необъятным. Слепит глаза необъятная даль, сияющая под солнцем, чуть зыблющаяся, переливающаяся красками.
А вдаль моря – горы, лиловые, сползающие к морю зелеными соснами, обрывающиеся в бездонную глубь розовыми утесами…
Лодки разбежались по морю, жмутся к горам. Далеко плывет гордый, белый лебедь в синем море, в сияющей дали горизонта маленькой точкой виднеется парусная лодочка. Я знаю, один из балаклавских любителей моря, каких и нет в других местах Крыма, уплыл ранним утром с бочонком пресной воды в широкое море и, быть может, пробирается в Ялту, в Феодосию, в Керчь…
Не рискующие ехать в даль лодки причаливают к пустынным берегам. Люди купаются и подолгу лежат на горячих камнях, – кожа их давно черная, – и снова бросаются в море, и снова лежат на камнях…
Вечером лодки возвращаются, – и к музыке, что играет на помосте над бухтой. Набережная полна народу. Кажется, все ушли из дома, старые и молодые. Ушли, как были дома, – дамы с непокрытыми головами, в домашних кофточках, в широких капотах, в которых ходят к родным, к близким знакомым, где можно быть без фасонов, где не осудят. И никто не осуждает, все по-домашнему, по-семейному, все мило и уютно.
В толпе необыкновенное оживление, и мальчишка с лукошком не успевает отпускать подсолнухи. Ходит степенная дама-комиссионер и, как полицеймейстер, надзирает, все ли в порядке, все ли устроено, все ли помещены как следует, и так как все помещены и все устроено, – не препятствует общему оживлению. Толпа – южная. Не петербургская, хмурая толпа словно непроспавшихся людей, с сумрачными лицами, со связанными ногами, с монотонной речью, – толпа яркая, цветистая, с ласковыми и теплыми, вибрирующими южными голосами, с жестами, с декламацией и мелодекламацией. И у нее свой, южный язык, не закоченевший на страницах свода законов, не скованный тесными и суровыми нормами грамматики. А свой, вольный, степной, южный язык…
– Я уж и не знаю, кто за кем больше скучает, – томно говорит молоденькая дама своей подруге, – я за ним, или он за мной!
А за ними идет другая пара.
– Какие здесь прекрасные погоды! – мелодекламирует тоненькая девушка.
А над ней наклоняется высокий, перетянутый ремнем в талии юноша и говорит:
– Знаете, я вчера всю ночь просидел в Генуэзской крепости. Ой, ничь була!
Коварная девушка спрашивает с невинным видом:
– С кем?
– Сам[5]5
Один. – Здесь и ниже примеч. С. Елпатьевского.
[Закрыть]… – меланхолично отвечает юноша.
Тут и киевские: «две большие разницы» и «займи мне»[6]6
Вместо: дай мне взаймы.
[Закрыть], и татарские слова «марафет» и «балабан», как свои, уже давно вошедшие в таврический русский язык. Слышны греческие, армянские, еврейские, татарские слова, – и вдруг вырвется из толпы и покроет все другие слова: «Ой, лышечко!»
Все – южане. Из Симферополя, Карасубазара, не дальше Киева и Екатеринослава, Сум, Харькова, Ростова и Кременчуга, – и, кажется, все знают друг друга и, быть может, еще дома уговорились съехаться сюда, в привычное, милое место летнего отдыха. И армяне из Нахичевани и Ростова, и украинцы, и татары из Бахчисарая. Изредка промелькнут в толпе голубые глаза и белокурые северные московские и петербургские лица.
Много евреев. Они приезжают не только из Кременчуга и Киева, но и из дальних польских мест, – в странных костюмах, с необычными для юга манерами. Они приезжают, немножко испуганные, с настороженными лицами, хоронящимися манерами и держатся в стороне, словно боятся, что вот пронесется к ним чей-нибудь грозный окрик, что вот из переулка запустят в них камнем. А потом привыкают и перестают бояться. Никто на них не кричит, никто не собирается устраивать им погром, дружелюбно складываются отношения с местными греками и с сборной балаклавской публикой. И седовласые, с огромными бородами, скульптурные, как Моисей Микель-Анджело, Авраамы ходят по набережной, заложивши руки за спину, со своими Саррами и своими внучатами. А молодежь плавает в лодках, берет солнечные ванны на прибрежных камнях, сидит по ночам на Генуэзской крепости.
С помоста над бухтой несутся нежные и сладкие малороссийские песни и грустные еврейские мотивы. Тогда тихо на набережной, – и все слушает: и люди, и темные горы, и почерневшая, как вороненая сталь, бухта с дрожащими и колеблющимися в ней огнями прибрежных домов. Слушают неподвижные лодки, там, далеко, в середине бухты, откуда так хорошо слушать балаклавскую музыку, когда звуки доходят по воде особенно нежными и томными.
Кончается музыка, старики уходят по домам, а молодежь не расходится. Должно быть, она разнежена кроткой ночью, сладкими и грустными звуками, тихими всплесками прибрежной волны, и не хочется ей спать, уходить к душным комнатам, к скучным постелям, и идет она на скалу Генуэзской крепости.
Огромным шаром поднимается из-за гор луна и снимает темные одежды с высоких гор, угрюмых утесов и одевает их белыми ризами, узорчатыми тенями. Все сияет кругом, – и небо, и воздух, и цепь далеких утесов, – сияет белым и грустным сиянием. Светится море, и переливающаяся белыми огнями серебряная дорога стелется в бесконечную даль, которая кажется еще шире и беспредельнее, чем днем. Прямо подо мной, у обрыва утеса едет лодка, и сбегают с весел сияющие белые капли; я вижу, как маленькая рука черпает горстями воду и сыплются между пальцами светлые, как серебро, капли, и сияющий, светлый путь долго стелется за лодкой в темной бухте, еще не озаренной лунным сиянием.
Узенькая площадка над обрывом полна людьми. Сидят на лавочках, сидят на земле, на выступающих камнях, говорят тихими, пониженными голосами, обмениваются короткими фразами. А выше, под самой стеной старой Генуэзской крепости, между еще не остывшими камнями сидят пары и одиночки, юноши и девушки, и, не отрываясь, смотрят в сияющую, безбрежную даль и слушают глухой рокот сонной волны у прибрежного утеса.
Кроме приезжих, есть и местные жители. Прежде всего, греки. И потом греки, и опять греки… Если исключить пришлых домовладельцев набережной, то остальные люди – русские, малороссы – тонут в общей массе коренного греческого населения. Можно даже сказать, что Балаклава есть истинная столица русской Греции, и сколько бы ни хвастались аутские греки из Ялты древностью своего поселения и огромным количеством земель, которыми когда-то владели они, все-таки настоящий греческий центр – Балаклава.
Там есть, так сказать, мирные греки, занимающиеся хлебопашеством, табаками, виноградниками, огородами, возделывающие гостиницы, кофейни и мелочные лавки, чем, по их заявлению, занимались они до переселения в своей родной стране. Но их малая часть, и не они окрашивают балаклавскую жизнь, – главная масса, так сказать, военные люди, воюющие с морем или на море, чем занимались они до переселения в Россию, все рыбаки, а злые языки говорят, все капитаны, – капитаны пиратских судов, – почему, дескать, многие и фамилию носят Капитанаки.
Теперь они не пиратствуют. Море – их земля, их пашни и луга, и виноградники, и сады, и промышленность. И жизнь их и душа их там, в море или около моря. Он так же, настоящий балаклавский грек, знает море, так же изучил повадки его, манеры, капризы, как крестьянин свою землю. И если дотошный мужик хвастается, что он «на три аршина сквозь землю видит», а наиболее чуткие слышат, как трава растет, то старый балаклавский грек-рыбак говорит: «Я сплю, а знаю, что она (рыба) в Керчи думает».
Летом мало ловится рыбы в Балаклаве, и хотя вся бухта и ближнее море на всю глубину перекрыты уловляющими сетями, но улова хватает только на прокормление себя, приезжих людей и на работу консервного завода, посылающего балаклавскую рыбу во все концы России. Должно быть, рыба в Керчи тоже знает, что думает и злоумышляет против нее балаклавский рыбак, и по мере возможности, пока Бог грехам терпит, проживает в Керчи и других местах, не заглядывая в Балаклаву. Поэтому в летнее время балаклавцы свободны, уловляют приезжего человека, и их лодки разгуливают по Черному морю с самыми мирными намерениями.
Балаклавские люди не очень беспокоятся, – они знают, что придет осень, погонят из Батума и из Керчи стада дельфинов и поднявшиеся из глубины белуги мелкую камсу[7]7
Черноморские сардинки.
[Закрыть], кефаль и скумбрию, – погонят вдоль всего Южного берега, как гонят волки стадо овец, и пригонят непременно в балаклавскую бухту, так как на всем протяжении Южного берега от Керчи нет ни одной укромной бухты, ни одного загона, куда бы могли укрыться овцы-рыбы, и куда бы не осмелились залезть волки-рыбы…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































