Текст книги "День Ангела"
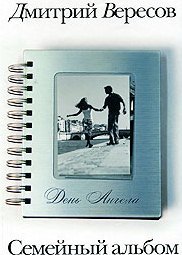
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
А по пути на скромном Итальянском мостике через канал Грибоедова («Екатерининский, – сказал Яша, – Екатерининский канал!») он снова замер, затоптался, закрутил головой и завел про Спас-на-Крови, что в ближней перспективе по левую руку, оглавлённый кручеными эмалевыми и золотыми луковками под кружевными крестами; про Казанский собор, распахнувший колоннаду, словно имперские объятия, что в дальней перспективе по правую руку на Невском; про зингеровский дом со стеклянным глобусом на крыше, где Дом книги… Про корпус Бенуа, который вот он, желтый с белым; про Малый театр, который тоже желтый с белым и не с фасада виден, а сбоку, с Итальянской, а фасадом выходит на площадь Искусств, а там… а дальше…
«Ну и ну, – удивлялась Аня. – А я-то ему зачем?» «Я правильно говорю, Анечка?» – спрашивал Яша. Она кивала молча и улыбчиво и делала вывод, что нужна она ему лишь затем, чтобы подтверждать его правоту, и щурилась, подняв лицо, в бледную сентябрьскую синь.
– А теперь, Анечка, если ты не против, – в Русский музей, в отдел древнерусской живописи. К иконам. К иконам! Там ведь и Рублев, и Дионисий, и Симон Ушаков. Но последнего я не очень-то люблю. Аввакум правильно сказал, что лики у него «одутловатые». Ну да, одутловатые, если сравнивать с традиционной иконой, что писалась до семнадцатого века. Прямая перспектива, что поделаешь, такое новшество соблазнительное. Ушаков-то перенимал письмо у западных мастеров, а там уж конец эпохи Возрождения близился, освоили все, что только можно освоить в живописной технике, и уже подбирались ко всяческим кунштюкам, к вывертам, к мрачным, большей частью барочным аллегориям…
– Яша… – робко пыталась вставить Аня, пыталась спросить, откуда такая эрудированность, но он увлекся, не слышал и вертелся, пытаясь обозреть все сразу: и желто-черный осенний сквер посреди площади, и черного Пушкина в сквере на высоком постаменте, и перспективу Итальянской, и шпиль Михайловского замка, и Думу, торчавшую над Невским, со старинным телеграфным приспособлением на крыше… и пылал румянцем, и сыпал звезды из глаз.
А перед иконами он затих и долго стоял перед каждой, читая ее глазами, мысленно беседуя, поклоняясь, веруя, надеясь и любя. Аня не испытывала такого тихого экстаза и, разглядев икону в деталях, которые ей не так уж много говорили, молча стояла рядом, немножко вертела головою, а когда становилось скучновато, начинала бросать короткие взгляды на Яшу, переминаться и тихонько сопеть, вдыхая запах музейной мастики, лака, благородной пыли времен. Тогда Яша, вздохнув, прощаясь, перебирался к следующей доске и замирал перед нею.
– Сюда нужно каждый день ходить, в гости к каждой иконе по очереди. Жаль, невозможно, – сказал Яша. – Давай тут посидим немного. Ты устала?
– Да нет, с чего бы? – ответила выносливая Аня. Она присела на белолапую музейную банкетку, огляделась и заметила вдруг: – Столько красного! Я никогда не замечала, что его столько. То есть знала, на это же всегда указывают в книжках, но не проникалась до сих пор, знаешь ли. Вот только теперь вдруг… А у нас сейчас, в наше время, красный – что? Кровь, революция там, красное знамя труда. Или мода дурацкая, когда все в красных куртках. И целый век, целый век так. Все переиначено, оболгано, бездарно адаптировано не знаю для каких бездарей, и, по-моему, мы красный цвет просто перестали видеть. Духовный дальтонизм, а? А здесь… Ой-ой-ой!
– Здесь – ой-ой-ой, – согласно кивнул Яша. – Здесь недоступная повседневности радость, божественный свет, огонь. Мне, невежде, кажется, что не обошлось без изначального огнепоклонства, которое в нас живо и жить будет. Вот Иоанн Дамаскин что-то такое говорил об огне: «Огонь есть одна из четырех стихий, и легкая, и более остальных несущаяся вверх, и жгучая вместе, и освещающая, созданная Творцом в первый день». А еще есть Неопалимая Купина – это ведь Богоматерь, а Богоматерь – это и жизнь, и спасение. Но красный цвет в иконах тоже бывает и смерть, и кровь, но все через приятие.
– Не в, а на иконах, Яша, – поправила шибко грамотная Аня. Надо же было ей, слушавшей открыв рот, тоже чем-то отличиться.
– Я специально сказал в. Мне больше нравится в, – терпеливо объяснил Яша. – Икона – это окно, через которое не мы смотрим, а смотрят на нас или являют нам что-то в этом окне, приобщают таинств… Там своя событийность, в том мире. Там все взаправду происходит.
– Происходит и смерть, и кровь… – задумалась Аня. – Но как ты сказал? Через приятие? То есть…
– То есть все, конечно, драматично, но без трагедии. Трагедию мы сами выдумываем. А там… Горение духа. А смерть, кровь?.. Трагедии нет, потому что пролитая кровь не пропадает втуне. Да хотя бы и киноварью обращается, этой самой красной краской… – улыбнулся Яша и почесал ухо. – Иконописцы ее черпают (им дано) и щедрой рукою… скажем, выкрашивают плащ святого Георгия. Или ту самую пещь – геенну огненную, роковое местечко.
– Яков, мы с тобой сейчас договоримся до не знаю чего, – тихо засмеялась Аня. – Ты мне сам сейчас будешь видеться в обратной перспективе.
– О, это высокая честь – так видеться! Не всякому позволено, а только вот им, – обратил лицо к иконам Яша. – И кстати, еще о красном. Он же разный, видишь? Великое множество оттенков.
– Ну да, и это не только на иконах, – обрадовалась, что может блеснуть познаниями, Аня. – Есть темный, багряный, траурный, как багряные ризы в Великий пост. А на Пасху священники надевают ярко-красные одежды.
– Я не знал, – сказал Яша к полному удовольствию сумевшей отличиться Ани. – А кстати, о посте… Как-то он затянулся, по-моему? Я есть хочу. А ты?
– Угу, – призналась Аня, которая предпочла сегодня утренний сон в ущерб завтраку. Одним словом, проспала и понеслась на встречу с Яшей натощак и чуть не опоздала.
– Тогда позвольте, мадемуазель, пригласить вас позавтракать. Я слышал, есть здесь неподалеку злачное местечко под поэтическим названием «Бродячая собака». Вдруг там обитают чьи-то духи? Вкушают винные пары, неосязаемо целуют красивых девушек, витийствуют безмолвно, и трепетные стихи рождаются в пламени свечей… Там, Аня, свечи есть?
– Вот не знаю, не пришлось побывать. Вряд ли среди бела дня… Да и духи прошлого тоже вряд ли бесчинствуют. Это же совсем другая «Собака», старая безвозвратно околела.
– Проверим, – решительно кивнул Яша. – Я бы заказал мясное ассорти, если ты не возражаешь. Кого как, а меня духовное горение истощает, и я делаюсь грешен, плотояден и прожорлив.
Аня не имела ничего против мясной закуски, но быстро насытилась и закурила, затянувшись всласть, расслабленно, а не судорожно и невкусно, как чаще всего бывало в последнее время. А Яша все ел, неторопливо и аккуратно выбирая багряные кусочки колбаски, аппетитно розовые ломтики буженины и ветчинки, нежно просвечивающие лепестки бекона в темных прожилках, и тихо постанывал над каждым кусочком, сначала любуясь мгновение, потом пробуя, глотая, запивая красным вином.
– Яша, – решилась спросить долго наблюдавшая за ним Аня, – ты, конечно, извини, но, по слухам, евреи-то свининку не едят…
– Ерунда, – ответил Яша. – Едят. Трескают. Если только не ортодоксы, которых, кстати, недолюбливают. И, во-вторых, при чем тут я?
– Ну так ты вроде бы по матери?..
– И совсем ерунда, – пожал плечами Яша, наверчивая на вилку длинный кусок бекона. – Матушка моя, Ее Великолепие, чистокровная хохлушка. Ее же в роддоме мамаша бросила, а фамилия природной матушки была Гарбузенко. А бабушка Фрида с дедушкой Йосей, ныне покойным, ее удочерили, и стала она Полубоевой Оксаной Иосифовной. Поэтому еврей я только по гражданству. Ну и что?
– Ну и ну. Как интересно. Я не знала, никто мне не объяснял, – оправдывалась Аня. – А в Израиле хорошо?
– Хорошо, – кивнул Яша. – Матушка процветает и благоденствует, вся в сиянии славы. А нам с отцом, если честно, не всегда уютно. Ну, я-то там вырос, а он… Душновато ему, слишком много морской соли, слишком много пряностей, слишком мало свежей зелени, слишком здоровый климат, не та вода, не та земля, ни снега, ни мороза и петербургской прославленной слякоти и сезонной простуды… Он сильно тоскует временами, но скрывает от матушки это шило в мешке.
– Тяжело, наверное, – посочувствовала Аня.
– Да. К тому же матушка его поссорила с родителями, как я понимаю. Она не жалует папину родню. А результат? Мы с тобой, кузина, толком первый раз, можно сказать, видимся.
– Да, ты ведь в сознательном возрасте ни разу не приезжал в Питер?
– Ни разу, – подтвердил Яша, сворачивая салфетку.
– А откуда, позволь спросить, у тебя такие познания по истории, искусству, географии города? Откуда ты все это знаешь?
– Петербург? Отец рассказывал, а я влюбился в город. И стал изучать. Есть ведь Интернет, альбомы, карты, справочники. Все как-то само ложилось на память, как поэма. Я заочно почувствовал Питер, и вот чувство такое, что не в первый раз приехал, а вернулся сюда, как домой. Мне кажется, я не смогу здесь заблудиться, даже если очень постараюсь. Хочешь, я тебе еще покажу его?
– Ну да, – загорелась Аня, – хочу, конечно.
Ей было и вправду любопытно, не заблудится ли Яша.
И они отправились бродить по набережным, где по-особому, по-осеннему потемнела и посвежела в гранитных руслах тихая вода, усыпанная тусклым кленовым золотом. Отправились бродить по глухой асфальтовой аскезе, по гулким, почти безлюдным ущельям, не оживленным ни деревьями, ни травой, что не смела пробиваться даже сквозь щели на асфальте. Выходили на облетающие бульвары, шуршали в парках по подсохшей мертвечине листвы, обильной и великолепной, как Византия в преддверии заката своего. Пугали голубей в длинных дворах, сворачивали наугад, огибали небогатые и безалаберные клумбы, снова выходили на набережные и надолго останавливались на мостиках, читая письмена светлой водной ряби, когда вздыхал ветер. И забыли, когда было утро, может быть, год назад или вечность.
И было немножко больно. Яше – от того, что он не с Таней, своим добрым грачиком. А Ане – от того, что помнила: ее никто не поцелует на пороге, приведя домой, и она остывала, вспоминая о своем одиноком ныне бытии.
* * *
– О, мы лечим всех, даже тех, от кого отказались на других отделениях, – мерзко гундосил Феликс Борисович и задирал верхнюю губу. Вероятно, для того, чтобы подпереть ею кончик носа и открыть таким образом доступ воздуха к ноздрям. – Эта замечательная кровать-массажер… – разорялся он, но прервал вдруг рекламный текст, налился дурной кровью и завыл на повышенных тонах: – Тебе пора бы знать, Вячеслав Сергеевич: если видишь, что я занят, то и обращаться ко мне не следует. Я не могу себе позволить делать два дела одновременно. Что, я не понимаю, что за срочность такая? У нас, слава богу, не реанимация уже! – Эта раздраженная тирада адресована была человеку вида невзрачного и затурканного, в старом халате с плохо застиранными пятнами, дурно стриженному и с повадкой приблудной собачонки, который попытался робко что-то выяснить у заведующего отделением.
– П-прошу п-прощения, – покраснел Вячеслав Сергеевич и развернулся униженно в попытке удалиться.
Были бы здесь кусты, он бы шмыгнул в них, лишь бы прочь с глаз, подумал Вадим Михайлович. А потом вдруг встрепенулся, потому что проскочил у него в голове разряд узнавания: студенческий пикничок по весне в Белоострове на тесном пляжике омутистой реки Сестры, дымящаяся зола костерка, полная картошки, «Столичная» в тенечке, большая банка крупной серой соли, «Отдельная» колбаса, хлеб толстыми ломтями, донья Инес, сама весна, сама любовь, в старых джинсах и в длинном грубом свитере, свежа, будто подснежник, с гитарой на коленях… Сенька Шульман, дурак дураком, не может с бутылки «бескозырку» толком содрать, весь изрезался… И Славка с замызганной, потертой, облупленной, сиплой своей гармошкой, дурашливой, развеселой и бесшабашной, как и сам Славка, самый популярный мальчик на курсе.
– Славка! – позвал Вадим. – Славка, черт!
– А? – в недоумении обернулся Славка и вылупился на Вадима совсем прежними круглыми глазками с короткими, как у черта, ресничками. – Вадька? – с трудом определил он и переспросил недоверчиво: – Ты или не ты?
– Я, не сомневайся даже, – уверил Вадим и кивнул перекошенному заведующему отделением: – Я все, в общем, понял, Феликс Борисович. И про кровать эту, и про то, как работает вверенное вам отделение. Я вот старого друга встретил, Феликс Борисович. Целый век не виделись. Позвольте, я с ним побеседую.
И Вадим вышел к поджидавшему его Славке, а Феликс Борисович, оставшийся за дверью, краснел, гримасничал и пускал злые фонтаны. Оч-чень ему не нравилась предстоящая конфиденция, эта самая встреча старых друзей. Оч-чень! Вячеславу Сергеевичу-то, как он ни пытался прогибаться перед начальством ради жалованья, прогибание это толком никогда не удавалось, и был он из спонтанно фрондирующих, то есть интриг-то не плел, но все делал как-то поперек, неловко и не в масть. То есть поступал так, как все честные люди поступают, которые не ведают того, что они честные. И извинялся Вячеслав Сергеевич все время и постоянно, когда надо и не надо, такое недоразумение ходячее.
А Славка, после окончательной взаимной идентификации с тряскими полуобъятиями и восторженным пиханьем друг друга кулаком в грудь, Славка привел Вадима в пустой рентгеновский кабинет, уставленный всякими страшненькими штуками, до тошноты знакомыми Вадиму. Славка изнутри завертел штурвал сейфового дверного замка, а потом полез в шкафчик и достал коробку, а из коробки – укупоренную колбу и поставил ее на металлический стол, весь на шарнирах.
– Как думаешь, это что? – торжественно спросил он Вадима.
– И думать нечего, – ответил тот. – Разливай, Славка.
– Сечешь, – обрадовался Славка и достал из той же коробки мензурки, кажется не мытые. Ну да ведь спирт же, ешкин кот! Продезинфицируется. А из закуски была одна вода из-под крана.
Они опрокинули за встречу по мензурочке, погудели приязненно вразнобой, вспоминая, опрокинули еще, продышались сквозь слезы – спирт забирал, забирал! Не то что нынешняя водка – вода, а не водка, пресная, как слеза ангела, или сладковатая, как райская роса. Вадим крякнул, мотнул головой, звякнул мензуркой о зеркальное железо стола, с отвычки передернул плечами и спросил:
– Слушай, Славка, а здешний директор – наш Сенька Шульман или какой другой? Не верится, что наш.
– Ну и зря не верится. Наш, – скривившись, ответил Славка. – Просто позор джунглям!
– Надо же. Наш. А ведь на курсе был последним раздолбаем! Стетоскоп чуть ли не тем концом приставлял, печень-селезень путал! Надо же. Главврачом в престижной клинике наш-то Шульман… Доктор наук, и метод у него свой. Как ты сказал? Позор джунглям? А почему вообще? Так плохо в Датском королевстве?
– Ой, да не спрашивай, – досадливо поморщился Славка. – Шульман… Чтоб его приподняло да бросило… Шулер он, Вадька, а не Шульман. Шулер! Лохотронщик. Такие дела, Вадька. Будь здоров.
– И ты будь, Славка. А почему Сенька шулер? Я тут отчеты читал: его метод дает отличные, прямо фантастические результаты. Все вранье, что ли, Славка? Нет, если вранье наполовину, так уже неплохо, уже метод…
– «Метод». Ты думаешь, метод? А я завистник? – горько покачал носом Славка и сказал початой колбе: – Нет у него никакого метода. Вернее, есть, и называется этот метод «лохотрон».
– Объясни, Славка, – слегка заплетающимся языком потребовал Вадим у той же колбы.
– А изволь, – взялся объяснять Славка колбе. – Все гениально просто. У нас же тут заведение коммерческое теперь стало. Понакупили всякой дребедени, ширпотреба всякого красивенького. Про кровать-массажер слышал уже, а?
– Неоднократно, – усмехнулся Вадим. – Похоже, тут в каждом отделении своя Кровать с большой буквы?
– Ну! И не только кровать. Вот тебе, слушай про метод Шульмана, Семена Аркадьевича. Метод и правда прост. Обращается к нам, скажем, человек, больной там или придумавший себе, что он болен, ну, знаешь сам, всякое человеку может показаться на почве стресса, а теперешняя рекламная популяризация всяких там чудо-препаратов способна и непрошибаемого толстокожего бугая довести до симптомов мастопатии или там пресловутой родовой горячки. Словом, является, болезный, к нам, прямо в пасть Ваалу, сказал бы я, забегая вперед. Назначают ему, болезному, обследование. О-го-го, какое обследование! Этапы большого пути. Томография, мониторинг, рентген, магнитный резонанс, иридодиагностика уж совсем не знаю зачем, бред какой-то, анализы – один, другой, третий, десятый… А кровь, мочу у нас анализируют на импортных приборчиках, якобы точнейших и способных самостоятельно ставить диагноз. А у этих импортных приборчиков засело в их дурацких электронных мозгах что-то среднестатистическое, и выдают они то, что им больше нравится. И получается, что больной практически здоров, но скорее мертв, чем жив. Чушь, короче говоря. Ну, это к слову. Я к тому, что ты должен понимать, сколько вся эта фигня стоит. И пока все это пройдешь, точно больным сделаешься.
Ну вот. Попадаются, конечно, и серьезные больные, и нормальный диагност таких больных просчитает и без всей этой канители. Так вот, таких лечить не берутся (кроме меня, дурака; так меня Феликс, чувствую, и погонит скоро поганой метлой). Не берутся, я говорю, а рекомендуют отправиться за рубеж туда-то и туда-то и лечиться там. Вернее, помирать чаще всего. То есть ты, Вадька, понимаешь, к чему я? Ответственность мы с себя снимаем, и летальных исходов практически ноль процентов. А тех, кто полегче или, господи прости, практически здоров, лечим, блин, сами! По уникальному методу Эс. А. Шульмана, заразы такого!
Славка тяпнул еще спирту и продолжил, утеревшись и занюхав рукавом, пропахшим дезинфекцией:
– Делаем назначения: десять – двадцать сеансов на закупленных аппаратиках, приятно пациенту и безопасно (а такие сеансы в хорошей бане на тех же самых аппаратиках стоят раза в три-четыре дешевле!) – плюс обычная несложная и эффективная терапия, инъекции там, капельницы, таблеточки, родная физиотерапия, кварц там, УВЧ, электрофорез… И больной, ежу понятно, излечивается, хвала Шульману! При этом куча приятно шуршащей зелени сыплется Шульману в карман. Вот так и никак иначе. Метод? Метод. Метод выкачивания денег, хм, относительно честный, как ты понимаешь. Никто же насильно в наш рай не тянет…
– Дела, – покачал головой Вадим, внимательно слушавший.
– Дела, – согласился Славка, снова уставившийся на колбу. – Сеня наш, между прочим, особенно любит голову лечить. Что там делается у нас в голове, и в «бехтеревке» не знают, доки. Одни предположения, если всякие там умные слова отбросить, почему у одних есть мигрень, а у других нет. То есть когда по голове треснули или когда опухоль, то понятно, почему голова болит. И то не факт. А в остальных случаях? Темный лес. А Сеня наш сердешный опухоли прямо обожает, само собой, мифические. У меня этих псевдоопухолей целая коллекция, фотоальбом. Целое досье на Семена Аркадьевича Шульмана, шикарный компроматец-с. Авось кто-нибудь когда-нибудь разоблачит метод доктора Шульмана.
– Славка, а ты сам? – спросил Вадим. – Слабо, что ли?
– Ну… Да, да. Да, слабо, Вадим, – потер переносицу Славка и глаза опустил в пустую мензурку. – Я боец стал никакой, после того как женился и детей завел. А у Сени нашего везде мохнатые лапы…И, в общем-то, он меня пригрел, когда мы с Машкой разве что с голоду не пропадали.
– Это с какой Машкой? Реутовой? Поженились, что ли? – слегка оживился Вадим.
– Поженились в конце концов. И у нас двое почти взрослых детей. А у современных почти взрослых детей потребности анормальные. И не говори мне о воспитании, все на генном уровне, как и эта их акселерация на нашу голову. Им всего и всегда мало, даже если через край. Вот какие дети пошли. Зачем, например, скажи, человеку два мобильника? Мне так и одного много, потому что эти трезвонят и опять чего-то просят, а чаще всего денег… Ох-х, Вадька!.. Так хочешь, покажу коллекцию мозгов?
– Давай, – сказал Вадим. Ему было любопытно. Он ведь и сам несколько тягостных лет проработал рентгенологом, а также стал за прошедшие годы неплохим врачом и снимки читать умел очень хорошо.
Славка приподнялся и, не очень твердо держась на ногах, проследовал к встроенному несгораемому шкафчику с желтым треугольником, обведенным траурной каймой и с черным трехлепестковым пропеллером на желтом фоне. Что, как известно, является знаком, указующим на повышенный радиационный фон.
– Не переживай, – сказал Славка через плечо, – картинка нужна, чтоб не лезли кому не надо. – Он открыл дверцу сложным цилиндрическим ключом, который вытащил из кармана, и достал из шкафчика толстую пачку конвертов из серой плотной бумаги, почти картона. – Полюбуйся, – велел Вадиму Славка. – Что скажешь, доктор Михельсон?
– М-да, – сказал Вадим, поочередно вынимая и изучая снимки на просвет специальной яркой лампы. – М-да, – сказал он, не обнаруживая никаких, во всяком случае сколько-нибудь серьезных, патологий. Мозги были как мозги, вполне ординарные. – М-да, – сказал он в третий раз, прочитав заключение с жутким диагнозом, который картинка ну никак не оправдывала. – М… – начал он в четвертый раз и… окаменел, в холодное изваяние превратился, в надгробие, прочитав имя пациента: «Лунин Михаил Александрович».
Лунин Михаил Александрович, восемьдесят два года.
Хмеля как не бывало.
* * *
Никитушка, обретя почву под дрожащими ноженьками, рванул куда глаза глядят, лишь бы подальше от приключений. Очнулся он лишь в Таврическом саду, там замедлил свой резвый и бездумный бег, потом остановился, почувствовав боль в ноге. И захромал по дорожке в поисках свободной скамейки, или пенька, или поваленного дерева, чтобы присесть и отдышаться, оглядеться, расправить душеньку, которая, потрясенная Никитушкиными подвигами на крыше, свернулась внутри комом, будто свитер в шкафу, и запуталась сама в себе.
Никита прохромал вдоль черного тинистого, усыпанного листвой пруда, мимо пологого зеленого пригорка, а потом побрел по дальней тропинке между забором и длинным узким заливчиком, перешел через деревянный мосток, а пустой скамейки так и не обнаружил, что неудивительно в разгар распогодившегося выходного дня. Наконец добрел до гигантской раковины летнего театра и только там нашел местечко на краю длинной скамьи и притулился боком, спиной к прочим желающим дать отдых ногам. И задышал наконец.
Он, оказывается, не дышал с тех пор, как выбрался на крышу, и, как еще жив, непонятно. Сначала дышать не очень-то и получалось, воздух не проходил дальше пищевода, застревал там и с сипом рвался обратно. Но Никитушка был упрям и, упражняясь, развернул грудь аккордеоном, набрал воздуху и прополоскал им легкие, перетерпел резь в солнечном сплетении, а потом сдулся, как воздушный шар. Потом попривык, втянулся в процесс и почти ожил, возродился. Только мозги еще были набекрень от свежести впечатлений.
Никита отсиживался в Таврическом саду часа полтора, учился дышать и расслаблял сведенные до боли мышцы. Потом побродил по улицам, испытывая ногу и уходя все дальше и дальше от роковой Седьмой Советской, делал остановки в сквериках, сидел, пока не ошалевал от детского визга и писка и от дребедени перебивчивых разговоров молодых мамаш. В транспорт не садился. Перспектива ехать в транспорте вызывала у него панические ощущения, а трамваи и автобусы своей целеустремленностью и напористостью напоминали скакавших за ним по крышам ментов, или омоновцев, или кто они там на самом деле.
Он прогулял целый день, пока под вечер, в конце концов, не оказался на Петроградской стороне, близ Петропавловки, там, у протоки, где не далее как вчера (вчера, что ли, сегодня или год назад?) хоронил чужую собаку под моросящим дождем и мечтал о пиве с гамбургером. Где было пустынно и серо, и только на мосту перед распахнутыми крепостными воротами мыкалась ненормальная девчонка с шикарной фотокамерой.
Никита побрел дальше исхоженными тропинками Александровского сада, побрел мимо замершего под вечер городка аттракционов, где в качелях-каруселях, казалось, плескались еще дневной визг и гвалт и хриплая музыка, побрел мимо закрытого уже на ночь зоопарка, где устраивались на отдых после дневной работы истомившиеся гады и бестии. Махнул через оградку и перешел трамвайные пути к Зверинской. И побрел по ней, потому что память у него отшибло. А когда вспомнил, споткнулся, и стало так плохо, что захотелось… есть, жрать, рвать зубами, запихивать в себя куски, заливать их пивом и чем ни попадя, утрамбовывать и снова жрать. И ни о чем не думать.
Впрочем, погорячился Никитушка. Ему вполне хватило трех бутербродов с вялой ветчиной и подсохшим сыром и кружки пива. И больше не полезло. Он вспомнил, что Дэн обещал приютить его на ночь, и попросил до странности апатичного бармена из кавказцев подвинуть ему телефон. Мало ли что изменилось в семейной жизни Дэна? Вдруг уже нельзя у него ночевать? Вдруг супруга Дэнова устроила очередной переворот и захотела тихого семейного счастья?
Если у Дэна переворот, то придется присоединяться вон к той пестрой компании, что буйно тусовалась в углу заведения под названием «Башня царицы Тамары», располагавшегося, вопреки названию, в полуподвале. Компания, похоже, не являлась строго замкнутой, признающей лишь своих, этаким тайным орденом, враждебно настроенным по отношению к внешнему миру, поэтому стать своим в ней ничего почти и не стоило. А Никитушка умел за пять минут становиться своим в любой компании, ежели ему того желалось. И компания эта, если мы что-нибудь понимаем в компаниях, рассуждал Никита, не станет расходиться на ночь. Но ночевать-то, бдеть-то они где-то будут, не на улице же, а, скорее всего, на чьей-нибудь съемной хате или в общаге. И его с собой возьмут, не дадут пропасть, это точно. И дурной травой угостят, это точно. Нам это надо? Не особенно-то. Поэтому компания только на крайний случай, если у Дэна переворот.
Ну так набираем номер? И ведь не переорать этих засранцев. И Никита, затыкая пальцем ухо, проорал в трубку: «Дэн, так я у тебя все еще ночую?» «Не ори мне в ухо, – отчетливо сказал Дэн, – почему „все еще“? Договорились, кажется». «А Людмила?..» «Укрощена, – ответил Дэн, – и тебя она любит больше прочих ночевальщиков. Ты, по крайней мере, чистых пододеяльников не требуешь и посуду моешь». «Всю перемою!» – заорал Никита, который мыл посуду только в чужих домах, но никак не у себя, и это был один из постоянных поводов, приводящих к очередному конфликту в их с Аней совместной жизни. Поводов, а что касается причин, то…
Но кто же причин доискивается? Только те, кто девушкам не нравится.
Никита расплатился и вышел из «Башни царицы Тамары», где просидел не менее часа – тянул время.
Бар, который покинул Никита, притулился на темноватых задворках. Светили только дворовые окна усталым, обреченным предпонедельничным светом, да одинокий фонарь покачивался на проводах, да немощно, из последних сил, мигала, теряла буквы и потрескивала на плохо зажатых контактах тонкотрубчатая неоновая вывеска бара. Темный, почти облетевший кустарник подступал кошмаром, наводил тоску беспорядочным переплетением ветвей, настораживал своей ночной бесконечностью. В черном небе проклюнулись редкие звезды и с холодным любопытством следили за дракой, происходящей на той самой дорожке, по которой Никита надеялся выбраться на проспект.
Драка не драка, а злая возня. Дерутся – это когда друг другу наподдают, а когда четверо на одного, это уже не драка, а избиение. И, судя по популярным эпитетам, разносившимся окрест, избиение человека нерусского, черной масти, то есть избиение в некотором роде идейное.
– Межэтнический конфликт, – пробурчал Никита себе под нос и собрался свернуть в сторонку, обойти «горячую точку» по кустам, потому что, ей-же-ей, хватит с него на сегодня боевика. Не убьют там никого, лупят зло, но неумело, да и не успеют убить, потому что вон в окошке, отодвинув занавеску, стоит мужик с телефоном и наверняка вызванивает бригаду.
Никакой охоты влезать в чужие разборки у Никитушки не было, Никитушка был человек мирный, кроткий и членовредительства не любил. Но свалка вдруг выкатилась и замельтешила прямо перед ним. Забликовали в неверном свете шишковатые бритые головы, сквернословие фонтаном поднялось до небес, ноги и кулаки били в мягкое, поверженное, закрывавшее руками голову. Кто-то из бритых споткнулся в кровожадном раже, черной кожаной спиной налетел на Никиту и оказался мелочью пузатой, злобным комаром, исчадием какого-нибудь там сантехнического училища, не более того. Мелочь, недоросток, прыщавая дрянь. И остальные, похоже, такие же.
– А ну вали с дор-р-роги! – оскалился бритый на Никиту. – В-в-ва-ли, пока цел! – истерил малолетка, драл горло чуть не в экстазе, и несло у него из мокрогубой пасти как из бродильной камеры пивзавода, вот ведь мразь какая. – Вали, пока фарш из тебя не сделали, ка-азли-на! – надрывался бритый и на диком взводе закатывал зенки, брызгал слюной сквозь серые кариесные зубы, дергался как припадочный и в полуприседе коротко совал кулаком в воздух.
– Отвали, гопша, – отчетливо, холодно и с королевской надменностью сказал Никита, – отвали в сторону, козявка. Брысь, брысь, сказано! Смотри, за уши оттаскаю, стервец.
А стервец, казалось, только и ждал такого смелого. Губы его сжались, завернулись внутрь рта, глаза вылупились и съехали на сторону, и в лицо Никите полетел костлявый кулак в самодельном кастете. Видел Никитушка такие кастеты. От них больнее кулаку, на который они надеваются, а жертве – не очень, всяко терпимо. Увернуться от сего выпада никакого труда не составляло, достаточно было лишь, не особо и поспешая, развернуться боком. Никита и развернулся, и перехватил дерзкую ручонку, вывернул, подсек урода ногой, слегка поддал коленкой и отправил его, невнятно, но громко матерящегося на ноте си и в надрывной минорной тональности, в давешние кусты бритой башкой вперед, то-то расцарапается.
Трое прочих, что пинали свернувшееся клубком тело, вероятно, имели какое-то понятие о взаимовыручке, потому что оставили свою жертву и ринулись вперед, в явном желании навредить Никитушке, нанести урон и пустить кровь. Ринулись столь стремительно, что Никита пропустил удар ногой по бедру, не столь болезненный, сколь обидный. Обидный, потому что джинсы его, любимые и многострадальные, стали еще грязнее.
– Ах ты, сволочь малолетняя! – возмутился Никита. – Это же мой «Вранглер»! Это тебе не на турецкой барахолке куплено!
В священном, праведном гневе Никитушка со всей мочи двинул неосмотрительного агрессора в плечо, и тот, коротко тявкнув, отлетел в объятия к дружку. Удар оказался столь силен, что оба-два, не удержавшись на ногах, опрокинулись на капот припаркованного прямо на газоне «Фольксвагена», который зеленым огоньком честно предупреждал о том, что громко завоет, если применить к нему физическое воздействие. Он и завыл и взвизгнул, когда вслед за поверженной парочкой к нему на капот низверглась еще одна жертва Никитушкиного праведного гнева.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































