Читать книгу "День Ангела"
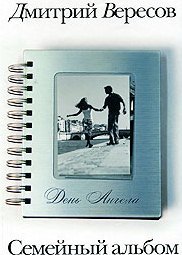
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
И с этой, чтоб ее, убийственной дождливой пятницей конца сентября две тысячи пятого года надо было как-то развязываться, понимал Никита, иначе растянется она, пятница, на всю жизнь. Надо было вскипятить и испарить ее, бесконечную эту пятницу, и начать жизнь сначала, пусть даже в непроглядности испарений (развеются же они когда-нибудь). И Никита направился к столику Жанары, царицы Шамаханской, чтобы вернуть долг чести в сто долларов, потому что где это видано, чтобы нормальная девушка из ресторана, если она, конечно, не эмансипэ Алина, тебя публично целовала и платила тебе за это сто рублей.
Жанара спрятала в сумочку сто долларов и поощрительно улыбнулась Никите. Он правильно понял улыбку и спросил:
– Что будем пить, мисс?
Она, похоже, выбрала напиток по цене, чтобы вздорожать в глазах Никиты, и тот, непривычный к благородным смесям, тем не менее, смело опробовал коктейль («Бурбон» плюс невиданный ликерчик плюс сладкий вермут плюс горькая капля «Ангостуры» для яркости вкусовых ощущений плюс искрошенный лед, тот, что успел растаять и в шейкере раствориться).
– Тебе не наскучило здесь? – спросила Жанара, глядя, как Никита допивает свой коктейль. – Известны местечки и повеселее, – интимным шепотом сообщила она, и, стряхнув на кисть руки последнюю каплю из его бокала, слизнула ее.
Знак был вульгарным что красненькие кружевца на дешевом капроновом бельишке, обещающим и полным соблазна. Пятница на излете своем закипала-таки, и слегка обжигали первые горячие пузырьки, и занималось прозрачное марево и, теплея, дрожало, утомляя зрение, растворяя очевидность.
В квартале от «Лимузина» их подхватило такси с оранжевым светящимся акульим плавником на крыше и по черному асфальтовому потоку с беспорядочно бликующими отражениями ночных городских светил понесло в «местечко повеселее», оказавшееся модной ночной дискотекой под названием «Космика».
* * *
Войдовых денег хватило на проезд, на кофе, на хлеб и сыр. Пока Аня бестолково, не в силах сосредоточиться, колготилась у плиты, пытаясь сварить толковый кофе, Войд шатался по кухне, трепал по обыкновению языком, цапал что попало и вертел в руках, потому что по природе своей предпочитал тактильные ощущения всем прочим. Он неловко сдвинул какие-то книжки и, сбив со стола, чуть не угробил красиво запечатанный бутылек с блудливым драконом на этикетке, который утром на почте получил Никита вместе с другими «бонусами». Пузырек Войд ухитрился поймать на полпути к гибели и завертел в руках.
Иероглифы на этикетке ничего ему не сообщили, а вот с обратной стороны сквозь толстенькое стекло и чайно-золотистую жидкость просвечивала местами более-менее понятная латиница, из которой Войд разобрал несколько всем известных словечек и… И вдохновился. Он понял, что, если сейчас свезет (а почему бы и нет? Обстоятельства, вообще говоря, располагают), если свезет, он вознаградит себя за все лишения, и моральные, и материальные, что выпали сегодня на его долю. Он, набравшись наглости, распечатал бутылочку, вдохнул горячий аромат, то ли коньячный, то ли бальзамический, повертел в наслаждении головой и сунул бутылочку под нос Ане:
– Энни, а неплохо бы под кофеек? Эксклюзивная выпивка тут у тебя пропадает. Глотнем?
– Глотнем, – согласилась Аня в надежде, что благодаря дивному напитку, чем бы он там ни оказался, она согреется и перестанет дрожать как нервный цуцик. Что слезы, если и не войдут в берега, то перестанут переливаться через край, и что аденоиды примут нормальные размеры, и можно будет дышать носом, а не ртом. И что Войд, «глотнув», наконец отвяжется и отправится домой, пока еще транспорт ходит. А так как Эм-Си Мария спала или делала вид, что спала, то некому было предостерегающе кривиться и подмигивать Ане за спиною Войда. Поэтому Аня, с некоторой даже надеждой в голосе, повторила: – Глотнем.
– Отличненько, – обрадовался Войд, достал из решетчатой сушилки первые попавшиеся стаканчики и, не озабочиваясь размышлениями о допустимой дозе неизвестного бальзамчика (которая, между прочим, вполне отчетливо была обозначена на контрэтикетке и составляла чайную ложку), наплескал порядочно, почти до половины, и сунул стакан Ане в руку, пока та, не дай бог, не раздумала.
Они выпили: Войд одним махом, а Аня рассеянно отхлебнула, но жгучий вкус ей понравился, определенно понравился, и травяное послевкусие тоже, и она, не торопясь и смакуя, допила до дна и кофе уже не захотела. Согревал и расслаблял напиток замечательно. Голова немного кружилась, но не так чтобы очень, злой туман этого дня опадал хлопьями, разлезался по углам, и тварный мир снова становился мил, и дождь за стеклом казался благостью, теплым душем, под который хорошо бы встать, раздевшись донага, и раствориться в струях, и раскинуться теплой прозрачной глубокой лужею, озерцом. И пусть купается в этом озере кто пожелает, кто возжелает, потому что сама лужа – сплошное желание, и щедрое, и жадное, так и плещется в гостеприимном нетерпении.
– Энни… – хрипло прошептал Войд, сто лет уже готовый утопиться в щедротах Аниного тела, – Анька, иди ко мне сейчас же… А то я умру.
Аню взметнуло высокой горячей волной, и она оказалась в объятиях того, кто по случаю оказался рядом и пожелал ее, пожелал погрузиться в жадную, всеприемлющую бездну, и бездна приняла пришельца с готовностью и благодарно…
Что эта девушка вытворяла… Что эта девушка вытворяла! Уму непостижимо. Войд счел, когда уже способен стал соображать, что любовный опыт его существенно обогатился, и он сделался горд собой. С другой стороны, когда схлынул девятый вал, но до конца бури было, судя по Аниным выходкам, еще далеко, Войд, вполне еще дееспособный, спасибо бальзамчику, задал себе вопрос: а так ли уж неисчерпаемы его ресурсы? И что станется с его мужской состоятельностью в будущем, если сегодняшний праздник плоти будет длиться и длиться? А наплевать, решил он. И наплевал, проявив тем самым благородство по отношению к исстонавшейся менаде, что, раскидав руки-ноги, трепетала томным алчущим лоном, и снова пустился во все тяжкие, пока сон не постиг их одновременно, глубокий и звездный, словно космос.
…Нельзя сказать, чтобы утро началось в теплой, дружественной обстановке. Аня предпочла бы проснуться в других объятиях и потому зла была, но не на Войда, как ей того хотелось бы, а на себя, любимую. Она поджимала губы, и стеснялась, и краснела, и пинала ногой что ни попадя, но в вынужденном утреннем общении с Ромчиком за дипломатические рамки не выходила, потому что была девушкой в целом разумной и понимала, что потерянного не воротишь. И, в конце концов, о потерях вполне можно умолчать, чтобы не травмировать Никиту, который, между прочим, где-то до сих пор шляется и, надо сказать, вел себя вчера омерзительно, как взбесился и с цепи сорвался. Но ради ее ночного прегрешения, о котором он, будем надеяться, никогда не узнает, да простится ему, так уж и быть.
Аня сушила ломтики хлеба на сковородке, чтобы подать к утреннему кофе тосты с сыром. Что же касается Войда, то он шуршал каким-то пакетом, валяющимся на столе, вслух мечтал о яичнице с помидорами и о сливках к кофе, а втихомолку, оглядывая Аню сзади и восстанавливая в памяти некоторые особенности ее телосложения, тестировал свой организм на предмет восстановления мужских способностей и результатами особенно доволен не был.
Аня переворачивала ножом куски хлеба на сковороде, когда зазвонил телефон. Но звонил не раскаявшийся и поджавший хвост Никита, а работодатель, выражавший свое удивление тем, что заказанный Ане реферат еще не готов, не представлен, и желавший услышать от Ани, что он, по ее мнению, должен сказать заказчику. Компьютерные неполадки, объяснила Аня, в связи с перебоем в подаче электричества. А осталось-то чуть-чуть, самая малость, и к вечеру, ей-богу, будет готово.
– Какие неполадки? – влез подслушивавший Войд. – Может, я быстро сделаю? Что стряслось-то?
– Никита воткнул в розетку новый чайник, все замкнуло, и полетел блок питания, – грустно поведала Аня.
– Этот, что ли, чайник? Так он сам чайник, твой Кит. Это же американская штуковина, а там напряжение сто десять, а у нас двести двадцать, если ты, подруга, знаешь. Полетит тут… А блок питания… Подумаешь, блок поменять. О чем Кит думает? Разучился, что ли? Давай я сам в два счета поставлю тебе блок, Энни, и трудись себе, девушка, за денежку.
– И ничего ты сейчас не сделаешь, потому что нет нужной детали. Блока этого самого, – махнула рукою Аня.
– Ну конечно, нет, – потряс он пакетом, в котором по дурной своей привычке все хватать беспардонно копошился, рассуждая о яичнице с помидорами. – Чего не спросишь, ничего у тебя нет. Ты понятия не имеешь, что у тебя в доме есть, чего нет. Вот это что, по-твоему? Блок и есть, новенький, только коробка помята. Ты на ней случаем не сидела?
– Нет, – ответила Аня и не стала задавать вопроса, откуда взялся блок. Потому что слишком очевиден был ответ на этот вопрос. Потому что она заметила на столе ключи на самодельном брелоке, который Никита собственноручно изготовил из карабинчика с кольцом и кусочка подаренной ему кем-то настоящей, в два сантиметра толщиной, кожи гиппопотама. Одним словом, Никитины ключи. – Войд, – еле вымолвила она окоченевшими губами, – он был здесь ночью и… И он все видел.
Эм-Си, подтверждая, грустно перекосилась, сморщилась и стала похожа на отощавшую к старости гориллу.
* * *
Выбранный очаровательницей Жанарой наимоднейший диск-бедлам «Космика» располагался на берегу Невки, то есть на порядочном удалении от обуховских лабиринтов. Поэтому денег извозчик, накрутивший кренделей по переулочкам один другого темнее, стребовал много. Немалую сумму взимали и при входе в танцевальное заведение. Девушек в сопровождении кавалера пускали, правда, бесплатно, но, по Никитиному непросвещенному мнению, за такую цену с собой можно было бы привести отплясывать и целый гарем-кордебалет. Одним словом, только-только он возомнил себя чуть ли не крезом, как вот уже снова сделался аспирантом-голодранцем с последними бумажками в кармане, и под теменной костью тошно запульсировал сигнал – рекомендация перейти в режим экономии.
Плясал Никита, тем не менее, самозабвенно, дельфином играл в жестко мерцающем море светомузыки и во всю выделывался перед темноволосой раскосоглазой феечкой, созданием с запросами вполне земными, но оттого не менее притягательным. Никита отдавал себе отчет в том, что его подцепили на вечерок ради приятного времяпрепровождения, но в настоящий момент это его более чем устраивало. И он с нетерпением ждал должного последовать приглашения провести остаток ночи в интимной обстановке. И оно последовало, это приглашение, последовало, когда, казалось, воздуха в танцевальном зале не осталось ни кубического миллиметра, и в легкие теперь попадали и разбегались в кровотоке многоцветные вспышки софитов, лазерный дождь, хлопающие тугой парусиной децибелы и волны притягательного, возбуждающего и напрочь отключающего мыслительные способности запаха любовного брожения, источаемого молодыми телами.
– Отдохнуть не хочешь? – прильнула к нему в танце Жанара и коснулась нежными губами уха. – Я здесь живу не так далеко. Пройдемся? Здесь все равно скоро начнут разгонять. Сначала вежливо, а потом – не очень. Так пойдем? Обещаю приятное завершение вечера.
– Ничуть не сомневаюсь в приятности, – куртуазно ответил Никита, сгреб девушку за талию и, плечом рассекая пляшущую стихию человеческую, потащил ее к выходу.
Шли медленно по осенней ночной темени, огибая пресноводные заводи с тонущими флотилиями листвы и в ходьбе соизмеряясь с возможностями хрупких каблучков Жанары, длинных и тоненьких, как лучики, на которых только и плясать, только и порхать, едва касаясь танцпола, а не гвоздить грубую материю асфальта. Но когда все же Никита в нетерпении срывался на более привычный ему жеребячий скок, феечка, коварное создание, останавливала его за руку, прижималась, распахнув плащик над декольте, и целовала сквозь лукавую свою полуулыбочку словно через шелковый платочек.
После очередного поцелуя Никита умерял шаг, но не по причине пробудившейся сознательности, а по совершенно иной причине, по той, что, создавая физические неудобства, до времени стреноживает порядочного мужчину, сопровождающего даму не до первой темной подворотни, а, как он надеется, в жаркую постельку. Поэтому, когда подошли к студенческому общежитию медицинского института, где, оказывается, обитала Жанара, Никиту уже так славно припекло, что говорить он почти не мог, а мог лишь выдыхать междометия и хрипло бредить на любовные темы, не упуская случая осязать прелести ловко доведшей его до умоисступления феечки. И в каких-то кладовочках на периферии Никитиного сознания пробудилось сочувствие к сатирам, которые, по слухам, испытывают подобные мучения все время и постоянно.
Что же до общежития, куда привела Никиту Жанара, то об этом краснокирпичном строении у Гренадерского моста, овеянном легендами и преданиями, ему многое могли бы порассказать родители, а также дядя, с которым Никита знаком не был, как и с прочими родственниками отца. Потому что матушка с ее детской то ли принципиальностью, то ли по недоумию взяла такую линию – с родными бывшего мужа не знаться. Никита и привык не знаться.
Оставив на стойке проходной бумажную денежку, чтобы охранник по ночному времени ослеп, оглох и онемел, они поднялись по лестнице, свернули в коридор, и Жанара своим ключом открыла дверь в комнату. А за дверью, ничем с виду не примечательной, раскинулся райский чертог под хрустальным светилом. Ниспадали тяжелые шелка драпировок, матово и благородно светились шелковые же обои, скрадывал шаги толстый ковер, манил бархат широкого дивана, на низком столике благородного дерева небесно светлые богемские бокалы, казалось, наполнены были еще не проснувшимся тонким звоном. Сиял темным солнцем «Ахтамар» в початой бутылке, возлежала на блюде розовая виноградная гроздь, словно припудренная блеском.
– Черт, и чего мне было не пойти в медицинский? – пробормотал Никита, ошалело оглядывая апартаменты. – Чтоб я так жил, мамочки!
– Ну не всем же так жить даже и в медицинском, – повела длинным глазом хозяйка. – Вот разве что если у кого папа депутат…
– А у тебя папа депутат? – тупо спросил Никита, которого даже слегка отпустило любовное томление, до того он был потрясен увиденным.
– У меня? Допустим… – подняла плечико Жанара, оторвала виноградинку и положила Никите в рот. – А у тебя? Кто у тебя папочка?
– У меня-то? – нехотя ухмыльнулся Никита. – У меня бизнесмен. Деловой человек и денежный мешок. Не веришь?
– Почему же? – опустила ресницы феечка. – Бывает.
«Ну так что же? Мы здесь зачем, вообще-то? Разговоры разговаривать?» – вопрошала ее косо срезанная прядь, свисавшая до подбородка.
«Вообще-то, не для разговоров», – ответила Никитина рука, потянувшаяся к соблазнам, тем, что были чуть прикрыты короткой юбкой.
Жанара, на мгновение став податливой ручной кошечкой, тут же и отпрянула, шепнув:
– Ванная вот за той дверью. Полотенца чистые. И побыстрее: не заставляй девушку ждать.
– Вот как. Даже ванная… – пробормотал Никита, скрываясь за указанной дверью. – Тысяча и одна ночь!
– Хватит тебе и одной, – чуть слышно обмолвилась Жанара ему в спину, но он не услышал. Собственно, и не было рассчитано на то, чтобы он услышал.
Когда Никита, обмотавшись – в лучших традициях – полотенцем, вышел из ванной, оказалось, что феечка разоблачилась до трусиков – незначительного прозрачного лоскутка, волнистой ленточки, опоясывающей бедра и бегущей меж ног. Она плеснула коньяку в богемское стекло и поднесла Никите. Он сделал глоток, она пригубила, отставив. Никита вновь потянулся к ней. Но – как бы не так! – ритуальные игры, оказывается, еще не кончились, потому что феечка толкнула Никиту к дивану, на зрительское место, повела бедрами, обернулась в изящном па, демонстрируя себя, и, колыхнув искусственной синевой волос, юркнула в ванную.
– Вот не люблю я этого: то да се… – в очередной раз процитировал кого-то Никита себе под нос. – Проще надо быть, девушки. Проще и понятней, ближе к народу.
Он отхлебнул коньяку, потом еще, потом добавил из бутылки и сделал еще глоток. И Господь отъял наждак, исподволь скребущий Никитину душеньку. Все как-то отлегло и отлетело, и даже приглушенный шум бегущей из душевой лейки воды не будоражил воображения, напоминая о стройном теле, омываемом теплыми струями. Белый свет поплыл по кругу, закачался, задрожал собственным отражением в неспокойном зеркале небес, и Аня смеялась из зазеркалья, смеялась так, как могла смеяться только счастливая Аня, и сладкий плебейский напиток тек ей на подбородок и капал на простенькую кофточку, оставляя коричневые пятна. «Возлюбленная моя, губы твои… Поцелуй меня… еще… еще…» О, я знаю, что несу чушь, ну и что? И нечего тут хихикать, прелесть моя… Прелесть моя… косоглазенькая.
Над ним стояла и тихо смеялась голая Жанара. «А я ведь на тебя еще кое в чем рассчитывала, – хихикала она. – Куда было торопиться? Успел бы еще коньячку выпить… Успел бы… Спи теперь, дурачок. Сладких снов…»
И Никита перестал бороться со сном.
* * *
Нет, а что так холодно-то? И жестко. И липко. И где одеяло? Одни тряпки какие-то попадаются, и голова кругом. Открыть бы глаза. Ну вот, открыл. Легче стало? Черта с два, легче! Скудно освещенный тоннель, уходящий в дальнюю даль, темные стены дрожат и шатаются, и пол тоже ходит ходуном – липкий, холодный пол. Стало быть, он на корабле, и у него морская болезнь (все симптомы налицо), о которой в детстве читано-перечитано. И такой он брошенный-одинокий. Как паршивый пес. А корабль, никаких сомнений быть не может, сию минуту затонет, потому и нет никого. Да и не корабль это, если подумать, а ободранный ящик, гроб из-под гнилых бананов, судя по дивному запаху блевотины, и сгинет сейчас в холодной пучине бедняга Перегринус ни за понюх табаку. До песьего рая не доплыть ему, да и нет такого, все наврал Никитушка, хоть и не хуже Перегринуса кобель.
– Сам кобель! – огрызнулся Никита слабым голосом неизвестно в чей адрес и понял, что вроде бы жив, никто его не утопил пока. И во-вторых, Никита понял, что он, слава богу, не дохлый пес Перегринус из Купчина, а в-третьих, он вспомнил свое имя и социальное положение, а также то, что, по идее, он должен был бы сейчас пребывать на пуховых перинах и в нежных, душистых объятиях. А пребывает?.. В каком-то коридоре, на холодном полу, в чем мать родила. Почему бы это? Девушке не угодил? Да быть такого не может никогда! Или к девушке – забыл, как там ее по имени, Бибигюль, что ли, – не вовремя постоянный любовник приперся и вышвырнул его, Никитушку, вон, спасибо, не убил? Что-то не помнится. Что-то тут не так. И Никитушка кряхтя поднялся, отлепив живот и худые ляжки от линолеума, и пошел по коридору правды искать, срам тряпками прикрывши.
Дверей в коридоре оказалось не слишком много, что вдохновляло, и Никита решил стучаться в каждую по пути своего следования, то есть в поисках потерянного рая избрал метод проб и ошибок. Первую дверь открыли довольно скоро, Никите пришлось колошматить в хлипкую фанеру не больше минуты. В темноте за распахнувшейся дверью кто-то вопросительно и недовольно рыкнул.
– А где Бибигюль? – наивно осведомился Никитушка.
– Рррр?!! – переспросили его.
– Или Гюльчатай? Ну забыл я… Косоглазенькая… Шамаханская… – бормотал Никита, пошатываясь от слабости и из последних сил борясь с тошнотой.
– Рррр. С-с-скотина голая, – оглядели Никиту из-за двери. – К психоаналитику сходи, пока тебе не оторвали. Или тинктуру валерианы на ночь пей, старую добрую. Чем больше, тем лучше, бутылками. А я невролог. Невролог я! Мое дело приличные неврозы лечить. А половые извращенцы, кобели озабоченные, сексуальные психопаты – это к психоаналитику лучше всего. А если ты то самое привидение, о котором девки с общей терапии, поддавши, впаривают, так тихо-мирно просачивайся, и не хрен в дверь колотить. – И дверь перед Никитиным носом захлопнулась.
– Сам секс… экс… экс-кобель озабоченный, – довольно громко обиделся Никита. – Сам привидение-извращенец… Тьфу! Сам просачивайся! Тьфу! – Язык у Никиты заплетался и в трубочку сворачивался, и горькие слюни из-под языка текли, как у бешеной собаки, только успевай плеваться самым непристойным образом. – Сам просачивайся, если психопат!
– Рррр?!! – донеслось из-за двери. – Кастрировать?!!
– А… А кто тут хирург? – нашелся Никита, наглость в котором проснулась раньше, чем полностью восстановились основные функции центральной нервной системы. – Тут, по-моему, только извр… невр… вол… не-вро-лог!
– А их тут целый этаж, чтоб ты знал, хирургов-то, и все с ножиками. Рррр. Ррразбудить?!
– Чтоб им всем сдохнуть, – пробурчал себе под нос расстроенный изобилием хирургов Никита, но его услышали из-за тонкой дверной фанерки и неожиданно поддержали:
– Рррр… И я говорю. Только бы им резать, только бы резать, поганцам. А все болезни от нервов, с античных времен известно. Черная желчь, зеленая желчь… Это они тогда происхождение эмоций так объясняли. Разольется зеленая или там черная, вот тебе и меланхолия. И наплевать терпельцу, в штанах он или без… А эти – сразу резать жизненно важные органы или мозги потрошить почем зря. Рррр… Штаны надень, придурок. Пить надо меньше. – Последнее прозвучало вполне мирно и даже сочувственно, дружеским советом.
– А? – переспросил Никита и обнаружил, что те тряпки, которыми он не очень удачно – все мимо – прикрывался, суть его собственная одежда. Нашлись трусы, нашлись джинсы и рубашка, кроссовки же, носки и куртка исчезли бесследно. И Никита, облачившийся, но босой, побрел дальше по коридору. Для очистки совести, без вдохновения, он стукнул еще в пару дверей, но ни одна сволочь ему не открыла, и тогда он, чувствуя себя беспредельно несчастным, от холода поджимая пальцы босых ног, с надрывом заорал на весь коридор:
– Хирурги-и-и!!! Может, кто тапочки одолжи-и-ит?!!
Но молчание было ему ответом, и по особым флюидам, ползшим из щелей, ощущалось, что молчание это – недоброжелательное. И лишь где-то мрачно пробубнили: «Тамбовский волк тебе хирург, козел недорезанный!» Ясно стало, что Никита, проявив бестактность, влез босыми своими ногами в эпицентр некой войнушки коридорного масштаба, войнушки конкурирующих специальностей, и что мирными действиями ничего здесь не добьешься. А к открытому разбою, к насильственному отъему обуви у аборигенов Никита не чувствовал себя готовым – его водило из стороны в сторону, от стенки к стенке, колени дрожали, и колотил озноб, так что зубы постукивали. И слюни все еще текли.
– Безобразие, – проворчал он, когда его вынесло на лестничную площадку и бросило на перила. – Доктора вшивые. Первую помощь не могут человеку оказать. Ну и обожритесь своими тапками, живорезы. Чтоб вам всю жизнь старыми тапками закусывать. Чтоб вам на том свете тапки жрать. Чтоб вам… О, черт! – Лучше бы Никитушке не воображать было, как жрут старые тапки…
Никита, старательно обойдя извергнутое им, кое-как, животом на перилах, соскользнул на два пролета и присел передохнуть рядом с забитой доверху урной. Из ее жестяной глотки торчал кляпом смятый пакет, и смятая синенькая картинка на пакете показалась Никите знакомой до слез. Он потянул за шуршащий уголок, не смея надеяться. Потом потянул сильнее, так как с первого раза ничего не получилось. Потом еще сильнее, потом рванул так, что урна опрокинулась. Пакетик с новеньким блоком питания, которого Никита уж не чаял увидеть, оказался у него в руках и восторженно зашуршал, узнавая хозяина, и взмахнул оборвавшимся клочком пластика. А вслед за пакетом из урны вывалились видавшие виды Никитины кроссовки, по-свойски расхристанные, расшнурованные, с привычно подмокшей утробой, потому что не все лужи обойдешь, готовые принять тебя в свои объятия. Вот оно, счастье-то! Жизнь-то, господа, налаживается.
Жизнь определенно налаживалась, потому что охранник на проходной дрых, и некому было любопытствовать, куда это намылился Никитушка среди ночи в одной рубашке и в кроссовках на босу ногу. И поскольку никто его не остановил, Никитушка отодвинул засов на входной двери и вышел в ночь, в промозглую, сырую сентябрьскую ночь, прижимая к груди драгоценный пакетик, огляделся, с трудом сообразил, где находится, верхним нюхом почуял направление и, не очень уверенно ступая, ежась от воспоминаний, пополз, побрел, пошел, зарысил сначала наугад, наудачу, потом целенаправленно.
Ночные прогулки по молодости дело, разумеется, святое, но не в одной рубашке же при восьми градусах над нулем. Что, однако, прикажете делать, если куртка так и не обнаружилась? Ветерок, насыщенный продымленной городом водицей, ерошил волосы, дул в уши и ноздри, гадким языком лез за воротник, водил мертвецки холодной ладонью по животу под рубашкой, ползал по спине. А в кроссовках хлюпало – видно, гуляли они, сердешные, последние денечки.
Никитушка все еще плевался и дрожал от омерзения, но в голове прояснялось, желе под черепной коробкой на холоде структурировалось, уплотнялось, заминалось положенными складками, и, помимо примитивных физических ощущений и способности ориентироваться в пространстве, стали просыпаться (видно, архаическая зеленая желчь разлилась) и эмоции. Такие опасные, как стыд, например.
Но не потому муки совести опасны, что в желании от них избавиться можно и до тяжелого алкогольного отравления дойти, а потому, что если лукавого из-за левого плеча послушавши, задуматься, то очень быстро вспоминаешь, что существуют на свете причинно-следственные связи, и склоняешься к мнению, что гадишь ты не своей волею, а по чьей-то вине, по причине чьего-то змеиного коварства и злокозненности. А потому – с чего бы вдруг совеститься, если на самом деле Пушкин виноват, или погода, или врожденное женское вероломство? Только вот казнить виноватых в том, что тебя часок-другой совесть мучила, как опыт показал, себе дороже. Такая несправедливость, господа и дамы.
Никита рысил на Зверинскую, к Ане, так как повод был (и искать не надобно): реанимировать комп. Повод был, был, слава тебе, господи. Потому что как же мириться без повода-то? И первые слова тоже были, сверкали и лоснились, как подарочная авторучка в футлярчике, только кнопочку нажми, и начертаны будут те слова уверенным почерком, недрожащей рукой: «Анька, ты не спишь? Яблок принес». Именно так: «Анька, ты не спишь?» Анька… Я замерз, Анька. Такая холодная ночь. И темень. И кроссовки вот, к чертям, развалились… Провались эта пятница, Анька. Анька, а ведь давно уже за полночь – сегодня другой день, и, может быть, даже дождь, чтоб его, кончится, и белый свет не заплесневеет-таки.
Он выбрался на Большую Монетную, ночью превратившуюся в длинную и безалаберную парковку. Автомобили спали бок о бок, иногда с дурного сна взвывая сиренами. И не ведал Никита (никто ему рассказать не удосужился), что в этом вот дворе за высокой аркой, которую он только что миновал, в те времена, когда Большая Монетная была еще улицей Скороходова, подрался его отец, защищая малодушного брата своего и его девчонку, и драка эта непостижимым образом свела его родителей для того, чтобы он, Никита, появился под солнышком.
Добравшись до Каменноостровского проспекта, Никита пересек его под желтым недремлющим оком, что мигало на перекрестке, и дворами, повторяя дневной Анин и Войда маршрут, припустил к Зверинской, все быстрее и быстрее, подгоняемый холодом и чем-то еще, чему не нашлось определения, чем-то, что оседлало и пришпоривало сердце так, что оно скакало все быстрее и быстрее, во весь опор – ретиво и восторженно, словно застоявшийся мустанг. Он взлетел по темной лестнице мимо мутных от грязи, потрескавшихся оконных стекол и облупившихся стен, взлетел под самую крышу, под протечный, осыпавшийся до дранки потолок. В кромешной темени, на ощупь, легко попал ключом в замок, привычно прижал, тряхнул, повернул, подергал, троекратно изрек матерное заклинание, и дверь открылась. Лучше бы она не открывалась.
В кухне горел свет, дверь в комнату была распахнута во всю ширь, а на диване спали, переплетя конечности. И сбитые простыни ниспадали на пол, и одеяло валялось само по себе, и никто не ныл, не тянул одеяло на себя, не дрожал цуциком и не жаловался на холод, несмотря на полную обнаженность. Жарко им, как видно, было, Аньке и Войду, словно грешникам в… раю.
…Надо было поселиться навсегда в том общежитском коридоре. Или по-наглому «просочиться» к этому, к неврологу. Или у хирургов тапочки отнять. Тогда бы ему наподдавали больно, и он точно никуда бы до утра не пошел, сидел бы в темном уголку и раны зализывал. И не лицезрел бы грязную эту порнуху. Порнуху из порнух. А он-то, сопли развесив, к любимой спешил в одной рубашке по морозу. Так вот впредь не вздумай себя винить, рыба-Кит, совестливый какой нашелся. Девушки, как давно известно, отродье крокодилов, и вероломство имя им, в чем ты сегодня убедился. И не единожды убедился.
И что же, теперь не жить? Ха! Не дождетесь, девушки. Для начала придумаем себе герб, например вольный кобель породы бассет, попирающий мускулистой лапой шипастый ошейник, на небесном звездном поле. И – вперед, собачьей рысью, хвост задравши, под знамя всех вольных кобелей.
Никита оставил на столе помятый пакет и ключи, подхватил свой спящий мобильник, о котором чуть совсем не позабыл в круговерти неприятностей, натянул свитер, какой нашелся на вешалке, прошипел что-то невразумительно укоризненное в сторону Эм-Си Марии, будто это она виновата: недоглядела, старая крокодилица, – и убрался подобру-поздорову навстречу новому дню. И все пытался растянуть в беспечной улыбке губы, но слишком замерз, должно быть, потому что ничего не получалось, кроме кривой и горькой гримасы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































