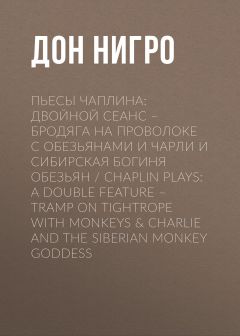
Автор книги: Дон Нигро
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дон Нигро
Пьесы Чаплина: Двойной сеанс
Бродяга на проволоке с обезьянами
и Чарли и Сибирская богиня обезьян
Don Nigro
Chaplin Plays: A Double Feature – Tramp On Tightrope With Monkeys & Charlie And The Siberian Monkey Goddess/2015
Перевел с английского Виктор Вебер
* * *
«Пьесы Чаплина» написаны так, чтобы игрались они вместе, в один вечер, как «Пьесы Чаплина: двойной сеанс». Но вполне возможно их исполнение по отдельности: «Бродяга на проволоке с обезьянами» и «Чарли и сибирская богиня обезьян»
Песня «Жимолость и пчела/ The Honeysuckle and the Bee» написана Альбертом Г. Фитцем и Уильямом Г. Пенном для детской музыкальной сказки «Колокольчик в Стране чудес/Bluebell In Fairyland» (1901). Песня «Океанский вал/ The Oceana Roll» написана Роджером Льюисом и Люсьеном Денни в 1911 г.
Посвящается Иветте Думенг и Татьяне Кот
Стирая пыль с темного зеркала
Подражание Юн-чиа Та-ши (ум. 713)
«Когда ты говоришь, оно молчит.
Когда ты молчишь, оно говорит.
Когда ты его ищешь, оно теряется
Ты не можешь удержать его,
но не можешь от него избавиться.
Все луны, отражающиеся в воде,
есть одна луна, одна реальность,
содержащая в себе все реальности,
выше всякой похвалы и хулы.
Дверь всегда открыта.
Бездна любви всегда перед тобой,
чтобы свалиться в нее».
«Кто может сказать мне, кто я такой?»
«Король Лир»
Бродяга на проволоке с обезьянами
Один персонаж – ЧАРЛИ, бродяга.
Место действия – опустевшая съемочная площадка или бутафорская театра. Диван. Перед ним кофейный столик. Письменный стол со стулом.
(Из темноты доносится кларнет и фисгармония, играющие мелодию песни «Жимолость и пчела». Свет падает на ЧАРЛИ. Он то ли на опустевшей съемочной площадке, то ли в бутафорской театра. Диван. Кофейный столик перед ним. Письменный стол со стулом).
ЧАРЛИ. Ты что-то такое делаешь, а потом внезапно, словно по мановению волшебной палочки, вдруг осознаешь: «А я ведь знаю, что за этим последует». Это так похоже на фильм, который видел раньше, и ты думаешь: «Подождите, я это помню. Именно там я и появился». Ты входишь в середине фильма. Остаешься, пока точка твоего появления не пройдет полный круг. Словно входишь и выходишь с карусели. Может, смерть, она такая же. Мы так увлечены фильмом, в котором живем, что удивляемся внезапному ошеломляющему осознанию, что здесь мы уже были. И думаем: «Да, я помню эту часть. Именно там я появился».
(Достает карманные часы, смотрит на них, трясет).
Мои часы остановились. Сейчас утро или вечер? Когда ты в театре, чувство времени теряется. Я не понимаю времени. Каким образом Джеки Куган превратился в дядю Фостера? Почему Малыш теперь толстый, лысый старик с противным голосом? Фильмы – это магия, потому что сродни путешествиям во времени. Ты смотришь фильм, в котором снимался сорока годами раньше, и тамошние события происходят параллельно с твоей нынешней жизнью. Запусти одновременно несколько фильмов, десяти-, двадцати– и тридцатилетней давности, и они начнут сливаться вместе, напоминая комнаты, заполненные пианино, играющие в голове Бога все написанные мелодии. Не удивительно, что Бог безумен. Он – что миллионер в «Огнях города». Любит меня, когда пьян. Не узнает, когда трезв.
Бог создавал мир на роликовых коньках. Но в одном из неудачных дублей, упал с обрыва в глубокую пропасть, и больше о нем не слышали. Нам говорят, что упал дьявол, но на самом деле это был Бог. Если они оба – не одна личность, которая смотрит на себя в зеркало.
Мне часто снится, что я падаю. В моем сне я – на проволоке в цирке, высоко над толпой, и на меня нападают обезьяны. Обезьяны на моей голове. Обезьяны кусают мой нос. Обезьяны стаскивают с меня штаны. Я на большой высоте, страховочной сетки нет, и облеплен обезьянами. Моя жизнь – искусство. На самом деле обезьяны – как любые другие актеры. Тебе необходимо тщательно их подготовить, чтобы они делали то, что ты хочешь. Но иногда они забрасывают тебя дерьмом.
В моем сне я вот-вот свалюсь, и хочу позвать на помощь, но, разумеется, Бродяга не говорит. Только в комиксах, в овалах для слов, когда он катится вниз по склону холма на гигантском круге сыра, с маленькой птичкой, сидящей на кончике его… Ладно, он говорит. Вы можете увидеть, что он говорит, если приглядитесь. Но когда он открывает рот, слова с его губ не слетают. Во всяком случае, вы ничего не слышите. Может, собаки слышат. Но для вас изо рта просто вылетает воздух. Я даже не помню, чтобы шевелил губами, но мне говорят, что шевелил.
Когда появился звук, я пробовал для Бродяги разные голоса. Даже брал уроки вокала. Если хочешь, чтобы голос звучал громче, иди к океану и кричи на чаек. Они накричат на тебя. Ты кричи на них. И так далее, пока не сможешь произнести ни звука. Потом входи в воду, пока не поплывет шляпа. Потому что среди этих голосов нет правильного. Ни один не работает. Чтобы дать Бродяге голос, нужно убить в нем общее для всех. Нарушить молчание – для него смерть.
Когда фильмы стали звуковыми, я едва не перебрался в Китай. Звук во многом убил кино. С ним появились гигантские камеры и мили проводов. Микрофоны свисали с потолка, как дьявол, ловящий души. Я не знаю, как они могли ожидать, что мы создадим что-то прекрасное в окружении всего этого мусора. А что еще хуже, вся эта техника сделала фильмы такими дорогими, что киноиндустрия превратилась в контролируемый денежными мешками, централизованный, беспощадный бизнес.
Но со временем Бродяга начинает говорить. На самом деле, он поет. Поет франко-итальянскую сладенькую муру, а потом с облегчением уползает в молчание, шагает с Полетт по разделительной полосе к облакам на горизонте.
И все-таки здесь я говорю. То есть не могу я быть им. Да только, я, очевидно, он. Но с того момента, как я начинаю говорить, я становлюсь кем-то еще. Если бродяга говорит в пустом театре, есть какой-то звук? И, если на то пошло, есть ли сам театр? Кто из нас кино? Вы или я? Единственный способ сохранить идентичность – молчать.
Вы должны полюбить Бродягу. Устоять перед ним невозможно. Он – маленький человек, и у него ничего нет, и нет ни единого шанса что-то приобрести, но он умный, и упрямый, и может ударить исподтишка или дать пинок под зад, когда вы не смотрите. Еще он любит. Бродяга любит. Мы можем это определить. Но я – кто-то еще. Вы меня слышите? Есть здесь кто-нибудь? Послушайте меня, когда я не говорю с вами. Это не немой фильм. Я пытаюсь сказать вам, что человек, которого вы видите на экране, это кто-то еще. Я его создал. Сам приклеил его усы. Но он, по большей части, по-прежнему для меня загадка. Так что в зеркале я вижу человека, который не он.
Почему, к примеру, этот другой человек, давайте назовем его Чарли, почему он испытывает непреодолимое желание лишать девственности девушек-подростков? Очень юных девушек. Сладких и нежных, как бутоны. Но они – яд. Все они яд. Так почему он соблазняет их? Или они соблазняют его? Потом следуют иски по установлению отцовства, вынужденные женитьбы, измены, скандальные разводы. В кино такого нет. В кино она дает мне розу. Я подношу ее к губам. В кино любовь действительно возможна. Но который из них я? Обаятельный маленький бродяга с сердцем из золота или похотливый старик, охотящийся на невинных? Может, ни один из них. Все это игра.
Всегда есть опасность, что эти фарсы, разыгрываемые под дождем, могут превратиться в настоящую любовь. Трудно представить себе большую неудачу. В моем сне Полетт крадет бананы. Самая талантливая из всех моих жен. У нее детская привычка. Она носит с собой нож. Женщину легче любить, когда она где-то далеко. Еще легче, если она мертва. А женщине, которая вообще не существовало, я могу поклоняться, как богу. Но это стало бы фатальной ошибкой.
Я безумно люблю женщин, но не очень-то они мне нравятся. Женщины постоянно изменяют. Разумеется, я такой же, но в свое оправдание могу сказать: раз они все равно собираются мне изменить, тогда я могу изменить им первым. Человек, которого мы любим, всегда иллюзия. Призрак на экране. Я – один из этих призраков.
Я свое время я был знаменитостью. Все любили меня. Но, с другой стороны, они любили и Кеннеди, и посмотрите, что они с ним сделали. В фотоателье меня используют для фотографирования. Могут взять мою голову и приставить к любому телу. А компанию мне составляет собака. Под носом щель, в которую можно вставить усы. Это такая пустота, когда тебя никто не любит. Но когда все думают, что любят тебя, это просто кошмар. Потому что человек, которого они любят, не существует. Выяснив это, они начинают ненавидеть тебя. И все это время ты знаешь, что внутри тебя никого нет.
Любовь – это пролог к ненависти. Если тебя никогда не любили, тебе нечего терять. Если любили хоть раз, ты знаешь, каково это, и ты в ужасе от того, что может это потерять. А как только они видят, что ты боишься это потерять, считай, что уже потерял. И как только ты это теряешь, ты приходишь в ужас от того, что это уже никогда не вернется. И, естественно, ничего не возвращается. Ты находишь что-то еще, но никогда – то, что потерял, и что бы это ни было, ты все равно потеряешь это снова. Сначала они тебя игнорируют. Потом замечают. Любят. Устают от тебя. Ненавидят. И, наконец, убивают. Спросите Иисуса. Он расскажет вам истории, от которых ваши ладони начнут кровоточить.
Когда твоя мать – ребенок, сошедший с ума, ты проводите жизнь, гоняясь за полубезумными юными девушками. Разнообразными французскими шлюхами. Девушка, с пауками в волосах. Мне невероятно трудно реагировать на доброе отношение. Антагонизм – с этим я знаю, как себя вести. Но доброе отношение – это другое. И великий артист должен быть безжалостным. Однажды я заставил Эдну Первиэнс съесть двенадцать банок тушеных бобов, прежде чем мы сыграли эпизод, как должно. И это была женщина, с которой я тогда спал в одной постели. Выбрасывайте старых возлюбленных, как мусор, когда проку от них вам нет. Никогда не застревайте в чьем-то еще фильме. А не то вам не удастся из него выбраться.
Преданность своей профессии. Я знал жонглера по имени Зармо, который годы работал над следующим фокусом: балансируя кий на подбородке, подбрасывал биллиардный шар и ловил его на кончик кия. Потом подбрасывал второй шар и ловил его на первый. Ему потребовалось несколько лет, чтобы научиться это делать и, наконец, он исполнил этот трюк на публике. Получилось идеально, а в ответ публика лишь вежливо похлопала. Сойдя со сцены Зармо сказал: «Когда ты все делаешь с легкостью, впечатления на них это не производит. Лучше в первый раз потерпеть неудачу, и исправиться во второй. Но с грустью добавил, что не достиг еще такого совершенства, чтобы в первый раз терпеть неудачу. Вот что свойственно настоящему артисту. Такая преданность профессии. Мужество потерпеть неудачу в первый раз. Может, это безумие. Но это все, что у нас есть.
Контроль. Контролируй каждый момент в фильме, каждую мелочь в отношениях. Потерять контроль – все равно, что обезуметь. Победить в этой игре можно, только сохраняя контроль. В играх я дока. Мог побить Дугласа Фэрбенкса во всем, кроме гольфа, в который играть отказывался, потому что это игра для богатых идиотов. Кино – это игра. Игра – контролируемый кошмар.
В свое время мне снились многие вселенные. Я нес жареную утку на подносе по заполненному людьми танцполу. Заключенный внутри проектора. Я подбираюсь к врагу, замаскированный под дерево. В Клондайке голодающий мужчина принимает меня за огромного цыпленка. Кино – это пойманный сон, одержимо тиражируемый вновь и вновь. Зеркало живое. Оно движется. Но в центре лабиринта паук. Если хочешь избежать реальности, ныряй как можно глубже, и ты обнаружишь себя в фильме. Реальность – это бездонная бездна странности, и опасность там везде. Хижина каждого опасно кренится на самом краю пропасти. Медведь всегда следует за тобой. Горилла всегда поджидает тебя на мосту.
Если ты постоянно создаешь бесконечно сложные лабиринты искусства, которые накладываются на реальность вне матки и все существующее в ней страдание, не удивительно, что со временем ты в них теряешься. И все-таки в поведении этих двух хаотичных систем, если присмотреться, обнаруживается порядок. Я не создаю кино. Кино создает меня.
Внизу человек, который называет себя Чарли Чаплином. Ради Бога, не впускайте его в дом. Это ужасный тип. Когда он не живописует свое диккенсианское детство, чтобы вызвать к себе сочувствие, люди, с которыми он отождествляет себя, далеко не бедные. Люди, с которыми, он отождествляет себя, богачи и убийцы, и зачастую это одни и те же люди. И он, среди прочего, успешный бизнесмен. Логичное продолжение бизнеса – убийство. И война – это бизнес по-крупному.
Я знаю, до вас доходили слухи, что я – коммунист. Но, как и Бармалей, я не коммунист сейчас, и никогда им не был. Сознаюсь, я всегда питал слабость к русским. Что-то в них есть. Какая-то очень мощная магия. Достоевский смотрит в зеркало и видит убийцу, который смотрит на него. И это правда, иногда я позволял себя крайне неудачные высказывания, к примеру, сказал, что Сталин поступил правильно, отправив в Сибирь нескольких тормозящих развитие писателей и актеров. Я знаю, каково это, оказаться на морозе. Побывал в Клондайке, где за мной гонялся медведь. А Голливуд похож на вечеринку Пончиков. Чтобы выжить, ты должен пожрать своих друзей. Мы просто вырежем этот комментарий из фильма.
Вот почему всем лучше, когда я не говорю. Проблемы возникают, стоит мне заговорить. Я – поэт. Душой я анархист. Я не патриот. Я аморальный. Я – актер. Мое настоящее имя Леонард Зелиг, знаменитый человек-саламандра. Я общаюсь всегда и со всеми, изоляция – это не мое.
Часто мне кажется, что я – кто-то еще. Но не могу вспомнить, кто именно. Вот я и должен быть тем, кто я есть. Заточенный в доме смеха. Слишком много зеркал. Чье это лицо? Все зеркала двойственны, как темное зеркало, через которое пробралась Алиса, чтобы попасть в Зазеркалье. На той стороне она осталась такой же, какой была на этой? А я? Я – не тот, кто я есть. Я – противоположность Бога. Бог и дьявол, глядящие друг на друга в зеркало. Оба никого не видят. Это ужасно, стареть в таком количестве зеркал.
Один японец рассказал мне историю о яйцах. Когда ты держишь в руке яйцо, его воспоминания передаются тебе через скорлупу. Бог – это яйцо, чья сердцевина везде, а периферия – нигде. Я одном из моих снов я кладу яйца в задний карман. Потом мой интерес вызывает девушка. Когда тростью я задираю ей платье, чтобы посмотреть, какого цвета у нее трусики, она толкает меня, и я сажусь на яйца. Мне так хотелось взглянуть на ее трусики, что я забыл про яйца. Мы все забывали про яйца. Теперь мы все помним. Секрет хорошего рассказчика историй – заставить слушателей забыть про яйца. Если ты забываешь про яйца, вспомнить о них – особое удовольствие. Ты можешь по достоинству оценить, как это хорошо, вспомнить, только если речь о чем-то забытом. То, что мы ищем, обычно неподалеку. И слишком близко, чтобы увидеть. На нашем затылке.
Они восторженно встретили меня, когда я вернулся в Лондон. Нет. Не было этого. Все сон. Мое детство было сном. Оно было каким-то фильмом. Но мы никогда не закончили монтаж. Я – человек, который провел жизнь, прячась в фильмах, под вымышленной личностью. Но что, по-твоему, реальность? И почему ты должен так думать? Что ты считаешь личностью? За кого ты себя принимаешь? Других это устроит, и они позволят тебе играть эту роль или выгонят со сцены, забросав гнилыми фруктами? Если никто не верит, что мы такие, какие есть, на самом деле тогда кто мы?
Идентификация всегда уходит от нас в темноту. Мы сидим в темноте и теряемся в фильме. Мы тонем в темноте, как тонем в темноте секса, любви. Ты создаешь персонаж. Даешь ему имя. Другие соглашаются участвовать в выдумке, будто ты – персонаж с этим именем, если ты соглашаешься участвовать в выдумке, будто они – персонажи, которые они выбрали. Персонаж – это ты. Персонаж – это не ты. И Бог живет в лужах дороги, проложенной сквозь густые сибирские леса.
Неудачные дубли. Мы все божьи неудачные дубли. Целая коробка неудачных дублей стояла у меня в кабинете, и я попросил одного сукиного сына уничтожить их, когда меня выгнали из страны Эдгар Гувер и эта свора жалких фашиствующих кретинов. Но он их сохранил. И я ему за это благодарен, потому что, в итоге, неудачные дубли – все, что остается от нас.
Фильм хрупкий, как любовь. И, как любовь, со временем он вырождается и становится взрывоопасным. Так что осторожность необходима. Или ты разобьешь яйца.
Фокус в том, чтобы не помнить, что ты – кто-то еще. Ты сбиваешься с толку и думаешь, будто вспоминаешь, что однажды был Наполеоном, или Достоевским, или девушкой по имени Минни, отец которой запирал ее в чулане. Нет. Я – не кто-то еще. Я – он. Я – Бродяга. И я еще и Чарли. Когда один из нас смотрит в зеркало, от видит другого, который смотрит на него. Потому что такова цена, которую приходится платить за то, что что ты – первый: тебе всегда приходится быть и вторым. Я – они оба. Один – всегда оба. Бог и дьявол. Это двойной сеанс.
(Свет, падающий на Чарли, меркнет и гаснет полностью).
Чарли и сибирская богиня обезьян
Действующие лица:
ЧАРЛИ – знакомый нам персонаж, в дерби и с усами. Может, не сразу, но становится ясно, что персонаж этот – молодая женщина.
АНАСТАСИЯ – хорошо одетая, очень красивая русская женщина.
Декорация:
По первому впечатлению – мы в кабинете в каком-то старом здании. Старый письменный стол со стулом, старый кожаный диван, перед ним деревянный журнальный столик. Еще один стул. А может, это бутафорская в старом театре или съемочная площадка старого фильма.
(В темноте потрескивание пленки, которая движется в старом кинопроекторе, звучит «Океанская волна/The Oceana Roll» с заезженной пластинки. Мерцающий свет, словно мы смотрим немое кино, падает на ЧАРЛИ, человека в знакомом наряде Бродяги, с усами. Трость и дерби рядом. Чарли репетирует какой-то танец, может это неудачный дубль, а может, отснятый кусок, вырезанный при монтаже. Потом, из темноты в глубине сцены, слышится голос).
АНАСТАСИЯ. Фамилия? (Мерцание и музыка уходят. Мы видим, что ЧАРЛИ сидит на полу у дивана, и имитирует «танец с булочками» на журнальном столике. Из теней выходит АНАСТАСИЯ, красивая, хорошо одетая, уверенная в себе, с блокнотом и ручкой в руках, пристально смотрит на ЧАРЛИ). Фамилия?
ЧАРЛИ. Минуточку. Я работаю.
АНАСТАСИЯ. Пожалуйста, ваша фамилия.
ЧАРЛИ. Мою фамилию знают все.
АНАСТАСИЯ. Я – нет.
ЧАРЛИ. Чаплин.
АНАСТАСИЯ. Можете произнести по буквам?
ЧАРЛИ. Да.
АНАСТАСИЯ. Так, пожалуйста, произнесите.
ЧАРЛИ. Нет.
АНАСТАСИЯ. А ваше имя?
ЧАРЛИ. Чарльз.
АНАСТАСИЯ. Вы верите, что вас зовут Чарльз Чаплин?
ЧАРЛИ. Разве идентификация – вопрос веры?
АНАСТАСИЯ. Так вы верите?
ЧАРЛИ (глядя в темноту зрительного зала). Не думаю, что я раньше здесь играл. Там зрители, в темноте? Вроде бы я слышал рычание. Надеюсь, там нет чертова льва. Мне потребовалось тридцать семь дублей, чтобы сцена в клетке получилась, как должно, и всякий раз я думал, что он меня сожрет. Мой вам совет, никогда не работайте с животными.
АНАСТАСИЯ. Так вы в каком-то смысле укротитель львов?
ЧАРЛИ. Я также показываю танец с булочками. Ем ботинки. Катаюсь на роликах. Даю пинка под зад здоровенному полицейскому. Вы видели меня на экране. Знаете, что я делаю.
АНАСТАСИЯ. Вы действительно верите, что вы – Чарли Чаплин, комик?
ЧАРЛИ. Из какого фильма этот эпизод? По прошествии стольких лет они все начинают расплываться, как газетный шрифт под дождем. В «Кистоуне» мы выпускали по фильму в неделю. Понятия не имею, как нам это удавалось.
АНАСТАСИЯ. Если вы – Чарли Чаплин, тогда почему вы здесь?
ЧАРЛИ. Заглянул, чтобы съесть сэндвич с ветчиной. Горчица, швейцарский сыр и еще маринованный огурчик. И, пожалуйста, побыстрее.
АНАСТАСИЯ. Мы не подаем сэндвичи с ветчиной.
ЧАРЛИ. Ладно, пусть будет яичница.
АНАСТАСИЯ. Я здесь не для того, чтобы жарить яичницу с ветчиной.
ЧАРЛИ. Вы прекрасно справляетесь с ролью. Но давайте сделаем еще один дубль, на всякий пожарный. Начнем с вопроса: «Тогда почему вы здесь?»
АНАСТАСИЯ. Мы не снимаем дубли, и ничего не делаем на всякий пожарный. У нас не кино.
ЧАРЛИ. Отлично сказано. Это надо сохранить. Ладно. Поехали.
АНАСТАСИЯ. Как давно вы пребывали в уверенности, что вы – Чарли Чаплин?
ЧАРЛИ. Который теперь час?
АНАСТАСИЯ. Не знаю. Я вроде бы потеряла часы.
ЧАРЛИ (достает старые карманные часы). Вы про эти часы?
АНАСТАСИЯ. Как у вас оказались мои часы?
ЧАРЛИ. Я играл в зоопарке и на ипподроме Глазго с профессором Боско и его Магическим блошином цирком. Демонстрация профессором ловкости рук включала обчистку карманов. Если профессора угощали выпивкой, он давал вам урок. Но карманные часы оставлял себе. Мог уйти даже с солнечными часами в кармане. Но надо отдать профессору должное: он всегда дарил несколько своих ручных блох.
АНАСТАСИЯ. Так вы всегда были Чарли Чаплином?
ЧАРЛИ. Только с рождения. Не знаю, кем я был раньше. Это совсем другое кино.
АНАСТАСИЯ. Но в какой-то момент вы должны были быть кем-то еще.
ЧАРЛИ. Почему?
АНАСТАСИЯ. Потому что вы – не Чарли Чаплин.
ЧАРЛИ. Что ж, в этом случае я возьму два сэндвича с ветчиной. Один – для себя, а второй – для человека, который не я.
АНАСТАСИЯ. Почему вы думаете, что вы – Чарли Чаплин?
ЧАРЛИ. Почему вы думаете, что вы – Наполеон?
АНАСТАСИЯ. Не думаю я, что я – Наполеон.
ЧАРЛИ. Почему вы перестали быть Наполеоном?
АНАСТАСИЯ. Я никогда не была Наполеоном.
ЧАРЛИ. Значит, Наполеон из нас только один. Я ставлю фильмы, как Наполеон. Но на самом деле многие поколения моих предков – сапожники. Впрочем, дедушка был мясником, который специализировался на свиньях. Он женился на цыганке и управлял пабом. Жизнь – это пикник, если ты свиной мясник. Со скрипками. Мы жили на чердаке с мышами.
АНАСТАСИЯ. Вы и тогда были Чарли Чаплином?
ЧАРЛИ. Я был ребенком, которое каждое утро поднимался и спускался с третьего этажа, чтобы вылить ведро с помоями, и мастерил маленькие кораблики, которые пускал в темноте. Не в ведре с помоями. В Темзе. У моей матери было трое сыновей от трех разных мужчин. Что ж, она выступала в варьете, и ей требовался материал для ролей. Но иногда у нее съезжала крыша. Она могла сидеть у окна, наблюдая за незнакомцами, которые шли по улице, и выкрикивала забавные комментарии, касающихся их тайных страстей и преступлений. Она научила меня, что все создано из историй, если ты только не сочтешь за труд приглядеться внимательно. Но рассказывать истории опасно, потому что истории – это сила. Если твоей истории верят, ты можешь изменить реальность. Истории – они о трансформации, а любая трансформация сверхъестественна. Все переходы ужасны. Любое изменение кажется нереальным. Так что будьте осторожны, рассказывая истории. Расскажи историю не тем, кому следует, и они украдут твою душу.
АНАСТАСИЯ. И где сейчас ваша мать?
ЧАРЛИ. Ее раздавили на улице цирковые слоны. Никогда не работайте с животными.
АНАСТАСИЯ. А ваш отец?
ЧАРЛИ. Всегда стремился проявить себя в каком-нибудь новом жанре. И напивался до смерти. Мы обычно жили в работном доме, а когда мать в очередной раз сходила с ума, нас отправляли к отцу и его новой жене, которая сама любила выпить, и терпеть меня не могла. Потом нас перекидывали обратно к матери, как воланы. Печальная история. Так как вы попали в шоу-бизнес?
АНАСТАСИЯ. Я не в шоу-бизнесе.
ЧАРЛИ. Что ж, продолжайте ходить на просмотры. Может, настанет день, когда вам повезет.
АНАСТАСИЯ. А как вы попали в шоу-бизнес?
ЧАРЛИ. Однажды я вечером шел по Лондону и услышал какую-то удивительную музыку. Пошел на звук сквозь туман, и оказался в пабе. Фисгармония и кларнет играли мелодию «Жимолости и пчелы», веселой песни, но играли меланхолически, и я почувствовал, как все волосы на загривке встали дыбом. Я был абсолютно зачарован красотой этой музыки. Потом присмотрелся к музыкантам. Кларнетист был пьян, а у мужчины, играющем на фисгармонии, лицо пересекал ужасные шрам, вместо глаз зияли пустые глазницы. Я словно получил личное послание от Бога, которого до этого момента полагал совершенно вымышленным персонажем, как Робинзона Крузо.
АНАСТАСИЯ. И что это было за послание?
ЧАРЛИ. Я понятия не имел, до того вечера, когда моя мать потеряла голос прямо на сцене, не допев песню. Толпа начала кричать, требуя вернуть деньги, и какому-то садисту пришла в голову блестящая идея – вытолкнуть на сцену маленького мальчика, принести, так сказать, человеческую жертву. Из темноты в свет. Как при родах. Так я стоял, глядя на море уродливых, злобных лиц, напоминающих демонов в аду. Потом начал петь и танцевать.
(Начинает танцевать, изображая объятого ужасом ребенка, каким себя помнил, и поет «Жимолость и пчелу»[1]1
On a summer afternoon
where the honeysuckles bloom,
when all nature seemed at rest.
'Neath a little rustic bower,
mid the perfume of the flower,
a maiden sat with one she loved the best.
As they sang the songs of love,
from the arbor just above,
came a bee which lit upon the vine;
as it sipped the honey-dew,
they both vowed they would be true,
then he whispered to her words she thought divine:
You are my honey, honeysuckle,
I am the bee,
I'd like to sip the honey sweet
from those red lips you see,
I love you dearly, dearly,
and I want you to love me,
you are my honey, honeysuckle
I am the bee.
[Закрыть]):
«В летний теплый день,
когда жимолость цветет,
А вся природа отдыхает,
В маленькой сельской беседке,
Среди аромата цветов,
Сидела девушка с возлюбленным.
И пока они пели песни любви,
С дерева над ними
Спустилась пчела и села на цветок.
И пока она пила нектар,
Она оба поклялись быть верными друг дружке,
А потом он прошептал божественные слова:
«Жимолость, ты мой нектар,
Яже – твоя пчела.
Я хочу слизывать сладкий нектар
С этих алых губ,
Я люблю тебя нежно, нежно,
И хочу, чтобы ты любила меня.
Жимолость, ты мой нектар,
Я же – твоя пчела».
(Грациозно заканчивает танец).
Я рассказывал анекдоты. Изображал других людей. Не знал, что я, черт побери, делал. Словно кто-то другой, живший во мне, управлял моим телом. Это был Чарли. Они смеялись. Они восторженно кричали. Они бросали деньги. Я остановился, прервав песню и танец, чтобы собрать деньги. «Ах, – подумал я, – вот что такое искусство. Всегда сначала подбери деньги, пока они не передумали. Потому что они обязательно передумают, рано или поздно.
(Вновь поет и танцует).
«И под небом таким голубым,
Двое влюбленных счастливы вместе,
Сердца их наполнены блаженством
Сидят друг с дружкой,
И он попросил стать его невестой.
«Да», ответила она и поцеловала его,
Ибо сердце ее уже сдалось.
В аромате жимолости,
Теперь по жизни они пойдут,
И он поклялся, что как пчела:
«Построю я дом для тебя».
А пчелка, сказала, услышав их:
«Ты мой мед, жимолость,
Я – твоя пчела.
Я хочу слизывать сладкий мед
С этих алых губ,
Я люблю тебя нежно, нежно,
И хочу, чтобы ты любила меня.
Ты мой мед, жимолость,
Я – твоя пчела»[2]2
So beneath that sky so blue,
These two lovers fond and true,
With their hearts so filled with bliss,
As they sat there side by side,
He asked her to be his bride,
She answered “Yes” and sealed it with a kiss.
For her heart had yielded soon,
‘Neath the honeysuckle bloom,
And thro’ life they’d wander day by day.
And he vowed just like the bee,
“I will build a home for thee,”
And the bee then seemed to answer them and say:
You are my honey, honeysuckle,
I am the bee,
I’d like to sip the honey sweet
From those red lips, you see
I love you dearly, dearly,
And I want you to love me,
(Big finish.)
You are my honey, honeysuckle,
I am the bee.
[Закрыть].
(Тут же, без паузы переходит к разговору).
Потом я оказался в танцевальной группе «Восемь ланкаширских парней». Десять минут безумной чечетки в деревянных башмаках в каждой продумаемой всеми ветрами, крысиной, вонючей дыре на Британских островах. Сыграл кошку в «Золушке». Мочился на помрежа. Играл в театральных проектах Фреда Карно. Мы изображали полицейские погони в городах. Я делал сальто с балкона и приземлялся на диван уже с раскуренной сигарой. Представить себе не могу, как я это делал. Молодые слишком невежественные, чтобы понять, что такое невозможно. Но когда Карно думал, что ты напортачил, из-за кулис раздавалось пренебрежительное фырканье. (Демонстрирует фырканье). Нет, подождите. Скорее вот так. (Фыркает громче). Нет, нет. (Оглушающее фырканье). Хотите, чтобы я произнес это по буквам?
АНАСТАСИЯ. Нет. Думаю, я поняла.
ЧАРЛИ. Зачем вам это надо?
АНАСТАСИЯ. Я пытаюсь понять, откуда берет начало это заблуждение, и почему.
ЧАРЛИ. В этой жизни ты хватаешься за заблуждение и распыляешь веселящий газ, когда только это возможно. Я всегда был прирожденным мимическим актером. На сцене я всегда знал, кто я. Все сцены ваша догадка была ничем не хуже моей. Какое-то время я был юношей, который любил Хетти Келли. Она танцевала в группе «Девушки Янки Дуддля» и мыла лицо мылом «Солнечный свет». С той поры я всегда искал девушку, от которой пахло этим мылом. Я думал, жизнь моя закончена, когда я ее потерял. Стэн Лорел сказал мне: используй это. Используй каждый разрыв, который тебе приходится пережить. И он был прав. Находи капельку меланхолии в грубой комедии. Момент неожиданной нежности заставит ее заиграть по-новому.
АНАСТАСИЯ. То есть вам всегда было удобнее притворяться, будто вы кто-то еще.
ЧАРЛИ. Я не притворялся, будто я – кто-то еще. Я просто прекращался в кого-то еще. Словно надевал другой костюм. Именно тогда я чувствовал себя, как дома. После моего последнего вечера на сцене я видел в бутафорской и плакал.
АНАСТАСИЯ. Если вы так любили сцену, почему ушли?
ЧАРЛИ. Я любил сцену, но ненавидел зрителей. Сегодня они тебя любят. Завтра они тебя ненавидят. Ты – раб толпы, которой не можешь доверять. Если ты сегодня сыграл хорошо, ты должен сделать тоже самое и в следующий вечер. Проблема в том, что зрители – это люди, а люди изначально переменчивые. Что происходит у них в головах, если они вдруг решают, что больше не любят тебя? Такое ощущение, что они тебя даже не видели. Они смотрели на отражение этого человека в зеркале. И, возможно, человек, которого они любили, когда думали, что любят тебя, тоже был нереальным. А камеру я полюбил с самого начала. Камера – магический портал. Свет отражается от того, что ты делаешь. Камера впитывает свет и переносит его обитателям темной вселенной по другую сторону зеркала. И ты можешь делать сколь угодно много дублей, а им показываешь только лучший. Мысли возникают у тебя в голове, и ты тут же пытаешься их реализовать. Снимать кино – все равно, что делать сосиски. В ход идет все, что у тебя есть. С кино я могу исчезнуть в своей работе. Вне экрана я – никто.
АНАСТАСИЯ. Так все-таки, вы – никто или вы – Чарли Чаплин?
ЧАРЛИ. В первом фильме я был никем. Потом, после череды дождливых дней в «Кистоуне», я начал превращаться в кого-то. Огромные штаны Толстяка Арбакла и маленькая дерби его тестя. Крошечная жилетка маленького Чарли Эйвери. Ботинки Форда Стерлинга четырнадцатого размера. Главное, чтобы они с тебя не сваливались. Усы Мака Суэйна, аккуратно подстриженные. Походка, как у Рамми, который держал лошадей у паба. И внезапно я понял, кто я.
АНАСТАСИЯ. Персонаж, который вы создали из выброшенный одежды в дождливый день. Это вы?
ЧАРЛИ. Все такие. В принципе, мы все созданы из выброшенной одежды. Я – груда такой одежды, и имя мне – Маленький Бродяга. Хотя быть знаменитым – не так и весело, как вам может показаться. У вас есть определенные сомнения, а из-а кого столь много суеты. Люди большую часть времени такие несчастные, и если вы даете им возможность посмеяться несколько минут, они вам невероятно благодарны. НО как только вы перестаете их смешить, они набрасываются на вас, как на бешеную собаку. Чарли Чаплином быть непросто.
АНАСТАСИЯ. И, наверное, это еще сложнее, если вы только думаете, что вы Чарли Чаплин.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































