Текст книги "Колокола и ветер"
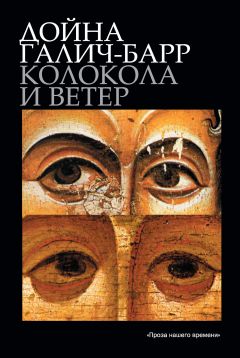
Автор книги: Дойна Галич-Барр
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
11
Крест на шее младенца
Как мне хотелось ощутить в животе движения ребенка, новую жизнь в себе. Я пела бы ему – этому маленькому человеческому существу, если б дано ему было увидеть свет. Я мечтала о материнской улыбке – всей любовью, которой одарил меня Бог. Все мои мечты, как унесенные отливом, были утоплены неведомым мне решением. Я примирилась, но не понимала. До того самого момента, когда мое недоумение утратило всякий смысл. В последнем письме, которое написал мне Андре, в дневнике, что он мне оставил, а по воле его, и в завещании, которое я должна была исполнить, крылась тайна его жизни. Только теперь я осознала, почему он не хотел детей, поняла, из-за чего он не желал быть отцом.
Я смотрела на его серое, окоченевшее тело, и открывшаяся тайна будила во мне мысли о трагизме жизни, ничтожестве страсти и эгоизме мечты. Он казался мне незнакомцем, я видела его словно впервые, как будто он никогда не имел ко мне отношения. Старый, элегантный даже в гробу, а на груди – портрет молодой темнокожей девушки с крупными миндалевидными глазами и длинными, густыми, курчавыми волосами. Одетая в эфиопский костюм красивейших цветов, она улыбалась, как улыбается только счастливая женщина, когда ждет ребенка.
По возвращении из Эфиопии, за неполных сорок дней до смерти, Андре стал похож на человека, уже перешедшего на ту сторону. Попросил, чтобы я по фотографии сделала ее портрет маслом. Отказался от всякой врачебной помощи и ушел в себя. Знал, что скоро умрет. Тогда он не сказал, зачем ему портрет неизвестной мне женщины, не открыл, кто она. Я подчинилась его просьбе, и это ему, хотя бы внешне, подняло настроение. Он стал нежным существом, его преданность была трогательна.
Я заметила в нем перемену. Объясняла ее болезнью, меланхолией, тем, что долгие часы провожу на работе. Он хотел, чтоб я прекратила врачебную практику. Требовал моего неотлучного присутствия, будто предчувствуя скорую смерть. Я постоянно была рядом с ним. Мне казалось, он молится, чтобы смерть поспешила, хотя чувствовал, как я его люблю. Отказался от терапии и стал весьма набожен. Это была огромная перемена.
Андре еще в отрочестве перестал быть верующим, но никогда не рассказывал, почему так случилось. Не веровал, а любил мои работы. Мог часами смотреть на иконы, которые я завершила, часами наблюдать, как святой лик рождается на новом полотне, поставленном на мольберт. Перешел в православие. Мы вместе читали Священное Писание, он его внимательно анализировал и вскоре знал почти наизусть. Тут, со Священным Писанием в руках, мы были ближе друг к другу. Ожидание смерти освободило нас от неизвестности. Мы разговаривали не только об истории изначального христианства, православия, о потребности в вере, но и о судьбе нас, грешных, о значении и красоте жизни, о долге помогать другим в испытаниях и о неизбежности смерти. Прежде я не задумывалась, о чем говорят супруги, когда один из них обречен вскоре уйти из нашего мира.
Неужели наш интеллект не может без опыта страдания помыслить о такой возможности, подготовиться к тому, что мы захотим сказать или почувствуем? Может быть, с любимым человеком мы избегаем касаться тем, которых боимся: ведь как тут ни готовься, слово вносит страх и неуют. Как говорить о приближении смерти, чтоб не усилить боли обреченного?
Он стал мне ближе, его больше не занимали его предки и старина. С тревогой говорил о судьбе страдающих от голода и нищеты народов, о росте среди них детской смертности и болезней: СПИД, малярия, проказа… Он хотел, чтоб я продолжила его миссию денежной помощи, просил, чтоб я учила детей, особенно церковной живописи.
Я слушала его со все большим уважением и восхищением. Он забывал о своем состоянии, горевал о судьбе детей Африки и других, опаленных войной. Я впервые увидела, как он плачет навзрыд. Он говорил о больной совести человечества и о своих угрызениях – о том, что мы живем в изобилии, а так мало помогаем беззащитным и голодным. Только теперь мне понятно, что в этих разговорах – выставляя счет своей совести – он искал моего прощения и понимания, но тогда я этого не знала.
Когда я прощалась с ним, мне было страшно его коснуться. Пока не закрыли гроб, на меня смотрели с портрета янтарные глаза женщины, которую он звал Дельта, а я не могла отвести взгляда от ее живота. Я разрыдалась. Не только потому, что хоронила Андре, но и потому, что мне никогда не узнать счастья беременной женщины, которое я видела в блеске ее глаз и в улыбке, вызванной тем, что она несет в своем теле новую жизнь.
Мне не хватало Андре каждый день. Я отдала бы все, только бы он был жив, даже если бы он решил быть вместе с Дельтой. Все еще слышу его дрожащий голос.
Я с уважением отнеслась к его признанию, пусть даже в виде письменного завещания, что он всю жизнь любил единственную женщину, мать своей дочери Андреяны. Он звал любимую Дельта. Это имя – которое в Эфиопии дается девочке, приносящей удовольствие и радость, – в переводе означает: «желание». Дельта, подобно своему имени, была единственным источником желаний Андре, единственной его радостью, матерью его ребенка, той женщиной, которой он жаждал всегда… а меня только звал любимой.
В юности он писал о ней восторженные любовные стихи, сравнивал бока ее с крупом антилопы, а живот с луной. Стихи говорили о том, что вся она – ее волосы, дикие в своей красоте, и полные губы, которые он любил и целовал, – рождала в нем сладкое телесное безумие. Ласковый лепет и речь его страсти звучали на непонятном языке Эфиопии. Лишь однажды, в любовном самозабвении, он обратился ко мне на этом языке. Дикая эротика, зов Африки, поработила его. Вид их красивых молодых тел, слившихся в неистовых, жарких объятиях любви, возникал у меня в сознании по несколько раз на дню. Это усилило во мне маниакальную тревогу, трепет, желание однажды испытать неведомый экстаз. Я ощутила разницу в его отношении к ней и к себе. И не могла себе лгать.
Я приняла эту истину, призналась себе, что это две совершенно разные любви и их невозможно сравнивать. Та любовь основывалась на нарушении права на дружбу, на секс, была запрещена родителями и обществом – тогда в Америке были неприемлемы смешанные браки белых и темнокожих. Сегодня трудно понять, почему в то время, как у американских негров не было тех же прав, что у нас, мы были уверены, что мы великодушные, верующие христиане. Это позорная глава американской истории, противоречащая стремлению к передовому социальному устройству, которое требует равенства всех людей, ибо и десять Божьих заповедей для всех едины.
Дельта не была рабыней. Среди ее соплеменников были известные, образованные люди, наделенные властью, но из-за темной кожи, внешности и происхождения белая раса на Западе их не признавала. Само время было против Дельты и Андре. Они полюбили друг друга в эпоху нетерпимости и расовых предрассудков. Традиция, вера, честь и строгая мораль известного племени, к которому принадлежал отец Дельты, стали теми присяжными, которые вынесли ей приговор. Были неприемлемы ни внебрачная беременность, лишенная родительского благословения, ни брак, не подтвержденный местным церковным ритуалом. Отец назначает наказание, хотя мать возражает. Она принадлежит к прогрессивному православному племени, понимает, что возможны отроческая любовь и ранняя беременность. Она бы помогла Дельте поднять ребенка. Из-за переживаний ее разбивает апоплексический удар, перед смертью она умоляет мужа простить дочь. Отец в гневе произносит много неприятных слов, не предполагая, что Дельта слышит ссору родителей. Мать вручает ей старый эфиопский православный крест и благословляет ее. «Не забывай Христа, и он тебе поможет», – последние слова матери, которые слышала Дельта.
Дельта принимает назначенное наказание, не бунтует, ибо чувствует себя грешницей. Винит себя в смерти матери и в позоре, которым покрыла семью. Ей снятся колдуньи и мертвецы, они восстают из гробов и зовут ее с собой. После родов кошмары не прекращаются: она говорит с мертвыми и матерью, молит о прощении. Просит мать защитить дитя, которое будет у нее отнято. Из-за психического срыва она остается в больнице, а тем временем отец Дельты разрешает удочерить внучку, сохранив в тайне, кто ее новые родители. Последнее, что помнит Дельта, – как она надела свой крест на шею младенцу.
Дельта и Андре не увидят, как растет их ребенок, не будут знать, где он живет. Их любовь наказана вдвойне: они не могли видеть свое дитя и не могли больше встречаться сами. Все, что у них есть, – тени нежных встреч в далекие дни, в сгустившейся тишине. Разве кто-нибудь, кроме матери, имеет право решать судьбу ребенка? – спрашивала я себя. Кара взрослых была жестока и эгоистична. Невозможно понять разумом, какими мотивами они руководствовались, пусть даже зная, что ребенка-полукровку ждет в Америке тяжелая и трудная жизнь. Мне кажется, что мой богатый свекор, которого знали и ценили в высшем обществе, больше думал о своей деловой репутации, чем о том, как это скажется на будущем его сына. Согласившись, чтобы отец Дельты был судьей, он не интересовался, какое принято решение. О Дельте в доме больше не говорили, как если б ее никогда не было. Андре отослали на несколько месяцев к дядюшке во Францию.
Семья Андре долго жила в Эфиопии и здесь разбогатела. Здесь он родился. Его отец был послом, а до этого у него был бизнес в Африке. Отец Дельты был его переводчиком и доверенным лицом. Дети росли вместе. Между семьями завязалась дружба, но эта обманчивая связь существовала только в Эфиопии, где отец Дельты был известен как мудрый, порядочный, глубоко православный человек. Знаток многих языков, он был подготовлен для дипломатической службы, с его помощью американский посол достиг больших успехов в Эфиопии. Потом все уехали в Америку. Здесь продолжилась единственная, невинная любовь гимназиста.
Андре любил Эфиопию, знал ее языки. Детьми он и Дельта вместе посещали монастыри – те, куда дозволялось входить и женщинам. Он восхищался увиденными фресками и иконами. Дельта хорошо их знала, ведь ее семья была очень благочестива. Из поколения в поколение мужчины были священниками, как и братья ее отца. Отец Дельты возил Андре в монастыри, которые могли посещать только мужчины. Рассказывал ему о христианстве в Эфиопии, об истории византийской культуры и этих областей. Эфиопия известна именно тем, что добрая половина ее населения – православной веры. Она знаменита своими древними иконами, фресками, крестами и священными книгами, хранящимися в монастырях и церквах. В одной из областей страны монастыри были скрыты в скалах из-за оттоманского нашествия и экспансии ислама.
Христиан изгоняли, как было и в истории моей родины, на Балканах. Я рассказывала вам об этом. Вы хорошо знаете, как на наш народ из века в век нападали и отнимали наши земли. Может быть, поэтому нам так близки композиции Сибелиуса, особенно та, что была под запретом в период, когда доминировала ориентация на Россию. Эта симфоническая поэма – «Финляндия» (изначально она называлась «Суоми», а за границей была известна под названием «Отечество») – дышит любовью к родному краю, ее оркестровка прокладывает путь к каждому сердцу.
Студентом Андре изучал историю Эфиопии и Африки, которая привлекала его всегда, особенно после того, как он потерял Дельту. К нему все время возвращались воспоминания об уникальных эфиопских монастырях, о разговорах со священниками и монахами о вере, смерти и любви. В учебе он словно искал возлюбленную и находил утешение, познавая ее родину, где они были счастливы. Все его там восхищало и влекло с магнетической силой. Он любил православные крестные ходы, литургию и многоцветные рясы эфиопского духовенства, огромные цветные зонты, которые казались облаками, посланными с неба, чтобы укрыть и защитить веру и ее служителей. Никогда больше он не видел более величественных и прекрасных крестов, по крайней мере так ему казалось. Все в Эфиопии казалось ему прекрасным и величественным. Он вспоминал только хорошее, как ребенок, у которого было счастливое, мирное детство, который не видел ни голода, ни малярии, ни проказы, ни детей, умиравших изо дня в день. Об этом не говорили в доме посла и на приемах у богатых людей.
Да и отец Дельты, любивший его как сына, которого у него самого не было, не водил его туда, где были нищета и болезни. Он хотел, чтобы Андре запомнил монастыри, впитал то чудо христианства, что было важнейшей частью его жизни, его борьбы за веру. Они объездили почти всю Африку. Описания этих областей, сделанные Андре, можно печатать – до того они хороши. Отец Дельты возил Андре и дочь на сафари (он называл это «зовом дикой природы») и в Восточную Африку, что произвело на Андре особое впечатление. Он увидел здесь красоту, о которой можно тосковать, но которую невозможно запомнить и даже невозможно осознать, что такая красота существует на земле – ангельская, астральная, эзотерическая. Он возвращался в эти места и потом, как турист и по делам, а более всего как человек, плененный естественной красотой древнего коптского христианства.
Дельта была ему подругой, радостью первой невинной любви, трепетом первого поцелуя и духовной красотой тела, которая остается в памяти навсегда. Она была двумя годами старше, чем он, зрелей и мудрее. Часто она пела на приемах в посольстве. Отец Андре однажды сказал: «Дельта будет оперной певицей, если семья поедет с нами в Америку».
И через много лет Андре всегда проявлял понимание, находил оправдание всему, что относилось к Эфиопии, стране, которую он называл и своей, потому что здесь родился и жил до двенадцати лет. То были самые счастливые его годы, особенно начало юности, с первыми порывами любовной страсти в маленьких, уютных, скромных хижинах среди дикой природы. Расставание он пережил как смерть любимой и никогда не перестал тосковать.
С того момента, когда ее родня вынесла тяжкий и суровый приговор – вернуть Дельту из Америки в Эфиопию, Андре превратился в тень. Никто не знал, где Дельта. Оторванная от своих, приговоренная к тому, чтобы ничего не знать ни о своем ребенке, ни об Андре, она уходит в монастырь и становится монахиней. Ей дали имя Благодата. Монахини приняли ее без осуждения. Она писала дневник и перед смертью передала его игуменье, чтоб та послала его мне. Другое письмо было послано Андре.
Я помню тот большой конверт и тот день. Как только он получил письмо, я заметила в нем перемену, но приписала ее болезни. А он, ничего не объяснив, отправился в Эфиопию.
12
Боль женщины
Моей первой реакцией при чтении дневника было ощущение личного поражения как женщины. Обескураженная открытой тайной, я спрашивала себя: что же я значила для Андре в браке, который был счастливым, но бездетным. Выходит, наша любовь была иллюзией, решительно сказала я себе.
Возможно, первая реакция объяснялась пороком самовлюбленности. Ведь это свойство человеческой психики: мы легче принимаем сокрытие истины, даже ложь, чем поражение. Кажется, прошло довольно много времени, прежде чем я смогла вновь осмысленно воспринимать не только переживания других людей, но и самое себя.
После первого шока, читая о роковой разлуке Дельты и Андре, я постепенно пережила метаморфозу: ревность и гнев трансформировались в близость и любовь. Я больше не считала себя жертвой, а в них увидела мучеников. Неосознанно я создала ограду вокруг нашего брака, чтобы погрузиться в чтение и осознать трагедию их судьбы.
Пробужденное понимание как магнит притянуло меня к ним. Я стала частью их судеб. Вместо того чтоб ревновать, восхищалась прочностью их связи, сострадала их боли, поражалась тяжести наказания, особенно для нее как для матери.
После их смерти и похорон в Эфиопии, после того, как я поработала для монастыря, открыла школу византийской иконографии и фрески, мы подружились и стали переписываться с игуменьей Иеремией. Она мне теперь как мать, так я ее и зову.
«Благодату мучила совесть, – писала мне игуменья перед моим приездом. – Грешница, она наказывала себя и немилосердно умерщвляла плоть всеми истязаниями, известными в Эфиопии. Закованная в тяжкие вериги, с тяжелым камнем на голове, ходила за много километров в монастыри – причащаться и просить отпущения грехов. Часто ее не принимали, потому что ни женщинам, ни самкам животных не дозволялось входить на церковный двор. Она выбирала самые отдаленные монастыри, чтоб дольше ходить под грузом камня, а вернувшись – голодная, с окровавленными стопами, сразу становилась на молитву».
В агонии, физической и душевной, Дельта слагала церковные песнопения и проваливалась в сон. Иногда, в полупомешательстве из-за обезвоживания, пела колыбельные и укачивала ребенка. Как будто новорожденный был у нее на коленях. Вспоминая время, когда у нее отняли дитя, которое она кормила грудью, она звала дочь по имени – Андреяна.
Мать Иеремия с молитвой мыла и перевязывала ей израненные ноги. Колокола звонили всю ночь, ибо только этот звук постепенно вселял покой в душу той, что объявила себя грешницей.
Подавив в себе боль обманутой женщины, я сказала, что сделаю все, о чем просил Андре. Меня долго мучала совесть, что я позволила себе ревновать, в поисках выхода помышляла о самоубийстве и бегстве.
Может быть, сперва я хотела наказать их за скрытую тайну, не выполнять их желаний? Почему они избрали меня тем человеком, который возьмет на себя столь трудную обязанность – найти их дочь? Что-то во мне спрашивало: а может, избрали потому, что знали меня лучше, чем я сама знала себя? Знали, что я сумею передать их дочери, если и когда отыщу ее, чистую правду о том, почему ей было запрещено узнать своих родителей. Знали, что исполню завещанное и передам Андреяне немалое состояние, доставшееся ей от отца.
Вы спрашиваете, возможно ли, чтобы из разочарованной женщины, которая в браке не знала правды, я могла превратиться в защитницу тех, кто меня ранил?
Смерть открыла тайну, но истина была так человечна, скорбна и прекрасна, что личные страдания уменьшились, впитав их трагедию, словно она была и моей. Да, это оказалось возможно, поскольку моя боль открытия истины была несопоставима с их мученической жизнью.
Человеку тяжело принять истину. Тяжело открыть тайну, тем более ту, что подвергает испытанию его доброту и касается его непосредственно, независимо от того, хочет он того или нет.
Меня лихорадит – не знаю, оттого ли, что под вечер похолодало, или оттого, что я рассказываю вам об их судьбе, в которой теперь, после их смерти, участвую и я. Они сопутствуют мне, как ветер с Желтого Нила, врывающийся в ущелье, где монастырь и где их прах.
Музыка, которую мы слушаем, пока я рассказываю вам о своей жизни, часто вызывает во мне бурные чувства или, напротив, сильное ощущение гармонии и счастья, оттого что я здесь, рядом с этим монастырем и монахинями. Земные отношения стерты из моей памяти, ибо и монахини оставили земную жизнь, бурю человеческих отношений и обрели покой в молитве, посвятив себя Богу, как это сделала и Дельта. Я понимаю монахинь и восхищаюсь ими все больше. Чувствую причины их мистической связи с Христом – они те же, что у апостолов его.
И я – фрагмент Божьей рукописи мира – благодаря молитвам и тому, что создаю фрески и мозаики, могу рассказывать вам о земных скорбях без слез и сожаления о том, что я сама – часть повести о них. Повесть эта во мне непрестанна, она не завершена, пока я не исполню все их желания.
Возможно, для вас в этом есть противоречие, но жизнь всегда парадокс. В одной и той же комнате два мира сплетаются, сталкиваются и сосуществуют в гармонии, разве не так?
13
Мед с акации
Сегодня больше чем когда-либо я сомневаюсь, существуете ли вы вообще, или вы только музыка, которая слушает меня так же, как я ее. Вы тщательно выбираете, что мы будем слушать. Во всех композициях есть что-то неземное, мощное, иногда недоступное и тайное, как будто, создавая шедевры, композиторы общались с Богом, историей и судьбой рода человеческого, с космосом. Кто бы мог подумать, что в нотной системе из пяти тонов и хроматической лестницы полутонов кроется мистерия звуков, тайна энергии и волшебства, трагическое, скорбное, но и утешительное начало, дающее надежду на то, что мир победит жестокость и зло.
Музыка как любовь, как жизнь, даже в величайшей радости несет следы печали. Она обладает мистической гармонией мелодии, выявляет законы связи между аккордами и внушает жажду свободы, противление рабству и тирании, любовь к душе, страсть к телу. Инструменты, особенно арфа и орган, говорят об ангелах и Боге, о человеческой судьбе, борьбе добра и зла, о грехе и уповании на прощение. Очеловеченность звуков и голосов – это не избыток энергии, как полагал английский философ Герберт Спенсер, но ее открытая сублимация.
Музыка свободно перерабатывает различные события и даже сложные человеческие отношения. То, что мы не хотим читать в глазах любимого, мы вытесняем, пугаясь того, что можем найти и осознать. А музыка не скрывает ничего. Она – больше чем слово и интонация, – только истина, всегда истина.
У вас глубоко посаженные темно-синие глаза. Их цвет обнаруживается только при свете дня, при другом освещении они кажутся темными. Как эта музыка: сперва тихая и спокойная, аллегро модерато, вдруг нарастает в крещендо и вивациссимо, открывая звуки внутренней борьбы, вызванной воспоминаниями. Эти глаза привлекли меня и, наконец я это поняла, напомнили мне глаза Николы. Может, поэтому вы мне близки и я люблю ваши посещения? А вдруг и он прячется в этих глазах, и он слушает? Мои ответные визиты имеют тот же смысл.
Быть может, и вы когда-то любили, как я, и убежали сюда, чтобы в тишине и уединении найти то, чего ждете от жизни, от себя и от других, как надеюсь на это и я?
Вижу, ваш взгляд отдалился; вы больше не здесь, на нашей веранде, где мы встречаемся почти каждый день и говорим обо всем. Ваше молчание стало моим активным собеседником. Я задаю столько вопросов – не коснулась ли я чего-то, от чего вы бежите? Чувствую, как вы вздрогнули. Реагируете на то, что я вам рассказала, или я затронула в вас что-то свое? Сон, который вам снился, но ясен и свеж, как явь?
Вы молчите, значит, вы размышляете, вас этот рассказ взволновал, как волнует меня. Может, и мы встретились как две астральные сущности, блуждающие на грани реальности и грез? Ваше лицо мне знакомо и близко, но причина узнавания не вполне ясна. Иногда я думаю, что вы порождение моего одиночества, фата-моргана в человеческом облике, плод моей жажды произнести этот монолог. Существуете ли вы, или вы – моя иллюзия, воплощенная мечта? Не на краю ли я душевного надлома, не галлюцинирую ли я? А если вы, мое видение, – один из выходов из этого кошмара, контакт с внешним миром?
Слышите, как звонят колокола! Они непрестанно звучат в тихом струении воздуха, будто знают, что благодаря им я еще чувствую, что живу, что я не одна.
Сегодня я заварила чай с медом, но может быть, вы хотите абрикосового сока? Боже, сколько бессмысленных слов – только б засыпать ими мотивы исповеди. Легче выслушать жизнь другого, чем рассказать свою.
Но как бы там ни было, я хочу рассказать ее вам – здесь, в этих лесах, в уединении, вблизи монастыря, где скромные монахини напоминают нам, что Бог повсюду, хотя порой мы пытаемся скрыться от мира, от себя, от своей греховности и от совести. Или мы только прячемся от смерти, в которую не верим?
Здесь все знают, что вы сочиняете музыку. Вы играете на многих инструментах, больше всего на арфе, поете, пишете, разводите пчел и качаете мед. Вот ваш мед с весенних цветов и акации. Вы недавно мне его дали, я узнаю его запах. Пчелы трудолюбивы, как монахини, хотя смысл их труда для нас непостижим. Это закон тайны, он спасает от гордости и бренности.
Ваши внимательные глаза и ласковые слова каждый день спрашивают меня, зачем я здесь. От чего бегу? Что заставило меня приехать в этот отдаленный монастырь, где нет телевизора, радио, телефона, куда не добраться на современном транспорте, а надо часами идти через леса, луга и ручьи, правда, без всякой усталости? Вы спрашиваете, почему молодая американка, по происхождению сербка из Белграда, дочь врача, писательница, живописец фресок и мозаик, выбрала этот монастырь, где богослужение не менялось веками, где есть связь с Всевышним, но не с нынешним миром?
Время здесь измеряется чередой сезонов и праздников. Я завидую монахиням – они спокойны, всем довольны, далеки от ненависти, земных страстей и желаний. Они связаны с небом, как ангелы. На их лицах всегда улыбка, они никогда не хмурятся. Тяжелый труд – и никаких причитаний. Порхают, как мотыльки, в своих черных рясах и поют духовные гимны, как Божьи соловьи по весне. Как достигли они этой гармонии души и тела, полностью избавились от людских страстей и желаний, которые часто доводят до отчаяния?
У нас то же тело, но не душа, ибо мы, грешники, привязаны к земному, материальному. Здесь, мне кажется, в молитве больше святости, а в скромности жизни и служении Богу понимаешь Христа глубже, словно живешь в его эпоху, его время.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































