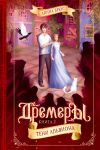Текст книги "Покой"
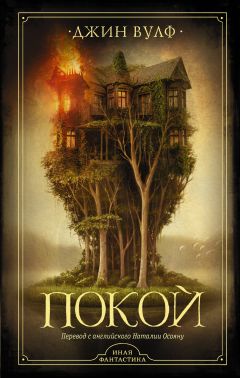
Автор книги: Джин Вулф
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Джин Вулф
Покой
Gene Wolfe
PEACE
Публикуется с разрешения наследников автора и Virginia Kidd Agency, Inc. (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)
Copyright © 1975 by Gene Wolfe
© Наталия Осояну, перевод, 2023
© Василий Половцев, иллюстрация, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
1. Олден Деннис Вир
Вяз, посаженный Элеонорой Болд, дочерью судьи, рухнул прошлой ночью. Я спал и ничего не слышал, но, судя по количеству сломанных веток и размерам ствола, грохот был жуткий. Я проснулся, сидя в своей постели перед камином, однако к тому моменту, когда сознание окончательно вернулось ко мне, уже не было слышно ничего, только с карниза падали капли от тающего снега. Помню, сердце выскакивало из груди, и я испугался, как бы не случилось приступа, а затем пришла неясная мысль, что приступ-то меня и разбудил – выходит, я могу быть мертв. Я стараюсь как можно реже зажигать свечу, но в тот раз все-таки зажег и сидел, завернувшись в одеяло, радуясь свету и перестуку капели, таянию сосулек, и казалось, весь дом тает, будто воск: размягчается и стекает на лужайку.
Сегодня утром я выглянул в окно и увидел дерево. Взял топорик, вышел наружу и разрубил несколько сломанных веток на куски поменьше, которые бросил в огонь, хотя было уже не холодно. С той поры, как со мной случился удар, я не могу пользоваться большим канадским топором с двойным лезвием, но по крайней мере пару раз в день читаю надпись, выжженную на рукоятке: «„Бантингс Бест“, 4 фунта 6 унций, ручка из гикори». Другими словами, инструмент был заклеймен, как молодой вол; когда я прочитал эту надпись в трехсотый – а может, четырехсотый или пятисотый – раз, до меня дошел смысл выражения «пробу негде ставить»: на штуковины вроде моего топора (и, без сомнения, на другие вещи, особенно в те времена, когда многое делали из дерева) после проверки ставили тавро производителя; иногда это делал сам проверяющий, подтверждая апробацию. Таков был последний этап производственного процесса, после которого новинку выставляли на продажу, пометив лишь единожды. Жаль, что это пришло мне в голову только теперь, когда некому рассказать, но, возможно, так даже лучше; я заметил, что вопросов такого рода довольно много, и люди предпочитают не знать ответы на них.
Когда я еще жил с тетей Оливией, муж купил ей дрезденскую статуэтку Наполеона для каминной полки. (Полагаю, фигурка еще там – это вполне вероятно; надо лишь отыскать нужную комнату и проверить.) Гости часто удивлялись, почему Бонапарт прячет одну руку под жилетом. Так уж случилось, что я мог все объяснить, поскольку прочитал об этом где-то за год до того – кажется, в биографии Наполеона, написанной Людвигом.[2]2
Подразумевается классическая биография Наполеона, впервые опубликованная в 1926 году, автором которой был Эмиль Людвиг, немецкий писатель и известный биограф. Однако в биографии ничего не говорится о причине, по которой император именно так держал руку; на эту тему существовало и существует немало теорий, упоминающих некое калечащее ранение, первые симптомы рака желудка или сильное раздражение кожи. Наиболее обоснованной и логичной представляется самая простая из них: эта поза – всего лишь наследие античности, когда считалось, что достойный и уважающий себя оратор должен прятать руку под хитоном, а не размахивать ею перед зрителями. Остается лишь гадать, на что намекал Олден Деннис Вир.
[Закрыть] Сначала я охотно разглагольствовал в надежде удовлетворить чужое любопытство (и таким образом испытать то неподдельное, хоть и едва уловимое наслаждение – приятное в любом возрасте, но сладчайшее в тринадцать лет, – которое мы ощущаем раз за разом, демонстрируя свою эрудицию и одерживая умозрительные победы). Позже – заметив, что невинный комментарий неизбежно кого-то оскорбляет, – я делал то же самое в качестве психологического эксперимента.
Прямо сейчас огонь в моем маленьком камине едва тлеет, но я тепло одет, и в комнате вполне уютно. Снаружи свинцовое небо, дует легкий ветерок. Я только что прогулялся, и, кажется, вот-вот пойдет дождь, хотя земля и так размокла от тающего снега. Прохладный ветер пахнет по-весеннему, но других признаков весны я не видел; на розовых кустах и всех деревьях по-прежнему твердые и тугие зимние бутоны; к тому же на некоторых розах все еще виднеются (словно мертвые младенцы в объятиях матерей) мягкие гнилые побеги, которые они выпустили в последнюю осеннюю оттепель.
Иногда я гуляю как можно дольше, а иногда силы быстро меня покидают, но разница невелика. Я так поступаю ради собственного утешения. Если мне мнится, что от ходьбы смерть подкрадывается к левой стороне тела, то каждую миссию я планирую тщательно: сперва к дровнице (рядом с китайским табуретом-слоном, чей паланкин служит подушкой для моих ног), затем к камину, после чего обратно к креслу у огня. Но если мне кажется, что надо размяться, я осознанно отклоняюсь от маршрута: сначала иду к огню, чтобы согреть руки, потом к дровнице и обратно к огню, где сажусь в кресло, сияя от своих успехов на гигиеническом поприще. И все же ни тот ни другой режим не улучшают моего состояния, отчего приходится регулярно менять врачей. Вот что следует сказать про врачей: с ними можно проконсультироваться даже из могилы, и я консультируюсь с доктором Блэком и доктором Ван Нессом.
К первому я хожу мальчиком (хоть и после инсульта), а ко второму – мужчиной.
Я стою, выпрямившись во все свои шесть футов роста, и фигура моя хороша, пусть даже во мне на двадцать (доктор Ван Несс скажет, что на тридцать) фунтов меньше веса, чем положено. Посещать доктора очень важно. Даже в каком-то безумном смысле важнее, чем посещать заседания совета директоров. Одеваясь утром, я напоминаю себе, что буду раздеваться не перед сном, как обычно, а в кабинете врача. Это немного похоже на предвкушение ночи с незнакомкой, и после бритья я принимаю душ, выбираю новые трусы, майку и носки. В час тридцать вхожу в здание «Банка Кассионсвилла и Канакесси-Вэлли» через бронзовые двери, сквозь другие такие же попадаю в лифт и, наконец, через стеклянную дверь – в приемную, где сидят пять человек и слушают «Жизнь за царя» Глинки. Это Маргарет Лорн, Тед Сингер, Абель Грин и Шерри Голд. И я. Мы читаем журналы: «Лайф», «Лук», «Здоровье сегодня» и «Водный мир». Только двое выбирают «Лайф». Конечно, разные выпуски, и один из этих читателей – я, другая – Маргарет Лорн. Вообще-то передо мной целая куча номеров, я играю в старую игру: пытаюсь расположить их в хронологическом порядке, не глядя на даты, и проигрываю. Маргарет бросает свой экземпляр и идет к доктору, а я каким-то образом понимаю, что это знак презрения. Поднимаю журнал и нахожу участок обложки, все еще теплый и слегка влажный от ее пальцев. Медсестра подходит к окну и вызывает миссис Прайс; Шерри, которой сейчас шестнадцать лет, отвечает, что та уже вошла. Медсестра выглядит обеспокоенной.
Шерри поворачивается к Теду Сингеру.
– Я… – говорит она, а потом переходит на неразличимый шепот.
– У нас у всех проблемы, – отвечает Тед.
Я подхожу к медсестре, незнакомой блондинке – возможно, она шведка.
– Пожалуйста, пустите меня к врачу. Я умираю.
– Из всех присутствующих вы последний в очереди, – говорит медсестра.
Тед Сингер и Шерри Голд явно намного моложе меня, но спорить с подобными доводами бесполезно. Я возвращаюсь на свое место, и медсестра называет мое имя – пора в смотровую, раздеваться.
Доктор Ван Несс немного моложе меня, он выглядит знатоком и одновременно самозванцем, словно медик из какого-нибудь телесериала. Спрашивает, на что я жалуюсь, и я объясняю, что живу в то время, когда он и все остальные уже умерли; у меня был инсульт, и я нуждаюсь в его помощи.
– Сколько вам лет, мистер Вир?
Я ему говорю. (Выдаю наилучшее предположение.)
Он издает какой-то тихий звук, потом открывает папку, которую носит с собой, и сообщает, когда у меня день рождения. В мае, и в саду устроили праздник, якобы для меня. Мне пять лет. Сад – боковой двор, окруженный высокой живой изгородью. Полагаю, даже по меркам взрослых двор большой, достаточно просторный для бадминтона или крокета, хотя и не для того и другого сразу; для пятилетнего мальчишки он огромен. Дети приезжают в угловатых, тряских автомобилях, словно игрушки, которые доставляют в грузовичках; девочки в розовых кружевных платьях, мальчики – в белых рубашках и темно-синих шортах. У одного мальчика есть кепка, которую мы закидываем в ежевику.
Сегодня весна – время года, которое на Среднем Западе может продлиться меньше недели, вынуждая жонкилии поникнуть от жары еще до того, как раскроются бутоны; так или иначе, это весна, настоящая весна, и ветер треплет первые одуванчики в честь их дня рождения, дескать, расти большой, не будь лапшой. Платья матерей на ладонь выше щиколоток и, как правило, неброских цветов; они предпочитают широкополые шляпы с низкой тульей и гагатовые бусы. Ветер норовит всколыхнуть то одну юбку, то другую, и женщины со смехом наклоняются, хватая одной рукой подол, другой – хлопающие поля шляпы; их бусы тренькают, словно занавески в тунисском борделе.
В ветреной тени гаража на гладко подстриженной лужайке для гостей приготовлен лимонад и розовый, покрытый глазурью торт – если с одного раза задуть все пять свечей, исполнится любое желание. Моя тетя Оливия – фиалковые глаза, черные волосы – вместо торта берет ледяную воду в большом бокале и крутит, зажимая в ладони, как будто согревает бренди; кассионсвиллская вода из реки Канакесси крутится и вертится, словно взывает к сомам и прочим рыбам. У ног Оливии белый пекинес величиной со спаниеля, и он рычит, когда кто-нибудь подходит слишком близко. (Смейтесь, дамы, но Мин-Сно и впрямь кусается.)
Миссис Блэк и мисс Болд, сестры, сидят рядом. Они – действуя сообща, словно богини-покровительницы соседствующих государств, которые объединились, дабы подвергнуть разорению поля третьего, то бишь мои – привели Бобби Блэка. У Барбары Блэк каштановые волосы, правильные черты лица и длинные мягкие ресницы; после рождения ребенка она – так говорит моя бабушка, чей смутный розовый призрак реет над вечеринкой – «набрала двадцать фунтов здоровой плоти»; но это не изменило ее цвет лица, который остается мягким и нежно-розоватым, как повелось в роду Болдов. Ее сестра – ослепительно белокурая, стройная и гибкая, как ива; слишком гибкая по меркам прочих дам, ибо с их точки зрения физическая податливость подразумевает моральную уступчивость и они подозревают Элеонору Болд во всяком (приписывая ей, сообразно собственным измышлениям и болтовне в клубе кройки и шитья, за раздачей карамелек и после службы в методистской церкви, самых немыслимых любовников: батраков и кочегаров, блудных сыновей предыдущих пасторов, молчаливого помощника шерифа).
Высокий белый дом – собственность бабушки; нашим матерям с лужайки видно, чем мы занимаемся, и поэтому мы почти не покидаем его пределов, шумно носимся туда-сюда по крутой и узкой лестнице без ковра со второго этажа на третий, где в бессловесном хихиканье таращимся на прислоненный к стене самой дальней и прохладной комнаты огромный портрет покойного брата моего отца.
Портрет, как известно из некоего тайного источника – что бы ни высмотрели недремлющие, пытливые очи кассионсвиллского спиритуалистического общества, недавно организованного моей тетей Арабеллой, этим источником наверняка была Ханна (в прошлом кухарка моей бабушки, а теперь – моей матери), – ну так вот, этот портрет был написан ровно за год до его смерти. На вид ему около четырех лет: темноволосое дитя с грустными глазами послушно, но без воодушевления позирует художнику. Он одет в свободные красные брюки, как зуав[3]3
Солдат подразделения легкой пехоты французских колониальных войск; зуавами называли себя некоторые добровольческие отряды во время Гражданской войны в США.
[Закрыть], белую шелковую рубашку и черный бархатный жилет, пахнет яблоками, поскольку его так долго хранили рядом с ними, а еще стегаными одеялами (украшенными вышивкой такой невероятной красоты, что каждое из них тканью собственного бытия становится мягким и теплым памятником бесконечному послеобеденному труду по вторникам и четвергам – и, во многих случаях, гению Уильяма Морриса[4]4
Поэт и прозаик Уильям Моррис (1834–1896) прославился в том числе достижениями в области текстильной промышленности и смежных ремесел: на протяжении жизни он разработал около 600 узоров для обоев, ткани и вышивок.
[Закрыть]); и позже, на протяжении многих лет не видя образ покойного брата моего папы – сам отец с ним никогда не встречался, – я годами воображал, что на картине малыш стоял, завернувшись в стеганое одеяло (точно так же меня в детстве насильно укутывали в большое полотенце после купания), а у его ног катались яблоки. Лет этак в двадцать я снова вернулся в тот дом и избавился от иллюзии, одновременно осознав – с удивлением, весьма похожим на стыд, – что фантастический пейзаж, перед которым ребенок позировал, как будто стоя на подоконнике, этот край, всегда вызывавший у меня воспоминания о сказках Эндрю Лэнга (особенно из «Зеленой книги сказок») и Джорджа Макдональда[5]5
Эндрю Лэнг (1844–1912) – шотландский литератор, наиболее известный как собиратель и исследователь фольклора; Джордж Макдональд (1824–1905) – шотландский поэт и писатель, один из предтеч современного фэнтези.
[Закрыть], на самом деле был тосканским садом.
Сад с мраморным фавном и фонтаном, ломбардскими тополями и буками всегда производил на меня куда более сильное впечатление, чем бедный мертвый Джо, которого никто из нас, кроме бабушки и Ханны, никогда не видел и за чьей могилкой посреди кладбища на холме ухаживали в основном муравьи, воздвигшие на его груди город. Теперь я сижу в одиночестве перед камином, смотрю на обломки вяза, озаренные вспышками молний, потерянные и изломанные, словно корабль на мели, и мне кажется, что сад – я имею в виду сад маленького Джо, вечно греющийся в лучах тирренского полудня, – это ядро и корень реального мира, для которого вся наша Америка – лишь миниатюра в медальоне, забытом в дальнем ящике стола; и мысль (подкрепляемая воспоминанием) вынуждает вспомнить «Рай» Данте, где Земля (ибо мудрость мира сего была безумием мира иного)[6]6
Искаженная цитата из Библии (1 Коринфянам 3:19); правильная формулировка – «…есть безумие пред Богом».
[Закрыть] физически находилась в центре, окруженная лимбом луны и прочими сферами, каждая огромнее предыдущей, и, наконец, самим Богом, но при этом физическая реальность в конечном итоге представляла собой обман, ибо Господь был центром духовной истины, а наша бедная планета изгонялась на периферию райских забот, за вычетом разве что тех мгновений, когда о ней думали с чем-то вроде постыдной ностальгии, и это отвлекало великих святых и Христа от созерцания триединого Бога.
Правда, все правда. Почему же мы любим этот беспризорный мир на краю сущего?
Я сижу перед маленьким очагом, и когда снаружи дует ветер – стонет в каменной трубе, которую я приказал возвести красоты ради, грохочет в водосточных желобах, завывает в кованых украшениях, вдоль карнизов и декоративных решеток, – мне открывается истина: планета Америка вращается вокруг своей оси где-то на задворках, на периферии, на самом краю безграничной галактики, от чьего круговорота захватывает дух. А звезды, которые как будто покачиваются на ветру, на самом деле порождают этот самый ветер. Иногда я вроде бы вижу огромные лица, склоняющиеся среди светил, чтобы заглянуть в мои два окна – лица золотые и нечеткие, тронутые жалостью и удивлением; и поднимаюсь я из кресла, ковыляю к хлипкой двери, но ничего там нет; и беру я топор («Бантингс Бест», 4 фунта 6 унций, ручка из гикори), что стоит у двери, а потом выхожу наружу, где под песню ветра деревья хлещут себя, как флагелланты, и глядят звезды сквозь решетку бегущих туч, но в остальном небо остается пустым и безжизненным.
С тосканским небом все иначе: его безмятежную голубизну прерывают лишь одно-два белых облака, не отбрасывающих тени. Фонтан сверкает на солнце, но Джо его не слышит, и вода никогда не намочит ни его одежду, ни даже каменные плиты вокруг бассейна. Джо держит крошечное ружье с жестяным стволом и деревянную собаку с негнущимися лапами, но Бобби Блэк идет и, если ему удастся захватить эту комнату, начнет бросать яблоки, которые разобьются о стены, забрызгают картину и пол хрустящими, ароматными, кислыми кляксами; а те, в свою очередь, в конце концов покоричневеют, обратятся в грязь и гниль, их обнаружат (скорее всего, это сделает Ханна) и обвинят меня – невозможно, немыслимо, чтобы мне пришлось вымыть пол, уж скорее свинья полетит или мышь сыграет на губной гармошке; мы – свиньи, мыши, дети – такими вещами не занимаемся, наши конечности для них не приспособлены. Я стою на верхней ступеньке лестницы, уступая в силе и росте, но превосходя в положении, я молчу, и мои глаза почти закрыты, а лицо искажено от подступающих слез – так я бросаю ему вызов; а он насмехается, зная, что стоит мне издать хоть один звук, и я проиграю; остальные заглядывают мне через плечо и между ног – они зрители, а не мои союзники.
И вот наконец мы, два карапуза, хватаемся друг за друга и пыхтим со слезами на глазах, как два раскрасневшихся бойца. На мгновение мы теряем равновесие.
Снаружи тетя Оливия закурила сигарету в мундштуке из мамонтовой кости (зуб дьявола) длиной с ее предплечье. «Шкура есть?» – спрашивает миссис Сингер, глядя на мою мать, и та отвечает: «Да, она на пианино; когда Ханна опять появится, попрошу, чтобы принесла», а миссис Грин, которая почему-то прислуживает маме – я слишком юн, чтобы в этом разбираться, но мы владеем фермой ее мужа, – провозглашает: «Я добуду ее, принцесса Белый Олененок», и мама: «Лети быстрее, принцесса Птичка-Невеличка», и все смеются, потому что они воображают себя индианками, и миссис Грин, которая совсем не невеличка, а низенькая, ширококостная и грузная, выбрала такое имя (хотя ей больше бы подошло «принцесса Кукурузница», как предлагала принцесса Звезда-за-Солнцем, моя тетя Оливия), чтобы всякий раз по-дурацки улыбаться, когда оно звучит во время ритуалов (и стоять, прижав правую руку к груди, пока моя мать вплетает ей перо в волосы перед церемонией готовки брауни для пау-вау[7]7
Собрание североамериканских индейцев, чья цель в нынешние времена – почтить культуру предков с помощью национальных костюмов, танца, песен и бесед об индейском наследии.
[Закрыть]).
– Прискорбно, что так получилось, – говорит мама. – Кто-то должен был беречь старую шкуру.
Принцесса Певчая Птица, чей муж – строительный подрядчик, говорит:
– Надо было замуровать ее в фундаменте.
А принцесса Зелье Радости, сестра Элеоноры Болд, прибавляет:
– Ее хотели показать школьникам.
Миссис Грин возвращается, благоговейно неся мягкий сверток из оленьей шкуры – бледно-коричневой и почти такой же мягкой, как замша. Моя тетя Оливия – оливковая кожа, овальный лик, самая привлекательная женщина из присутствующих, если считать Элеонору Болд девушкой (а таковой она и была: кочегары и коммивояжеры, торговцы скобяными изделиями и батраки – все это персонажи мифические, как кентавры), – берет у нее сверток и разворачивает, зажав мундштук в зубах, изумляя и скандализируя остальных.
– Тут пусто, Делла.
– Я знаю, – говорит мама. – С этим придется разбираться самим.
– Откуда шкура? – спрашивает миссис Сингер.
– Добыча Джона, – говорит тетя Оливия и уточняет с улыбкой: – В смысле, вождя Белого Олененка.
– Ох, Ви!
– Я просто дурачусь, – говорит принцесса Звезда-за-Солнцем, почесывая Мин-Сно за ушами.
– Ох, Ви!
Приходит Ханна, убирает тарелки из-под торта, приносит кофе.
– Где дети, Ханна?
– Внутри. Точно не знаю. Кто-то из них вроде на краю огорода.
Руки у нее красные, волосы белые, лицо большое и квадратное. Она помнит фургоны[8]8
Имеются в виду крытые повозки, обычно запряженные волами; основное средство передвижения американских переселенцев на Дикий Запад и в некотором роде символ доиндустриальной Северной Америки.
[Закрыть], но не говорит об этом. Моя мать разговаривает с мужем, тетя Оливия – со своими собаками, жена методистского священника – с Богом, а бабушка – с Ханной, но та беседует только со мной, из-за этого я, сидя в постели у очага, все еще слышу ее, в то время как многие другие замолчали навсегда. Я отправляюсь в старый дом, особняк моей бабушки, на кухню, где в центре пола старый синий линолеум протерт до досок, и Ханна, принцесса Пенных Вод, моет посуду. Сажусь на маленький табурет возле железной печки…
– Все стало совсем другим. И место совсем другое. Раньше я была там, а теперь я здесь, и люди говорят – сказали бы, спроси я кого-нибудь, – что дни и ночи сменяют друг друга, крутятся и вертятся, как электрические часы с маленькой дырочкой на циферблате, которая каждую секунду становится то черной, то белой, и голова идет кругом, если на нее смотришь, но дело не в этом. Почему все меняется только из-за того, что солнце прячется за горизонтом? Вот что мне интересно. Все знают: оно на самом деле не движется. Помню, когда я была маленькой девочкой, совсем крохой, и Мод – он женился на ней после смерти мамули и заставил меня носить на голове мочалку, чтобы уши не оттопыривались, – просила наемную служанку, молодую ирландку, рассказывать ей сказки, и меня такой страх взял – ух какой страх! – я даже не выходила на улицу после наступления темноты, а ты представь себе, как темно было у Сахарного ручья по ночам, ведь там не видать других домов, только наши лампы на фотогене[9]9
Минеральное масло, получаемое при перегонке бурого угля. В середине XIX века этот продукт был широко известен в США под торговым названием «керосин» как недорогой ресурс для наружного освещения (в домах применялась ворвань); позже он утратил экономическую важность ввиду сравнительной сложности производства, а название (по решению суда в связи с патентным спором) перешло к горючей смеси жидких углеводородов, которую мы до сих пор называем керосином.
[Закрыть] и звезды! Звезды сияли так ярко, будто висели прямо над крышей; однажды я все-таки вышла наружу, на заднее крыльцо, и почувствовала под ногами кукурузу, которая просыпалась, когда я днем кормила цыплят, – тут мне стало ясно, что мир остался таким же, каким был, и я пошла прямиком к насосу, где тоже ничего не изменилось (стоило спуститься с крыльца, стало даже чуть светлее), и я вернулась домой, ступая широко и подобрав юбку, чтобы не споткнуться об подол. Теперь все исчезло, а когда мы с Мэри туда вернулись, Сахарного ручья тоже не увидели, только сухие камни на том месте, где он был. Это было в мае – нет, не в мае, а в июне – во второй половине мая или первой половине июня, не важно… И наш дом, он стал таким маленьким. Просто немыслимо, чтобы мы там жили всей семьей. Он оседал, разрушался, никто бы не смог пройти через его узкие двери. Я никогда в жизни не бывала дальше сотни миль от этого крошечного дома, а теперь его нет, и я даже не увидела, как он сгинул.
Я разделяю чувства Ханны, хотя и на свой лад. Мой дом не уменьшился, а разросся. (И пока что не разваливается.) Я спрашиваю себя, зачем мне понадобилось столько комнат – кажется, их становится все больше всякий раз, когда я отправляюсь исследовать свое жилище, – и почему они такие просторные. Эта комната велика в ширину, а в длину еще больше, с двумя громадными окнами на западной стороне, выходящими в сад, с востока же стена отделяет ее от столовой, кухни и моего уединенного кабинета, куда я теперь не заглядываю. В южном конце камин из бутового камня (вот почему я теперь живу здесь; это единственный камин в доме, разве что я забыл про еще какой-нибудь). Пол выложен плитняком, стены кирпичные, а между окнами висят картины. Мое ложе (не настоящая кровать) стоит перед камином, где я могу греться. Когда наступит лето – мысль кажется мне странной, – возможно, я опять буду спать в собственной спальне этажом выше.
И тогда, быть может, все действительно пойдет по-старому. Интересно, что бы случилось, останься Ханна переночевать на ферме у Сахарного ручья (я буду называть ее так; без сомнения, соседи называли это место домом Миллов)? Потекли бы воды вновь, журча в ночи и оделяя влагой сухие камни?
– Ханна?
– Ну что такое, чего ты хочешь? Вот сидит на табурете большеглазый малыш, и что же он успел за свою жизнь изведать? Труд? Ой, нет – ты ни дня не трудился. Глянь-ка на эту тарелку. Вот она какая, работа на хозяина. Ну, твоей вины в этом нет. Мне уже недолго осталось, Денни. Не понимаешь, что за чушь я несу? Тогда вымой всю посуду, а я сбегаю и поиграю в пятнашки с детворой. Вот же удивится твоя мама – спросит, кто эта новенькая? Я как раз собиралась сказать, что помню ее совсем малышкой, только вот на самом деле не помню, потому что она не из этих мест; твой отец в детстве играл с другой девочкой. Иногда теплыми летними вечерами под газовыми фонарями собиралось больше ребят, чем светских болтунов у какого-нибудь камина. Скоро опять наступит теплое лето, и ты, наверное, тоже отправишься туда, а я испеку пряники к рутбиру[10]10
Безалкогольный или слабоалкогольный газированный напиток из коры дерева сассафрас.
[Закрыть]; еще одну зиму пережила, а летом мне умереть не суждено – я всегда это знала.
Кажется, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь мыл посуду на нашей кухне. Там есть посудомоечная машина, и ею всегда пользовались, только сперва соскребали объедки в слив и спускали в утилизатор – раковина была чем-то вроде мусорного бака. Теперь я готовлю еду в камине и ем рядом с ним; да мне и нужно-то совсем немного пищи.
– Вы худой, мистер Вир. Ваш вес ниже нормы.
– Да, вы всегда проверяете меня на диабет.
– Разденьтесь до трусов, пожалуйста. Сейчас придет медсестра и взвесит вас.
Я начинаю снимать с себя одежду, сознавая, что Шерри Голд находится в соседней кабинке, вероятно, разоблаченная до лифчика и трусиков. Она молоденькая, немного полноватая («Вы, кажется, прибавляете в весе, мисс Голд. Разденьтесь до лифчика и трусиков, пожалуйста, а я вернусь и взвешу вас».), с хорошеньким еврейским лицом – еврейки обычно некрасивые, а она вот миловидная. Я бы мог ее увидеть, проткнув дыру в перегородке складным ножом, и окажись удача на моей стороне, она бы не заметила ни яркое острие шила, ни оставшуюся после него темную дырку, из которой смотрит мой блестящий, немолодой синий глаз. Зная, что на самом деле ничего такого не сделаю, я начинаю рыться в карманах брюк в поисках ножа; его там нет, и я вспоминаю, что перестал носить эту штуковину с собой несколько месяцев назад, потому что каждый день ходил в офис и, поскольку больше не работал в лаборатории, никогда им не пользовался; а еще из-за него ткань брюк быстро протиралась в тех местах, где жесткие притины[11]11
Парные, обычно металлические накладки на рукояти складного ножа, закрепленные в том месте, где она примыкает к клинку. В случае ножей нескладного типа такие детали называются больстерами (англ. bolsters); на практике возможно смешение терминологии.
[Закрыть] упирались в правый набедренный карман.
Я стою, держась рукой за каминную полку, и снова проверяю: пусто. Снаружи барабанит дождь. Наверное, хорошо было бы вернуть мой складной нож.
– Доктор Ван Несс, если у меня все-таки случится инсульт, что делать?
– Мистер Вир, не в моих силах вылечить вас от несуществующей болезни.
– Да садитесь вы, ради бога. Почему, черт возьми, я не могу поговорить с доктором, как мужчина с мужчиной?
– Мистер Вир…
– На моем заводе нет ни одного человека, с которым я разговаривал бы так, как вы разговариваете с каждым своим пациентом.
– Не в моих силах уволить пациента, мистер Вир.
Я снова одеваюсь и сажусь в кресло. Входит медсестра, говорит, что мне надо раздеться, и уходит; через несколько минут доктор Ван Несс спрашивает:
– В чем дело, мистер Вир?
– Я хочу поговорить с вами. Садитесь.
Он садится на край смотрового стола, и мне хочется, чтобы снова был жив доктор Блэк, этот пугающий, грузный мужчина из моего детства, в темной одежде и с золотой цепочкой от часов. Барбара Болд, наверное, растолстела лишь потому, что готовила для него; глядя, как он ест, она вполне могла утратить всякое чувство меры, поскольку ее собственные порции, сколь угодно большие, должны были казаться намного меньше; разве она могла осознать, что вторая печеная картофелина или миска рисового пудинга со сливками – это лишнее, если ее муж съедал втрое больше? Мама протягивает ей блюдце с еще одним ломтиком розового торта, который, в строгом смысле слова, предназначен мне в честь дня рождения.
– Спасибо, Делла.
Сестра Барбары, Элеонора, говорит:
– Хорошо, мы можем писать на этой шкуре – но что именно и чем?
– Маслом? – предлагает тетя Оливия. – Можно взять мои краски.
Кто-то возражает, что у индейцев не было масляных красок, а миссис Сингер подчеркивает, что дети ничего не узнают.
– Но мы-то узнаем, – возражает мама. – Уже знаем.
– Послушайте, – говорит миссис Сингер, – меня осенило! Подумайте про их встречу – ну, поселенцев и индейцев. На самом деле писаниной занимались индейцы, но ведь все могло быть и наоборот! Случись оно так, текст выглядел бы обычным, а это значит, что мы можем его написать.
Прошу прощения, необходима короткая пауза. Позвольте мне встать и подойти к окну; позвольте положить эту сломанную ветку вяза – формой она напоминает рога деревянного оленя, из тех оленей, какие встречаются под огромнейшими рождественскими елками на открытом воздухе, – в камин. Дамы, я не этого хотел. Дамы, я лишь жажду узнать, надо ли в моем состоянии упражняться или избегать активности; ведь если мне следует упражняться, я отправлюсь на поиски своего скаутского ножа.
– Мистер Вир! Ну мистер Вир!
– Да? – Я выглядываю через приоткрытую дверь.
– О, вы одеты, я вижу по вашему рукаву.
– В чем дело, Шерри?
– Не входите, я не одета.
(Доктор Ван Несс возвращается, и Шерри прячется, хлопнув дверью своей кабинки.)
– Доктор, что касается инсульта…
– Мистер Вир, если я отвечу на ваши вопросы, вы согласитесь пройти небольшой тест? Своего рода игра с зеркалами. И еще не могли бы вы взглянуть на кое-какие картинки?
– Да, если вы ответите на мои вопросы.
– Ладно. Итак, у вас был инсульт. Должен заметить, с виду не скажешь, но я готов это принять. Каковы ваши симптомы?
– Не сейчас. У меня еще не было инсульта – пожалуйста, постарайтесь понять.
– У вас будет инсульт?
– Он случился в будущем, доктор. И не осталось никого, кто бы мог мне помочь, совсем никого. Я не знаю, как быть – и потому вернулся в прошлое, к вам.
– Сколько вам лет? Я имею в виду, сколько было, когда случился инсульт.
– Точно не знаю.
– Девяносто?
– Нет, не девяносто, не так много.
– У вас еще есть собственные зубы?
Я ощупываю их пальцами.
– Почти все.
– Какого цвета ваши волосы? – Доктор Ван Несс наклоняется вперед, бессознательно принимая позу прокурора на суде.
– Я не знаю. Их почти не осталось.
– Пальцы болят? Они шишковатые, опухшие, непослушные, воспаленные?
– Нет.
– И вы все еще время от времени испытываете сексуальное желание?
– О да.
– Тогда, я думаю, вам около шестидесяти, мистер Вир. То есть до инсульта осталось всего пятнадцать-двадцать лет – вас это беспокоит?
– Нет. – До этого я стоял в дверях смотровой. Теперь отхожу в сторону и сажусь на стул; доктор Ван Несс следует за мной. – Доктор, левая сторона моего лица оцепенела – у меня такого выражения никогда раньше не было, а теперь оно не меняется. Левая нога постоянно кривая, как будто неправильно срослась после перелома, а левая рука не очень крепкая.
– Головокружение бывает? Часто ли вы чувствуете рвотные позывы?
– Нет.
– У вас хороший аппетит?
– Нет.
– Вам больно передвигаться? Очень больно?
– Только эмоционально – ну, знаете, из-за того, что я вижу.
– Но не физически.
– Нет.
– Случился только один инсульт?
– Думаю, да. Я проснулся в таком виде. На следующее утро после смерти Шерри Голд.
– Мисс Голд? – Доктор едва заметно, как бы невзначай указывает подбородком в сторону разделяющей нас перегородки. Интересно, слушает ли меня девушка; надеюсь, что нет.
– Да.
– Но после этого ваше состояние не ухудшилось.
– Нет.
– Мистер Вир, вам необходима физическая активность. Выходите из дома, прогуливайтесь внутри него и беседуйте с людьми. Совершайте променад в несколько кварталов каждый день, если погода благоволит. Кажется, у вас большой сад?
– Да.
– Ну так поработайте в нем. Избавьтесь от сорняков и прочего.
Именно этим я частенько и занимаюсь – избавляюсь от сорняков и прочего. «Прочее» обычно цветы, а то и овощи; еще я нередко обнаруживаю, что выдрал из земли сорняк, который был милее взлелеянной клумбы. Есть один, которого я не видел уже много лет, он рос между забором и переулком у бабушкиного дома – очень высокий сорняк с нежной прямой колонной зеленого стебля и горизонтальными веточками на одинаковом расстоянии друг от друга, изящными и тонкими; каждая была безупречна и несла пучок миниатюрных листьев, которые весело глядели на солнышко. Я иногда думал, что летом деревья такие тихие, поскольку испытывают подобие экстаза; именно зимой, когда, по словам биологов, природа спит, они на самом деле бодрствуют – ведь солнца нет, и они словно наркоманы без наркотика, которые спят тревожным сном и часто просыпаются, бродят по темным коридорам лесов в поисках солнца.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?