Текст книги "Если бы ты был здесь"
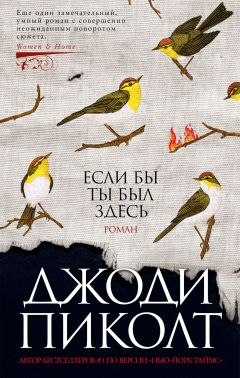
Автор книги: Джоди Пиколт
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Приятно познакомиться, – сказала она с легким акцентом, и в этот момент я поняла, что никогда не слышала ее голоса, хотя она часто мелькала в видеоклипах вместе с Сэмом Прайдом и «Козодоями». Она была частью музыкальной легенды, но у нее не было собственного звука.
Я открыла было рот, чтобы поздороваться, но затем закрыла его и улыбнулась.
В гостиной Китоми я заметила традиционный японский чайный сервиз – пиалы и приземистый чайник, украшенный изящным цветочным орнаментом. Хозяйка квартиры провела нас мимо него по небольшому коридору к тому месту, где висела картина. Я не могла оторвать от нее взгляда, и у меня в животе все сжалось, как всегда, когда я в первый раз взирала на очередной шедевр. От рамы к центру картины мазки становились все более четкими к центру композиции, где располагались любовники. Четче всего были прописаны их глаза, прикованные друг к другу. Внезапно я почувствовала себя будто бы внутри картины – так искусство иногда заставляет нас путешествовать во времени. Я живо представила себе, как художник мешает краски, почувствовала аромат роз, исходящий от простыней, услышала глухие звуки, раздававшиеся из соседних комнат, где другие проститутки развлекали своих клиентов.
Часть моей работы, связанной конкретно с этой картиной, заключалась в том, чтобы узнать как можно больше об Анри де Тулуз-Лотреке и его творчестве и оценить, насколько оно вписывается в канон импрессионизма. В течение нескольких недель я искала нужную информацию в библиотеке «Сотбиса», в Нью-Йоркской публичной библиотеке, в библиотеке Колумбийского и Нью-Йоркского университетов. Тулуз-Лотрек родился во Франции в семье графа и графини, его родители приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. У ребенка была скелетная дисплазия, вследствие чего он рано перестал расти – его рост составлял всего пять футов, – при этом у него был торс взрослого человека, очень короткие, почти детские ноги и, предположительно, большие гениталии. Отец не слишком одобрял его выбор стать художником, а мать беспокоила компания, в которую попал ее сын. У Тулуз-Лотрека была репутация дамского угодника. Его первой любовницей стала Мари Шарле, семнадцатилетняя модель. Другая любовница, Сюзанна Валадон, пыталась покончить с собой после расставания с художником. Скорее всего, именно рыжеволосая модель и проститутка Роза ля Руж заразила Тулуз-Лотрека сифилисом, от которого художник и скончался.
Как и других творческих людей, Тулуз-Лотрека манил к себе Монмартр, богемный район Парижа, битком набитый кабаре и проститутками. Художник рисовал для «Мулен Руж» афиши, и в кабаре всегда держали для него свободный столик. Неделями он жил в публичных домах, фиксируя на своих полотнах реальную жизнь работников секс-индустрии – их скуку, медицинские осмотры и отношения между ними, за которые, в отличие от рабочих, они не получали ни гроша. Художника гораздо больше интересовала разница между тем, как человек действует в определенной среде, и тем, как он ведет себя наедине с самим собой, – пространство между актером и личностью; разрыв между частным и профессиональным.
Его манеру характеризуют как живописную, основанную на длинных, не смешанных друг с другом мазках кисти. Его искусство напоминало скорее размытое пятно, чем моментальную фотографию, – словно вы смотрите на толпу и ваш взгляд за что-то цепляется: зеленоватое лицо женщины, ярко-красные колготки танцовщицы. Тулуз-Лотрека гораздо больше интересовали отдельные люди, чем их окружение, поэтому обычно художник сосредоточивался на одной черте своей модели, которую считал отличительной, и выделял именно ее, оставляя все остальное несколько размытым. Он смотрел на людей глазами не романтика, а практичного и бесстрастного критика.
Примерно в 1890-х годах Тулуз-Лотрек написал серию работ, на которых изобразил лежащих в постели проституток в тихие моменты интимной близости. Цвет кожи этих женщин был нежным и светлым, потому что обычно они пудрились, чтобы выглядеть моложе и здоровее. Яркая окружающая обстановка создавала сильный контраст между тем, где находились героини его картин, и тем, кем они являлись. Казалось, Тулуз-Лотрек как бы говорил: «Все не то, чем кажется».
Не было никаких сомнений в том, что картина Китоми Ито принадлежала к этой серии. Лишь одно разительно отличало ее от других работ: на ней был изображен сам художник.
Я услышала, как у Евы перехватило дыхание, и вспомнила, что и она тоже увидела это произведение воочию впервые в жизни.
Ева откашлялась, и я очнулась от своих мыслей. Я вспомнила, зачем пришла. В мои обязанности входила оценка состояния картины: не облупилась ли краска? Была ли рама картины достаточно прочной? Была ли подпись художника похожа на подписи других его работ: «Т-Лотрек», в которой Т вместе с дефисом напоминала букву F, прямой угол L, крошечная петля почти на середине буквы t. Пока я делала свою работу, Ева делала свою: она убеждала Китоми Ито в том, что «Сотбис» – самый подходящий аукционный дом для продажи этой вещи.
Мы знали, что прежде Китоми продавала кое-какие свои вещи через «Кристис». Однако на сей раз она решила рассмотреть предложения других аукционных домов.
– Это что-то потрясающее!
При этих словах Евы я посмотрела не на работу Тулуз-Лотрека, а на Китоми Ито.
Она походила на мать, которая приняла решение отдать ребенка на усыновление только для того, чтобы понять: отпустить его будет труднее, чем ей думалось.
– Сэм часто повторял, – сказала Китоми, – что, когда ему исполнится восемьдесят, он перестанет давать интервью. Никогда больше не сядет перед камерой. Он хотел уехать в Монтану и разводить там овец.
– Правда? – удивилась Ева.
Китоми пожала плечами:
– Думаю, мы никогда этого не узнаем.
Потому что тридцать пять лет назад ее муж был убит. Китоми повернулась и повела нас по все тому же коридору к японскому чайному сервизу.
– Вы решили продать картину по какой-то особой причине? – спросила Ева.
Китоми посмотрела на нее снизу вверх:
– Я переезжаю.
Я видела, как у Евы загорелись глаза. Если Китоми собиралась уехать из Нью-Йорка, то, возможно, захочет продать и другие вещи, помимо Тулуз-Лотрека.
Из пиалы передо мной поднимался пар и запах зеленой травы.
– Это сенча, – пояснила Китоми. – К нему полагается шотландское песочное печенье шортбред. Именно Сэм пристрастил меня к этому сочетанию.
Я сидела, положив руки на колени, и вполуха слушала, как Ева вела свой допрос:
– Вы уже оценили картину? Сколько раз ее перевешивали? Проводилась ли реставрация полотна? С кем из игроков в области искусства вам доводилось работать? Кто управляет вашей коллекцией? На какой исход аукциона вы надеетесь?
– Чего я хочу, так это чтобы картина закрыла одну главу, и я могла открыть следующую. – Ее слова были резкими и бесповоротными, как перелом кости.
Ева начала рассказывать о маркетинговой кампании, которую она вместе с другими старшими сотрудниками своего отдела дорабатывала с момента первого звонка Китоми. План состоял в том, чтобы вынести имя Сэма Прайда в название аукциона, поскольку известное имя всегда добавляет веса. Одной из причин того, что поместье Вандербильтов продавалось так же хорошо, как и много лет назад, было наличие знаменитой фамилии в описаниях лотов.
– Мы в «Сотбисе» разбираемся в искусстве. Поэтому хотели бы описать историю жизни данной работы Тулуз-Лотрека и показать ее пяти лучшим коллекционерам импрессионизма и современного искусства в мире. Мы бы также хотели поместить изображение картины на обложку каталога. Однако мы понимаем, насколько данная вещь уникальна. Она не похожа ни на один лот, который мы когда-либо выставляли на аукцион, потому что является связующим звеном между двумя иконами своего времени. В центре внимания должен быть не только Тулуз-Лотрек, но и Сэм Прайд. На аукционе мы бы сделали особый акцент на том времени, когда эта картина появилась в жизни Сэма.
Лицо Китоми было непроницаемым.
– Тысяча девятьсот восемьдесят второй год, – продолжала Ева, – именно тогда вышел альбом, на обложку которого попала данная работа. Мы также хотели бы позвать на открытие аукциона оставшихся участников «Козодоев». Искусство порождает искусство.
Ева потянулась к кожаной папке с официальным описанием нашего предложения: в нем в том числе содержалась примерная стоимость картины – несколько миллионов долларов, – которую мы объявим на аукционе, действительная рыночная стоимость работы, и резерв – секретная цифра, ниже которой «Сотбис» не будет продавать шедевр Тулуз-Лотрека.
Я поднялась со своего места, собираясь спросить, где находится туалет, и только тогда вспомнила, что мне не положено открывать рот. Китоми посмотрела на меня своими черными глазами-пуговицами.
– В конце коридора, – подсказала она. – По левую руку.
Я кивнула и выскользнула из гостиной. Но вместо того, чтобы пойти в туалет, я вновь остановилась у картины французского художника.
Бóльшая часть работ Тулуз-Лотрека описывает движение. В начале своей карьеры он часто рисовал лошадей, затем сосредоточился на танцорах, цирке и велосипедных гонках. Но даже более поздние работы можно назвать кинестетическими. На одной из самых известных картин художника – «Танец в “Мулен Руж”» – горизонт слегка завален, чтобы зритель четче ощутил необычную обстановку места и почувствовал себя немного пьяным. Взгляд моментально приковывают к себе красные чулки танцовщицы и розовое платье прекрасной дамы, а затем джентльмен, за которым она наблюдает, после чего вы замечаете пышную нижнюю юбку второй танцовщицы позади него – подобное движение взгляда заставляет вас чувствовать, будто вы сами кружитесь в танце, и в глаза вам бросаются лишь какие-то незначительные детали окружающей шумной толпы.
Картина же Китоми Ито, наоборот, была посвящена тишине.
Моменту сразу после интимной близости, когда вы больше не сливаетесь со своим возлюбленным в единое целое, но чувствуете, как он пульсирует внутри вас, словно кровь.
Моменту, когда вы вновь должны вспомнить, как дышать.
Моменту, когда ничто не имеет большего значения, чем ускользающее мгновение.
Рыжие волосы героини картины представляют собой яркое пятно на монотонном коричневом, как картон, фоне. Основной цвет работы – белый с незначительными вкраплениями пастели. Полуобнаженная женщина, сидящая у изголовья кровати, – та самая Роза ля Руж. Позади нее находится зеркало, в котором отражаются глаза мужчины, который взирает прямо на нее из правой нижней части картины. Сам Лотрек, чей торс повернут таким образом, что вы видите лишь его обнаженное плечо и профиль, бороду и проволочную оправу очков. Бледно-зеленое плечо художника – второе цветное пятно на картине. Интересно, являлся нездоровый цвет его кожи признаком болезни, как согнутые под одеялом ноги, или он символизировал ревность к этой женщине, которая в конечном счете стала его погибелью?
Или, быть может, этот цвет говорил о вспышке чувств внутри человека, которого чаще всего называли надменным и равнодушным?
Наглядевшись на картину, я пошла дальше по коридору в туалет, однако по пути наткнулась на открытую дверь, ведущую в комнату, которая была знакома любому, кто видел обложку последнего альбома «Козодоев». Для нее Китоми и Сэм Прайд позировали на этой самой кровати. Единственное, чего не хватало, так это картины, висевшей за спиной Китоми.
Кроме того, теперь в комнате находились вещи, которых не было на знаменитой фотографии. С одной стороны кровати стояла тумбочка, на которой я разглядела стопку книг, пару фиолетовых очков для чтения, крем для рук и стакан с водой. С другой стороны кровати также имелась тумбочка, но на ней лежал только один предмет: мужское обручальное кольцо. На полу возле тумбочки аккуратно примостилась пара потрепанных мужских кожаных тапочек.
Я попятилась, чувствуя себя вуайеристкой, хотя вид полуобнаженной Китоми на обложке альбома смущал меня не так сильно, как вид этой комнаты, и направилась в туалет. Когда я вышла из него, то застала перед картиной саму Китоми.
– Его двоюродный брат учился на врача, – сказала она. – Он позволил Анри присутствовать на операциях и делать зарисовки. – Китоми повернулась ко мне, в ее глазах мелькнула улыбка. – Я всегда думала о нем как об Анри, а не как о Тулуз-Лотреке, – добавила она. – В конце концов, в течение многих лет его работа висела над моей кроватью.
Я сделала несколько шагов к ней навстречу. Я хотела было сказать, что все это мне известно, но вовремя вспомнила приказ Евы не открывать своего рта.
– Его поместили в клинику для лечения сифилиса и алкогольной зависимости. Чтобы доказать врачам, что он достаточно вменяем для выписки, Анри рисовал картины цирка по памяти. Хотя он все равно умер в тридцать шесть лет. – Губы Китоми трогает грустная улыбка. – Некоторые люди горят слишком ярко и гаснут слишком быстро. – Голос Китоми был таким мягким, что я с трудом расслышала ее слова. – Его продажа похожа на ампутацию, – продолжала она. – Но везти его с собой в Монтану мне тоже кажется неправильным.
Монтана.
Я вспомнила слова Китоми о том, что она хочет начать новую главу.
Я поняла, что эта женщина вовсе не хочет начать все заново, с чистого листа. Эта женщина была настолько привязана к своему покойному мужу, что собиралась воплотить в жизнь его мечту, которую он так и не осуществил.
Я подумала: «Ева меня убьет». Но все же повернулась к Китоми и сказала:
– У меня есть идея.
По дороге к Эль-Муро-де-лас-Лагримас, или Стене слез, мы с Беатрис обходим останки русалки, которая появилась на пляже вчера – там, где сухой песок встречается с мокрым. Ее хвост состоит из чешуек-раковин; спутанные волосы – из морских водорослей. Но сегодня наше песочное произведение искусства почти смыто морем.
– Спорим, к началу комендантского часа ее смоет с берега окончательно? – спрашивает Беатрис.
– Тибетские монахи тратят месяцы на создание песочных мандал, а затем сметают весь песок в банку и выбрасывают в реку, – отвечаю я.
Она поворачивается ко мне, и в ее глазах я вижу боль.
– Почему?
– Потому что ничто не вечно, и в этом весь смысл.
Беатрис смотрит на останки нашей скульптуры.
– Глупее я ничего в своей жизни не слышала. – Она берет свою бутылку с водой. – Вы идете или как?
Сегодня мы с Беатрис решили добраться до Эль-Муро-де-лас-Лагримас, части бывшей исправительной колонии. Нам предстоит часа два идти по выжженной местности мимо кустарников, кактусов и тех самых ядовитых яблонь. И хотя мы вышли очень рано, солнце взошло уже довольно высоко, моя рубашка, мокрая от пота, прилипла к спине, а голая кожа на месте пробора в волосах, видимо, сгорела и начинает побаливать.
Беатрис по-прежнему сдержанна со мной, но бывают моменты, когда она теряет бдительность. Раз или два я даже сумела ее рассмешить. Может быть, глупо думать, что в моей компании она на время забывает свою печаль, но зато я вроде как присматриваю за ней. По крайней мере, свежих порезов на ее руках я не обнаружила.
– Я думала, искусство – это то, что остается после человека, за что его помнят будущие поколения, – говорит Беатрис.
– Чтобы запомниться, необязательно создавать какое-то законченное произведение искусства, которое можно повесить на стенку, – возражаю я. – Ты слышала об английском художнике и политическом активисте по имени Бэнкси? Одна из его картин, «Девочка с воздушным шаром», была продана на аукционе компании, где я работаю, в две тысячи восемнадцатом году. Кто-то купил ее за один миллион четыреста тысяч долларов… Сразу же после окончания торгов картина была разрезана на тонкие полоски на глазах у участников торгов. В своем Instagram Бэнкси написал «Раз, два, три, продано!» и признался, что намеренно встроил в раму картины шредер на случай, если работа будет участвовать в аукционе.
– Вы были там, когда это случилось?
– Нет, аукцион проходил в Англии.
– Столько денег потрачено впустую.
– На самом деле картина только выросла в цене после того, как была почти уничтожена. Потому что настоящим искусством была не сама работа, а акт ее уничтожения.
Беатрис поднимает на меня глаза:
– Когда вы поняли, что хотите продавать произведения искусства?
– Еще в колледже, – признаюсь я. – А до того хотела быть художником.
– Правда?
– Да. Мой отец был реставратором. Он восстанавливал картины и фрески.
– Как картина этого Бэнкси?
– Да, типа того, хотя работа Бэнкси и не была воссоздана в своем первоначальном виде. Реставраторы обычно восстанавливают старинные вещи, которые буквально разваливаются на куски. Отец брал меня с собой на работу, когда я была маленькой, и позволял мне закрасить какой-нибудь крошечный кусочек, чтобы не испортить всю картину. Я уверена, что его работодатели об этом ничего не знали. Это были лучшие дни моей жизни! Он всегда спрашивал мое мнение, как будто оно имело хоть какой-то вес. «Как думаешь, Диана, здесь больше подойдет фиолетовый или индиго? Можешь разглядеть, сколько когтей на этой лапе?»
Я ощущаю, как позади меня встает черная тень, которая всегда следует по пятам за воспоминаниями: едкий дым несправедливости, осознание того, что отца, которого мне так не хватает, больше нет.
– Он все еще позволяет вам рисовать вместе с ним? – интересуется Беатрис.
– Он умер. Около четырех лет назад.
– Мне так жаль. – Она не сводит с меня глаз.
– Мне тоже.
Какое-то время мы молча продолжаем свой путь, а потом Беатрис вдруг спрашивает:
– Почему вы больше не рисуете?
– Времени нет, – отвечаю я, хотя знаю, что это неправда.
Я не нашла времени на рисование, потому что не старалась его найти.
Я точно помню, когда именно убрала свои рисовальные принадлежности в коробку из-под обуви – перекореженные тюбики акриловой краски и палитру, на которую, словно кольца на стволе дерева, наслаивались моменты моего вдохновения. Я сделала это сразу после студенческой выставки в колледже, на которой отец сказал, что моя картина напомнила ему работы моей матери. Однако я почему-то не выбросила ту коробку. Я взяла ее с собой в Нью-Йорк и убрала, по-прежнему запакованную, на самую верхнюю полку шкафа, спрятав за студенческими толстовками, которые больше не носила, но не могла пожертвовать на благотворительность, за зимними походными ботинками, которые я купила, но так ни разу и не надела, и за коробкой со старыми налоговыми декларациями.
Беатрис смотрит на меня с сочувствием:
– Вы перестали рисовать, потому что у вас плохо получалось?
Я смеюсь:
– На это легко можно возразить тем, что искусство – это намеренно оставленный кем-то след. Он не обязательно должен быть красивым.
Беатрис прикрывает рукавами толстовки свои запястья. Даже в такую жару она предпочла отправиться в поход в толстовке, только чтобы не показывать мне свои шрамы на руках.
– Не всякий след – это искусство, – бормочет она.
Я останавливаюсь.
– Беатрис… – начинаю я.
– Иногда я забываю, как она выглядит. Моя мать, – перебивает меня Беатрис.
– Я уверена, что твой отец мог бы…
– Я и не хочу о ней вспоминать. Но потом я думаю… – Она переходит на шепот. – Я думаю, что, быть может, меня тоже очень легко забыть.
Я беру ее за руку и осторожно приподнимаю рукав. Вместе мы смотрим на дорожку из шрамов, одна часть которых со временем померкла, а другая – по-прежнему остается сердито-красной.
– Так вот почему ты режешь себя? – тихо спрашиваю я.
Я жду, что она вот-вот отстранится и замкнется в себе, но вдруг Беатрис начинает говорить, быстро и тихо:
– Наверное, в первый раз я порезала себя именно из-за этого. Но потом… На какое-то время я перестала это делать. В школе было легче переключиться на что-то другое. А прямо перед тем, как вернуться сюда… – Она качает головой и на время замолкает. – Почему именно тех, кто даже не замечает твоего существования, ты не можешь выкинуть из головы?
– Когда я была маленькой, мамы вечно не было дома. Раньше я даже думала, что ее многочисленные командировки – на самом деле попытки сбежать от меня.
Я чувствую, словно кто-то проткнул наполненный гневом воздушный шар у меня внутри. Слова вылетают из меня, словно воздух из маленькой дырочки. Я не помню, чтобы говорила кому-нибудь нечто подобное. Даже Финну.
Беатрис смотрит на меня так, словно я за секунду изменилась до неузнаваемости.
– Она сбежала к фотографу из «Нэшнл джиографик»? – сухо спрашивает она.
– Нет. Просто решила, что все в мире – буквально все – важнее меня. А теперь у нее деменция, и она понятия не имеет, кто я такая.
– Это… отстой.
– Это данность. – Я пожимаю плечами. – Если кто-то бросил тебя, то это больше говорит о нем, чем о тебе.
Впереди из выжженной земли внезапно вырастает стена, и я замолкаю. Она сделана из вулканической породы и возвышается над нами на добрых шестьдесят футов. Стена такая длинная, что я не вижу, где она кончается. Я понимаю, что она, по сути, ничего не ограждает.
– Заключенные строили ее в сороковые и пятидесятые годы прошлого века, – поясняет Беатрис. – Это была совершенно бессмысленная работа, своего рода наказание. Многие заключенные погибли во время строительства.
– Какая мрачная история, – бормочу я.
Стены возводят, как правило, по двум причинам. Чтобы сдержать тех, кого вы боитесь, и чтобы сберечь тех, кого вы любите.
Однако в любом случае вы возводите некий барьер.
– К ним приходил только один корабль в год с различного рода припасами. Заключенные и их охранники умирали с голоду. Чтобы выжить, они охотились на сухопутных черепах. Ходят слухи, что тут полно призраков и можно слышать, как они плачут по ночам, – говорит Беатрис. – Жутко до чертиков!
Я подхожу ближе. Двигаясь вдоль стены, я замечаю выгравированные на ней символы, буквы, даты, узоры, простые засечки.
Если определять искусство как нечто рукотворное, заставляющее нас помнить о его создателях после их смерти, то эта стена определенно является произведением искусства. Тот факт, что она незакончена или полуразрушена, не делает ее менее поразительной.
Внезапно телефон начинает вибрировать у меня в кармане, и я подпрыгиваю от удивления. Давненько мне никто не звонил. Я вытаскиваю его и чуть не вскрикиваю, когда вижу на экране имя Финна.
– Боже мой! – отвечаю я. – Неужели это ты? Неужели это в самом деле ты?!
– Диана! Не могу поверить, что наконец удалось до тебя дозвониться. – Его голос перемежается помехами, но звучит так до боли знакомо. Слезы наворачиваются мне на глаза. Я изо всех сил пытаюсь расслышать его слова. – Скажи… и каждый… тебе… это было.
Я слышу только половину из того, что он говорит, поэтому, крепко прижав телефон к уху, продолжаю двигаться вдоль стены в надежде поймать сигнал получше.
– Финн, ты меня слышишь? – спрашиваю я.
– Да, да, – отвечает он, и я слышу, с каким облегчением Финн это произносит. – Господи, как же приятно наконец поговорить с тобой!
– Я получила твои электронные письма…
– Я не думал, что они до тебя…
– Связь здесь просто ужасная. Я отправила тебе несколько открыток.
– Я пока еще ничего не получил. Не могу поверить, что на острове нет Интернета.
– Ага. – Это совсем не то, о чем я хочу с ним поговорить, но боюсь, что появившаяся из ниоткуда связь вот-вот снова пропадет. – Как ты там? Кажется, что ты…
– Не могу тебе этого описать, Ди, – отвечает он. – Какой-то замкнутый круг.
– Но хотя бы с тобой все в порядке, – заявляю я несколько безапелляционно.
– Пока да, – говорит Финн. – Я читал, что Гуаякилю сильно досталось. Они складывают тела на улицах.
У меня сводит живот от ужаса.
– Я не видела на острове ни одного больного, – заверяю я его. – Все носят маски, у нас введен комендантский час.
– Хотелось бы, чтобы и у нас было так же, – вздыхает Финн. – Мне кажется, что целыми днями я только и делаю, что ношу мешки с песком для борьбы с водной стихией, но потом выхожу на улицу и понимаю, что это гребаное цунами, и у нас нет ни единого шанса. – Его голос вновь прерывается.
Я смотрю на кудрявые облака в небе, отражение солнца в океане. Словно картинка с открытки. Всего в нескольких сотнях миль отсюда вирус убивает людей так быстро, что тела некуда складывать, но с того места, где я стою, об этом вы бы никогда не узнали. Я думаю о пустых полках в продуктовом магазине, о людях вроде Габриэля, выращивающих себе еду в высокогорье, о рыбаках, которым приходится возить почту на материк, о туризме, который в одночасье прекратился. Быть отрезанным от внешнего мира – одновременно и проклятие, и благословение островитян.
Голос Финна вновь прерывают помехи.
– Беременные женщины… роды один… отделение реанимации и интенсивной терапии… часы приема… умрут в течение часа.
– Тебя плохо слышно, Финн…
– Ничего не меняется и…
– Финн?
– …все мертвы. – Внезапно последние слова слышны четко и ясно. – А когда я наконец прихожу домой, то тебя там нет, и я словно получаю очередную пощечину. Ты не представляешь, как тяжело сейчас быть одному.
Я отлично это представляю.
– Но ведь ты сам велел мне поехать, – тихо говорю я.
Повисает пауза.
– Да, – отвечает Финн. – Наверное, я надеялся… что ты меня не послушаешь.
«Тогда ты должен был так и сказать, – думаю я со злостью, но мои глаза наполняются слезами; я чувствую вину, разочарование, гнев. – Я не умею читать мысли».
Внезапно проблема кажется гораздо серьезнее, словно семя сомнения, только попав в землю, тут же дает росток.
– Ди…а? – слышу я прерывающийся голос Финна. – Ты… все еще…
Хотя я стою на одном месте, сигнал пропадает. Телефон в моей руке гаснет. Я засовываю его в карман и бреду обратно вдоль стены в поисках Беатрис. Вскоре я обнаруживаю девочку – она сидит в тени и царапает одним куском базальта гладкую поверхность другого.
– Это звонил ваш парень? – спрашивает Беатрис.
– Да.
– Он скучает по вам?
Я сажусь рядом с ней.
– Да. – Я наблюдаю, как она рисует на камне решетку и заштриховывает каждый второй ее квадратик, получая шахматный узор. – Что это?
Она бросает на меня странный взгляд:
– Искусство.
Я прислоняюсь спиной к острым камням стены. Существует бесконечное множество способов оставить свой след в мире – резьба, гравировка, живопись. Быть может, каждое из них требует определенной платы – частички вас самих: вашей плоти, вашей силы, вашей души.
Я нахожу острый камешек и вырезаю им свое имя на другом камне, затем на соседнем имя Беатрис. Потом я встаю и выковыриваю несколько камешков из стены, чтобы вставить на их место камни с нашими именами.
– А это что такое? – спрашивает Беатрис.
– Искусство, – отвечаю я, вытирая грязные руки о свои шорты.
Беатрис вскакивает и вместе со мной отходит на некоторое расстояние от стены. Камни, на которых я вырезала наши имена, бледно-серые, а потому отлично выделяются на фоне темной стены. Издалека их не видно. Но если подойти чуть ближе, не заметить их невозможно. Достаточно сделать всего несколько шагов.
Впервые я увидела искусство импрессионистов в Бруклинском музее. Мы были там вместе с отцом. Он закрыл мне глаза руками и подвел к картине Моне «Парламент, эффект солнца».
– Что ты видишь? – спросил он, убрав руки с моих глаз.
Оказавшись всего в нескольких дюймах от холста, я видела перед собой лишь розоватые и голубоватые бесформенные пятна, отчетливо различимые мазки кисти.
Отец вновь закрыл мне глаза и заставил попятиться.
– Абракадабра, – прошептал он и позволил мне взглянуть на картину еще раз.
Теперь я видела перед собой здания, воду и туман. Целый город. Он был там все время, просто я стояла слишком близко, чтобы его заметить.
Прищурившись, я смотрю на светлые пятна в стене с нашими именами и думаю, что искусство работает в обоих направлениях. Иногда нужна перспектива. А иногда невозможно сказать, на что вы смотрите, пока оно не окажется у вас под носом.
Я поворачиваюсь к Беатрис. Она задрала голову к небу. Ее глаза закрыты, а кожа на шее натянулась, словно в ожидании, когда по ней полоснут ножом.
– Отличное место, – говорит Беатрис, – чтобы умереть.
Дорогой Финн!
К тому времени, когда ты получишь эту открытку, то наверняка уже забудешь о том, что сказал мне, когда мы наконец смогли поговорить, даже если наш разговор и длился не больше минуты.
Я никогда не хотела ехать куда бы то ни было без тебя.
Если ты не хотел, чтобы я летела на Галапагосы одна, зачем сам это предложил?
Не могу перестать задаваться вопросом: всегда ли ты говорил мне то, что хотел сказать на самом деле?..
Диана
Тулуз-Лотрек редко рисовал самого себя, а когда рисовал, то скрывал недостатки нижней части своего тела. На картине «В кабаре „Мулен-Руж“» мы можем узнать художника на заднем плане рядом с его гораздо более высоким двоюродным братом, при этом непропорционально короткие ноги Тулуз-Лотрека не видны – их закрывает группа людей за столом. На «Автопортрете перед зеркалом» художник изобразил только верхнюю часть своего тела. Знаменитая фотография Тулуз-Лотрека в костюме маленького клоуна как бы говорит, что люди, которые замечают лишь недостатки художника, составляют о нем неправильное мнение.
Все это делало картину Китоми Ито поистине уникальной. Это была единственная работа Тулуз-Лотрека, где он представал почти голым, как бы подчеркивая тем самым, что любовь обнажает нас и делает уязвимыми. В отличие от большинства работ, которые были выставлены после смерти художника в музее, финансируемом его матерью и расположенном в городе Альби, где Тулуз-Лотрек родился, картина Китоми попала в поле зрения общественности лишь в 1908 году. До тех пор она хранилась у друга французского живописца, торговца произведениями искусства по имени Морис Жуаян. Художник оставил своему другу прямое указание касательно этого полотна: продавать только тому, кто готов отказаться от всего ради любви.
Первой владелицей картины стала Коко Шанель, которая получила ее в подарок от Артура Боя Кейпела, богатого аристократа, купившего работу Тулуз-Лотрека, чтобы увести Коко у ее первого любовника Этьена Бальсана. Шанель безумно любила Кейпела, который поддерживал ее страсть к дизайну одежды и финансировал открытие бутика в Довиле и дома моды в Биаррице. Их отношения были напряженными и страстными, хотя Кейпел никогда не был верен Коко, женился на аристократке и имел вторую любовницу. Когда Кейпел погиб, незадолго до рождества 1919 года, Шанель задрапировала окна черным крепом и постелила на кровать черные простыни.
– Я потеряла все, когда потеряла Кейпела, – однажды призналась она. – Он оставил во мне пустоту, которую не заполнили годы.
Несколько лет спустя Шанель познакомилась с герцогом Вестминстерским, и тот пригласил ее отобедать с ним на его яхте «Летящее облако». У пары завязался роман. Впоследствии герцог предложил эту яхту в качестве места для свиданий своему другу Эдуарду VIII, королю Великобритании, который без памяти влюбился в Уоллис Симпсон, американку в разводе. Яхтой пара так и не воспользовалась, однако страсть к этой женщине заставила Эдуарда отречься от престола. Несколько месяцев спустя, в 1937 году, Эдуард купил картину Тулуз-Лотрека для Уоллис, связавшись с Коко Шанель через их общего друга герцога Вестминстерского. Шанель хотела избавиться от картины, потому что она, по словам Коко, разбила ей сердце.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































