Текст книги "Только женщины"
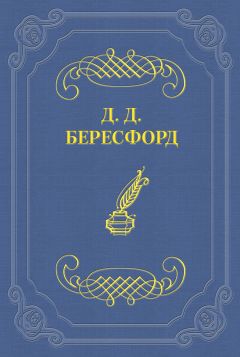
Автор книги: Джон Бересфорд
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Паника
Гэрней, выйдя в эту субботу из конторы, решил не поддаваться общему унынию и пошел завтракать в Гаймаркет, подбодрить себя хорошим белым вином в знакомом ресторане.
– Что это нынче все как захандрили, Эрнст? – обратился он к лакею с напускной развязностью. – И у вас тоже похоронный вид.
Эрнст, менее учтивый, чем обыкновенно, пожал плечами. – Еще бы не захандрить! Есть от чего.
– Вы что – плохие вести получили из Германии?
– Ach Gott! s'ist bald Keiner mehr da[2]2
Скоро там ни одного человека не останется.
[Закрыть], – пробормотал Эрнст и вдруг заплакал, утирая глаза салфеткой.
– Я очень извиняюсь, – пролепетал сконфуженный Гэрней и поспешил укрыться за вечернюю газету. Но и газета не развеселила его. В ресторане народу было мало, и все удрученные, неразговорчивые. Гэрней, не докончив завтрака, закурил папироску, бросил на стол четыре шиллинга и поспешил на воздух.
Он не взглянул на небо, сворачивая на Флит-стрит, и никто в Лондоне в этот день не глядел на небо. Все шли сгорбленные, понурив голову, уставившись в землю, словно невидимое бремя пригибало всех к земле.
На Флит-стрит было людно; возле окон редакций толпился народ, но вместо оживления, царящего во время выборов, всюду чувствовалось сдержанное раздражение, временами прорывавшееся наружу вспышками беспричинного гнева.
Гэрней, сам едва сдерживавшийся, ни с того, ни с сего обозлился на кучера автобуса, крикнувшего ему, чтобы он посторонился, как будто лучше было бы быть раздавленным, чем перенести окрик. Грохот этих проклятых автобусов был прямо-таки нестерпим, точно так же, как и топот ног по тротуару и глухой говор унылых тихих голосов. И что, в самом деле, не могут эти люди идти молча!
Шарахнувшись в сторону от автобуса, Гэрней кого-то толкнул на тротуаре, и тот обидно выругался. Гэрней ответил тем же и только после того разглядел, что перед ним знакомый. Оба на миг сконфузились. Потом Гэрней спросил: – Какие новости?
Знакомый, журналист, покачал головой. – Я как раз иду обратно в редакцию. Десять минут назад ничего не было.
– Какой ужас, не правда ли?
Журналист пожал плечами и пошёл дальше.
А Гэрнея стиснули в толпе, хлынувшей к окну «Дэли Кроникль», на котором молодой человек с очень бледным лицом только что наклеил бумажку с несколькими строками, написанными на машине.
Толпа напирала на окно; задним ничего не было видно, и они рвались вперед, толкая передних. Слышались возгласы: «В чем дело?.. Я не вижу… Что там такое написано?.. Читайте громко». Передние слегка расступились, и задние могли прочесть: «Еще два заболевания в Денди, и одно в Эдинбурге».
Гнет, висевший с утра над всеми лондонцами, вдруг рассеялся, сменившись острым страхом, который хватал за горло. Люди переглядывались с ужасом, почти с ненавистью. Толпа вдруг растаяла. Каждый спешил домой, гонимый инстинктивной потребностью бежать, спасать себя, пока еще не поздно.
Гэрней, растолкав соседей, вышел из толпы, кликнул проезжавший мимо кэб, вскочил, туда, мимоходом ответил на вопрос кучера: «Какие новости?» и захлопнул дверь.
– Джермин-стрит.
Несколько успокоенный быстрой ездой, Гэрней уже готов был предложить кучеру вывезти его из Лондона. Но сперва надо было заехать домой за деньгами.
В дверях своего дома он столкнулся с Джаспером Трэйлем.
– Вы слышали? – взволнованно спросил Гэрней.
– Нет. Что такое? – равнодушно спросил Трэйль. – Еще два случая в Денди и один в Эдинбурге.
Кучер соскочил с высоких козел, с интересом прислушиваясь к разговору.
Трэйль кивнул головой. – Я знал, что это будет.
– Надо уезжать отсюда, – сказал извозчик.
– Да, надо, – кивнул головой Гэрней.
– Куда? – осведомился Трэйль.
– Ну, в Америку.
Трэйль засмеялся. – Прежде, чем вы попадете туда, она дойдет и до Америки – через Японию и Фриско.
– Так что же, по вашему, и ехать некуда? – настаивал Гэрней.
– На этом свете – некуда. Эта моровая язва послана, чтобы уничтожить род людской. – Он говорил со спокойствием, невольно убеждавшим.
Кучер нахмурился. «Ну, тогда надо хоть покутить на последях».
Он высказал мысль, уже шевелившуюся в умах многих. Ведь бежать из города могли только богатые – в Ливерпуль, Соутгэмптон и прочие порты, где можно было надеяться найти корабль, который увезет их из Европы. Бедняки могли только «покутить на последях»… И на улицах Лондона в эту ночь царили паника и разгул. Ломали двери, били стекла в магазинах. Впрочем, больших убытков никто не потерпел. Двух-трех рот пехоты оказалось достаточно, чтобы очистить улицы, и серьезно пострадавших было не более сорока человек…
Тем временем, новый премьер сидел у себя в Доунинг-стрит, обхватив руками голову, и придумывал способы остановить приближение чумы. Он никогда раньше не занимал высокого поста, не привык ведать такими крупными делами. Он в совершенстве изучил только одно: партийную тактику, искусство поддеть противника в дебатах, подметить, куда клонится общественное мнение и утилизировать его для партийных целей. Но теперь от него требовали не расчетов, а поступков, и поступков непривычных, и он не знал, что делать. И, невольно, соображая, можно ли последовать совету газеты, рекомендовавшей «отсечь весь север Англии огненным мечом», он думал о том, как это могло бы отразиться на предстоящих общих выборах.
«Отрезать север линией пожаров – это значит потерять его. Шотландия никогда не простит нам этого. Все шотландцы избиратели отшатнутся от нас»… Он добросовестно старался рассуждать, не касаясь политики, но голова его не умела мыслить иначе…
* * *
Тем временем в Джермин-стрит Трэйль силился успокоить Гэрнея и привить ему свое философское равнодушие, доказывая, что бежать некуда, поддаваться животному страху постыдно, а умереть, все равно, когда-нибудь придется, и смерть от этой болезни не так уже ужасна. И Гэрней соглашался с ним, но успокоиться не мог. Ему не сиделось на месте; поминутно он вскакивал и подбегал к окну; каждый звук, доносившийся с улицы, волновал его, а когда, вечером, послышались крики и выстрелы, он решительно заявил, что уедет из Лондона. Уж лучше умереть в деревне.
– В Лондоне такая гнетущая тоска! – жаловался он.
– Ну, что ж, поезжайте в деревню размышлять о смерти. Может быть, это и развеселит вас. Но лучше, послушайтесь моего совета и никуда не уезжай те. Наоборот, замедляйте шаги и подавляйте в себе всякую наклонность торопиться. Раз вы ускорили шаг, вы неизбежно побежите, и чем дальше, тем быстрее, так как по пятам за вами будет гнаться страх. А, ведь может случиться, что вы и останетесь в живых. Ведь не все же мужчины поголовно заболевают.
– Конечно, конечно, не все. Но, ведь в деревне, на чистом воздухе, или у моря, все же больше шансов уцелеть. Я вот, например, в этом году хотел ехать в отпуск в Корнуэльс – там есть такое, совсем глухое местечко на берегу, милях в четырех от Падстоу – вы не думаете, что в таком глухом, изолированном месте больше шансов спастись?
– Весьма возможно. Но, во всяком случае, не торопитесь. Поезжайте в середине недели, когда схлынет первая волна бегущих.
– Хорошо. Да. Может быть. Я поеду в среду, или во вторник…
Трэйль угрюмо усмехнулся. – Ну, покойной ночи. Я иду спать.
Гэрней, оставшись один, снова забегал по комнате. Он старался привыкнуть к мысли, что в целом мире нет места, где бы можно было спастись от этой ужасной болезни – и не мог. Целый час он боролся с собой, с этим странным новым инстинктом, гнавшим его прочь, все быстрей и быстрей, ради спасения жизни. И, наконец, совсем измученный, кинулся в кресло у камина и заплакал, как заблудившийся ребенок…
* * *
Паническое бегство из Лондона длилось до вечера понедельника. А затем, пришла весть, сразу остановившая его. Чума уже добралась и до Америки. Она пришла с Запада, как пророчествовал Трэйль. И те счастливцы, которым удалось получить каюту на океанском пароходе, колебались и с пристани возвращались домой: уж, если умирать, так лучше дома, чем в Америке.
И все же, даже во вторник утром, когда сомневаться в пришествии чумы было уже невозможно, когда в Денди умерло уже более тысячи человек и вся Шотландия была охвачена заразой, распространявшейся с невероятной быстротой, даже после известия, что в Дургаме, на крайнем юге, тоже заболело двое, – все же еще оставались люди, упорно твердившие, что опасность страшно преувеличена, верившие, что она скоро минует, и упорно державшиеся своих привычек и рутины жизни.
Этим людям, составлявшим около двух пятых всего населения столицы, Лондон был обязан сравнительным сохранением порядка и спокойствия. Несмотря на вынужденное закрытие почти всех фабрик, складов и контор, даже тех, которые не вели дел с заграницей, некоторая видимость привычной жизни все еще как будто сохранилась. Выходили газеты, сновали поезда и автобусы; театры и кафешантаны были по-прежнему открыты, и многие продолжали свои обычные занятия.
Но все расхлябалось, как в испорченном часовом механизме. Преступники обнаглели, а правосудие ослабло. Кражи съестных припасов стали явлением таким обычным, что некуда уже было сажать даже и пойманных воров. Торговцы без зазрения совести обмеривали и обвешивали покупателей. Гражданин, почувствовавший, что он не может дольше полагаться исключительно на покровительство государства, расплывался в индивидууме. Общественное мнение распалось на мнения отдельных лиц; оковы сдержанности пали, и в каждом человеке проступали неожиданные стороны его характера. Предоставленный собственным ресурсам, он утрачивал цивилизованность, проникался сознанием возможности удовлетворить в течение долгого времени подавляемые желания и наклонности и начинал понимать, что, когда кричат: «спасайся, кто может», слабых топчут ногами.
Таким образом, часовой механизм цивилизации испортился и обнаружился голый человек, со всеми его уродствами и недостатками. И женщины бледнели, трепетали. Ибо страх, от которого грубел и дичал мужчина, пока еще почти не отразился на характере женщин. Ибо в женщине крепче сидит вера в незыблемость излюбленных ею приличий и условностей. Притом же, женщина больше боится женских язычков, чем мужчина осуждения других мужчин.
Гэрней в Корнуэльсе
Гэрнею надо было бежать, либо от чумы, либо от самого себя. В беседах с Трэйлем он изощрялся в софизмах и, в напрасных попытках убедить своего сожителя, убедил только самого себя, что его рассуждения здравы и выводы не предвзяты.
Однако, Лондон он покинул только в четверг, захватив с собой фунтов триста золотом, которые ему удалось реализовать продажею имущества. На эти деньги он решил закупить сахару, муки и других припасов, без которых трудно обойтись, купить двух-трех коров, кур, растить цыплят, развести огород, насадить побольше картофеля – вообще, позаботиться о том, чтоб обеспечить себя от надвигающейся голодовки.
«Хутор» на берегу Бухты Константина, куда он ехал, был очень подходящим местом для выполнения такой затеи. Хутор этот принадлежал одному его приятелю, достаточно богатому, чтоб позволять себе капризы, и ухлопавшему на оборудование этого хутора немало денег, но приятель редко сам заглядывал на хутор и был слишком беспечен, чтобы сдавать его внаймы; поэтому усадьба пустовала и, когда Гэрней попросил разрешения пожить в ней, приятель предоставил хутор в полное его распоряжение. – «Для меня же лучше – сырости не заведется и все такое».
Не откладывая в долгий ящик, Гэрней, тотчас же по прибытии на хутор, принялся осуществлять задуманный им план и недели три был так занят покупками и изучением нового для себя дела, что, действительно, добился желаемого – ушел от самого себя.
Здесь он чувствовал себя безопасным; не получал ни писем, ни газет; старый батрак, помогавший ему сажать картофель, учивший его доить коров и делать грядки, все слухи о чуме, проникшие и в мирную деревушку Сент-Меррин, считал иностранными враками, не имеющими отношения к жизни в Корнуэльсе, в том небольшом клочке земли, который для него был целым миром.
Гэрней сам стал верить, что чума сюда не заберется, и однажды, в первых числах, мая, закончив свою продовольственную кампанию, надумал съездить на другой конец полуострова, к знакомому в Ист-Лу. Дело в том, что он соскучился по людям; старый Гаукин все знал про коров и про картофель, но был туг на ухо, и запас его идей был очень ограничен.
* * *
От Падстоу до Лу дорога не очень-то приятная – на небольшом расстоянии три пересадки; но Гэрней не торопился, и разговоры, слышанные им в вагоне, не разрушили его вновь обретенного спокойствия. Правда, были упоминания и о чуме, но лишь в связи с оскудением торговли и вздорожанием съестных припасов. Один пассажир, очевидно, фермер, радовался повышению цен на хлеб и хвастал, что он в этом году засеял пшеницей больше акров, чем обыкновенно.
Дикенсон, друг Гэрнея, серьезней относился к этому вопросу, но и он лично для себя не боялся заразы. Он был ярый либерал и огорчался главным образом тем, что чума пришла не вовремя и помешала либеральному правительству закончить, так успешно начатое проведение целого ряда полезных законов. Огорчали его также вести об обнищании народа и голодовках и жестокий удар, нанесенный английской торговле. Но, все же, он надеялся, что надвинувшаяся гроза минует, и настанет новая эра просвещенного режима и разумных либеральных реформ.
Гэрней остался ночевать и пробыл у него до вечера.
На обратном пути ему пришлось в Лискерде ждать поезда из Лондона, который должен был доставить его в Бодмин-Род.
Был чудный майский вечер. День выпал жаркий, но теперь потянуло прохладой с моря и сумеречные тени уже окутали станцию.
Гэрней неторопливо расхаживал по платформе, радуясь физической силе и жизнерадостности, которые он ощущал в себе. Он был склонен фантазировать и в моменты экзальтации находил мир и интересным, и красивым – вполне достойною оправой для такой драгоценности, как он, Гэрней.
Итак, он шагал по платформе, с интересом вглядываясь в каждую женскую фигуру и ни мало не огорчаясь тем, что поезд запоздал на целый час. Он это предвидел. Ведь и тот поезд, с которым он приехал, без всякой видимой причины, опоздал на полчаса. Если он не захватит поезда в Вэйбридже – ну, что ж, придется пройти пешком семь-восемь миль – не велика беда.
На нижней платформе дожидалось поезда еще человек пятнадцать-двадцать, и Гэрней неожиданно заметил, что эти другие пассажиры уже не разбивались на маленькие группы, по двое – по трое, как прежде, а столпились вместе, по-видимому обсуждая что-то важное и интересное.
Гэрней, замечтавшись, и не заметил, как прошло время, и теперь, взглянув на часы, изумился; он сидит здесь уже два часа, а поезда все нет. Солнце село, но в небе еще догорали лучи заката. Один человек отделился от центральной группы. Гэрней подошел к нему.
– На два часа опоздал, – начал он, вместо представления, и еще раз взглянул на часы.
Незнакомец сочувственно кивнул головой. – Курьезная история! И на станции никаких извещений не получено. Обыкновенно, когда поезд выходит из Плимута, начальнику станции дают знать телеграммой.
– Господи помилуй! – воскликнул Гэрней. – Не уж то же поезд еще не вышел из Плимута?
– По-видимому, так. Говорят, это все чума. В Лондоне, говорят, ужас, что делается.
– Неужели же вы считаете возможным, что поезд вовсе не придет?..
– О! Этого я не думаю. Нет, этого я не думаю, но когда он придет – Бог его знает. Ужасно это не удобно для меня. Я еду в Сент-Айвз. Пешком отсюда – не дойдешь. А вам – далеко ехать?
– Да, в Падстоу.
– Падстоу? – Это тоже не близко.
– Дальше, чем мне желательно было бы идти пешком.
– Я думаю. Тридцать миль, или что-то в этом роде.
– Приблизительно. Вы не знаете, где бы можно было навести справку?
– Не знаю. Страсть, как это неудобно.
Гэрней перешел через рельсы и ворвался к начальнику станции.
– Извините, что беспокою вас, но не можете ли вы мне объяснить – как вы думаете, может быть, этот поезд почему-нибудь вычеркнут из расписания?
– Как так: вычеркнут? – словно обиделся начальник станции. – Почему вычеркнут? Он просто немножко запоздал.
Гэрней улыбнулся. – На два часа, и даже больше – вы это называете: «немножко».
– Да что же я-то тут могу поделать? Вам придется потерпеть…
– А из Плимута вы все еще не получали извещения о выходе поезда? – настаивал Гэрней, не обращая внимания на неудовольствие начальника.
– Нет, не получал; должно быть, оборваны провода. Мы делали запрос, но ответа не добились. Извините, у меня работа…
Гэрней вернулся на нижнюю платформу и присоединился к группе пассажиров, в которой был и говоривший с ним несколько минут тому назад.
Закат догорел; за высокой железнодорожной насыпью всходил бледный молодой месяц. Станционный сторож зажег фонари на перроне, но они еще не горели полным светом.
– Начальник станции говорит, что телеграф не действует – должно быть, провода испортились, – сообщил Гэрней, обращаясь ко всей группе пассажиров: – они не могут добиться ответа.
– Наверно, провода оборваны.
– Или машинист заболел чумой.
– Ну, машиниста можно было взять другого.
– Да, если б было где взять.
– Однако, этак и сюда могут занести чуму.
А почему же нет? Эта страшная мысль тисками сжала сердце Гэрнея. Далекая столица вдруг показалась страшно близкой. Ведь от Паддингона до Лискерда всего шесть-семь часов, езды. Каждую минуту лондонский поезд может прибыть, неся с собой беспощадную заразу. Чего он дожидается? Возле вокзала есть гостиница. Может быть, там найдется экипаж.
– Бухта Константина? Где это? – удивился хозяин гостиницы.
– Возле Сен-Меррина, неподалеку от Падстоу.
– Падстоу? Ехать в Падстоу – ночью – этакую даль? Да что же вы на поезд-то не сядете?
Гэрней пожал плечами.
– Поезд, по-видимому, не придет.
– Ну, плохо дело. Это, наверное, чума. – Содержатель гостиницы, видимо, относился к делу философски, но дать лошадей отказался наотрез.
Гэрней вышел на улицу. Кучка ожидающих на перроне как будто уменьшилась, но уже так стемнело, что трудно было рассмотреть.
– Надо взять себя в руки, – наставительно говорил себе Гэрней. – Помни, спешить нельзя.
По крутому скату к нему бежал человек, и Гэрней, не спеша, пошел ему навстречу. Это был тот самый человек, с которым он давеча разговаривал на платформе.
– Есть что-нибудь новое? – спросил Гэрней.
– Да, получено известие окольным путем, через Сальташ. Так и есть. Везде чума. Они сами не знают, когда ждать следующего поезда…
* * *
Дни вырастали в недели, а поезда все не ходили: Торговля стала; цены на съестные припасы все росли. Рыба имелась на рынке, но не в изобилии, и внутренние города, как Труро и Добин, организовали постоянное моторное сообщение с прибрежными селениями, с целью скупки рыбы прямо на месте, у рыбаков. Но через неделю пришлось обратиться к услугам лошадей, за отсутствием бензина.
А через три недели вошла в обычай система обмена, по крайней мере, между фермерами и рыбаками Корнуэльса. Люди убедились в бесполезности золота, серебра и меди, как знаков обмена, и просто обменивали одни продукты на другие, например, яйца на рыбу. Корнуэльс, может быть, и мог бы прожить таким образом, своими средствами, так как голод и лишения быстро уменьшали его и без того небольшое население, но, в конце концов, чума была занесена и сюда, – пароходом, посланным за рыбой из Кардифа…
Обратная эволюция Джорджа Гослинга
Распространение новой чумной эпидемии в Лондоне и, вообще, на земном шаре, и ранних стадиях, сопровождалось приблизительно теми же явлениями, какие наблюдались во время чумы 1665 года. Запертые дома, опустелые улицы, ямы, куда трупы сваливались, как попало, развитие всякого рода эксцессов, различные проявления страха, стойкости и мужества – все это свидетельствовало о том, что человечество, в среднем, очень мало изменилось, в сравнении с семнадцатым веком. Разница всего заметней сказывалась в том, что население Лондона чрезвычайно быстро обнищало и начало голодать. Даже еще до того, как чума достигла Англии, недостаток съестных припасов уже давал себя чувствовать с такою силой, которая наглядно подтверждала правдивость заявления великого экономиста, что Англии не просуществовать и трех месяцев при закрытых дверях.
С появлением же чумы Лондон остался при собственных ресурсах, очень скудных. Огромный город, производивший лишь предметы роскоши, ничего не прибавляя к тем существенным материалам, которыми держится жизнь, мгновенно очутился в положении Парижа зимой 1870–1871 года, с той только разницей, что население Лондона быстро убывало вследствие эмиграции и ещё больше – вследствие чумы. И, тем не менее, еще значительная часть этого населения со слепым упорством цеплялась за единственную жизнь, какой оно умело жить.
Так, например, Джордж Гослинг, во многих отношениях, поставленный в более благоприятные условия, чем обыкновенный обыватель, упорно не покидал своего дома в Вистерии-Гров, пока его не выжило оттуда отсутствие воды.
* * *
– Ну, что ж, поезжай в деревню размышлять быстротой – Гослинг нарушил один из великих законов, которые он до тех пор неуклонно соблюдал. Конторы и склады его хозяев в Барбикане были заперты (временно, как предполагалось) и сами хозяева уехали неведомо куда. Но у Гослинга были свои ключи от всех складов и, когда семья его начала голодать, он решил съездить в Сити и заимообразно (он усиленно подчеркивал это слово) запастись кое-какими необходимыми для жизни припасами в складах своей фирмы.
Он сговорился с приятелем, тоже церковным старостой церкви Св. Евангелиста Иоанна, торговцем углем, у которого, следовательно, были в распоряжении лошади и фургоны.
Они сговорились обо всех деталях. Это был еще один пример возрождения старых методов обмена. Взамен лошади и фургона Гослинг предоставлял в распоряжение приятеля свои возможности и знания. По причинам, вполне понятным, третьих лиц они в свой план не посвящали, и Буст, торговец углем, правил сам одним фургоном, а Гослинг другим, вернее, шел впереди него, так как после первой попытки править, он решил, что безопаснее будет вести лошадь под уздцы, чем идти за ней, вблизи ее копыт.
Набег произвели вполне успешно. Буст обо всем подумал, и бесценный груз жестянок с мясными, овощными и фруктовыми консервами был скрыт большим брезентом от завистливых взоров голодных прохожих – по лондонским улицам в те дни шлялось без дела много всякого народа, а Буст и Гослинг, в платьях, перепачканных углем, на обратном пути все время кричали «Чума! Чума!», давая тем понять, что они везут трупы зачумленных. Их не раз останавливали, прося свезти v на кладбище еще парочку трупов, но они отговаривались тем, что телеги и без того полны до верху – на одну погрузку, ушло шесть часов. И в этот день не только те, кто обращался к Гослингу и Бусту, часами ждали, чтобы от них увезли их мертвецов.
Гослинг вернулся домой, ликуя, хоть его и мучил страх, что он мог заразиться от тех трупов, которые пытались взвалить на его телегу. Награбленную провизию сложили в одной из нижних комнат, с помощью миссис Гослинг и обеих барышень, работавших два с половиной часа, не покладая рук; а затем, завесили окна, заперли двери и стали дожидаться, когда пройдет весь этот ужас.
Буст умер от чумы двое суток спустя, но, так как после него остались жена и четыре дочки, награбленное не пропало даром.
* * *
Почти две недели после этого набега Гослинги сидели запершись в своем домике в Вистерии-Грове, так как и они, подобно большинству англичан, еще не осмыслили всего значения того факта, что женщины почти не заражались. Среди женщин заболеваний было всего 8 %, да и то умирали только пожилые, старше пятидесяти лет. Когда в Европу впервые донеслись слухи о чуме, об этой странной, небывалой дотоле невосприимчивости женщин к новой эпидемии много говорили и писали. Эта пикантная особенность новой болезни вызывала даже больше интереса, чем усиленная смертность среди мужчин. Но когда угроза повисла над самой Европой, это странное предпочтение, оказываемое неведомой бактерией мужчинам, отошло на второй план перед более насущными жизненными интересами. И женщины семейства Гослинг, как и большинство других женщин, боялись заразы не меньше мужчин, оправдывая свои страхи тем, что, ведь, все-таки, были же и женщины, умиравшие от этой болезни.
Гослинги всегда жили между собой довольно мирно, и семейную жизнь их соседи ставили в пример. Глава семьи уходил из дому в 8 ч. 15 м., а в 7 ч 15 м. неукоснительно возвращался, и только по воскресеньям, когда шел дождь и нельзя было пойти гулять, в доме иной раз от скуки вспыхивала перебранка.
Но теперь, когда пришлось жить все время взаперти, в этом маленьком домике, под гнетом страха и без всяких интересов или развлечений, приходящих извне, члены семейства Гослинг предстали друг перед другом в новом свете. Уже через два дня во всех четверых кипело глухое раздражение, сдерживаемое лишь узами условной привязанности.
На третий день атмосфера стала такой гнетущей, что взрыв был неизбежен. И утром разразилась гроза.
У Гослинга вышел весь табак и он решил, что, при данных обстоятельствах безопаснее будет послать Бланш или Милли, чем идти самому. И, с, преувеличенной, напускной небрежностью, сказал:
– Послушай-ка, Милли, ты бы сходила мне в лавочку за табаком.
– Нет уж, увольте. Не пойду! – был решительный ответ.
– Это почему же так? – осведомился Гослинг.
Милли пожала плечами и кликнула сестру:
– Бланш, отец хочет нас послать за чем-то. Ты пойдешь? Бланш, с пыльной тряпкой в руках, появилась в дверях.
– Почему же он сам не сходит?
– Потому, – ответил папаша, уже побагровев, но сдерживаясь и выбирая слова: – потому, что мужчины подвержены заразе, а женщины нет.
– Ну, это, вздор! – отрезала Милли. – Масса женщин заболевает.
– Всем известно, – возразил Гослинг, все еще сдерживаясь, – что женщины сравнительно не восприимчивы к этой заразе.
– Ну, это мужчины так говорят, чтобы оберечь себя. Мужчины уж всегда такие – грубые эгоисты.
Пойдете вы, куда я вас посылаю, или нет? – вдруг крикнул мистер Гослинг.
– Нет, не пойдем, – вызывающе бросила Милли. – В такое время девушкам не безопасно ходить одним по улицам, не говоря уже о заразе.
Отец и раньше иногда покрикивал на них, и они нисколько не испугались.
– А я вам говорю: пойдете! – загремел отец. – Лентяйки, бездельницы, никуда не годные девчонки, вы обе! Кто вас поит и кормит? Кто на вас всю жизнь работал? Отец. А вы даже не хотите пойти купить ему табаку. – Дочки раскрыли было рты для возражения, но он еще больше озлился, затопал на них ногами и крикнул: – Ну, так я же вас заставлю.
Так он еще никогда не сердился. Девушки струхнули и, как водится, взвизгнули: «Мама!»
Миссис Гослинг давно уже подслушивала и моментально явилась на зов. И тотчас же сама накинулась на мужа:
– Как тебе не совестно, Гослинг! Разве можно в такое время посылать девочек на улицу! Еще того недоставало, чтобы мои девочки рисковали жизнью из-за твоего поганого зелья. Никто не виноват, что у тебя скверная привычка – курить.
Перед этим третьим врагом Гослинг спасовал. Он еще не поборол в себе привычки, ради мира в семье, во всем уступать жене. Целую четверть века они прожили вместе и очень недурно ладили между собой, но в тех случаях, когда миссис Гослинг находила необходимым показать, как она выражалась, «что и у нее есть язык», ясно видно было, кто из двух верховодит в доме.
– Кажется, не большое с моей стороны преступление, что мне захотелось покурить, – укоризненно возразил он. – Когда нужно было добыть еды, кто, спрашивается, рисковал жизнью – вы, или я? А, ведь, все знают, что женщины не заражаются чумой.
– А как же миссис Картер-то, через три дома от нас? Ее только третьего дня похоронили, – язвительно возразила миссис Гослинг.
– Ну, да, отдельные случаи бывали. Но, все же, заражается разве одна из тысячи. Это всем известно.
– А почем вы знаете, что этой одной не буду я? – расхрабрившись под защитой матери, съязвила Милли.
Так в это утро спор и кончился ничем; но Гослинг затаил обиду и не оставил без внимания того факта, что дочери его боятся. Теперь все изменилось. Никакие условности не связывали ему рук. И он решил «приструнить своих баб». Кстати, в буфете нашлась неоткупоренная бутылка виски.
Тем не менее, он не стал бы искать случая показать свою власть. Он был еще слишком цивилизован, чтобы хладнокровно взять на себя инициативу. Но случай скоро сам представился. Утренняя гроза не очистила, как следует, воздуха, и к вечеру разразилась новая, уже посильнее. Ссора вспыхнула из-за пустяка. Гослинг намекнул, что их запас провизии не вечен; Милли резко возразила, ели бы, мол, поменьше сами. А когда миссис Гослинг напомнила, что набег можно бы и повторить, Гослинга вдруг прорвало:
– О, да! Конечно! Вы ничего не имеете против того, чтобы я умер от чумы. Я могу идти пешком за шесть миль, чтобы добыть вам провизии, но вы не можете и до угла дойти, чтобы купить мне табаку.
– Провизия необходима, а табак не необходим, – возразила миссис Гослинг. Она была не из умных женщин и думала, что мужа надо сразу осадить. Всю свою жизнь она прожила в лондонском предместье и не понимала, что теперь она имеет дело с человеком, наполовину уже отрешившимся от навыков цивилизации.
– Ах, вот как! Не необходим! – Гослинг вскочил на ноги. Лицо его побагровело; бледно-голубые глаза, что называется, лезли на лоб. – Ну, так я же вам покажу, что необходимо и что не необходимо, и кто хозяин в этом доме. Я вам говорю, что мне табак необходим, и одна из вас трех пойдет за ним, сейчас же! Вы слышите? – одна – из вас – трех.
Включение в эту категорию и миссис Гослинг было, конечно, равносильно объявлению войны.
Милли и Бланш взвизгнули и попятились назад, но мать их не струсила. Она сама заорала на мужа, но Гослинг не дал ей кончить фразы. Он кинулся к ней, схватил ее за плечи и начал трясти, крича во все горло, чтоб заглушить ее голос: «Заткни глотку! Заткни глотку!» А когда жена его, вся вдруг съежившись, осела на пол и забилась в жестокой истерике, он схватил за руку перепуганную Милли, поволок ее по коридору, отпер входную дверь и вытолкнул ее на улицу. И крикнул вслед:
– И чтоб ты мне без табаку не смела возвращаться! Слышишь?
– Сколько купить? – дрожащим голосом пролепетала Милли.
– На полкроны, – сердито бросил Гослинг, и бросил на тротуар монету.
По уходе Милли, он еще немного постоял у двери, радостно подставляя свежему воздуху свое разгоряченное лицо. – Надо же было приструнить их, – пробормотал он про себя, как бы оправдываясь. Позади него несся неудержимый плач и жалобные выкрики: «В первый раз – за двадцать четыре года!» – И что только соседи будут говорить…
– Соседи! – презрительно пробормотал Гослинг. – Какие там соседи! – почитай и не осталось никого – соседей-то.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































