Текст книги "Манхэттен"
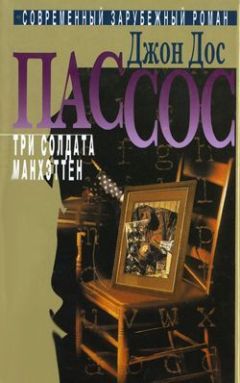
Автор книги: Джон Пассос
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Его жена хотела увезти его в Европу… «Дойчланд» уходит в двенадцать. Я хотела проститься с ним навсегда. Он должен был уехать на «Дойчланд» в двенадцать. Он хотел проститься со мной навсегда.
– Прочь с дороги!
Фараон толкнул Бэда локтем в живот. Его колени тряслись. Он вышел из толпы и, дрожа, зашагал прочь. Машинально он очистил орех и положил его себе в рот. Остальные лучше сохранить до вечера. Он свернул кепи и сунул его в карман.
Под дуговым фонарем, плававшим в розовых и лиловых, с зелеными краями пятнах, человек в клетчатом костюме встретил двух девушек. У той, что ближе, было овальное лицо с полными губами; глаза ее были как удар ножа. Он прошел несколько шагов, потом повернул и пошел за ними, ощупывая свой новый шелковый галстук. Он удостоверился – булавка с бриллиантовой подковкой была на месте. Он перегнал их. Она отвернула лицо. Может быть, она… Нет, он бы не сказал… Хорошо, что пятьдесят долларов при нем. Он сел на скамейку и пропустил их вперед. Еще ошибешься и попадешь в участок. Они не заметили его. Он пошел за ними по аллее и вышел из парка. Его сердце колотилось. Я дал бы миллион долларов за… Простите, вы не мисс Андерсон? Девушки пошли быстрее. На площади Колумба он потерял их в толпе. Он помчался по Бродвею, квартал за кварталом. Полные губы, глаза как удар ножа. Он смотрел направо и налево в девичьи лица. Куда она провалилась? Он помчался дальше по Бродвею.
Эллен сидела рядом с отцом на Бэттери. Она глядела на свои новые коричневые ботинки с пуговками. Она качала ногами, и, когда ноги выходили из теневого круга платья, на носках ботинок и на каждой круглой пуговке дрожал солнечный блик.
– Подумай, как хорошо было бы, – говорил Эд Тэтчер, – поехать за границу на океанском пароходе. Вообрази только – пересечь великий Атлантический океан в семь дней!
– Папочка, а чем все это время занимаются пассажиры на пароходе?
– Не знаю. Наверно, гуляют по палубе, играют в карты, читают и тому подобное. Потом танцуют.
– Танцуют? На корабле? Я думаю, это ужасно весело. – Эллен хихикнула.
– На современных пароходах все можно делать.
– Папа, почему мы не едем?
– Может быть, когда-нибудь поедем, если я накоплю денег.
– Папочка, поторопись! Накопи побольше денег. Мать и отец Алисы каждое лето ездят на Белые Горы, а будущим летом поедут за границу.
Эд Тэтчер смотрел на залив. Синим сверкающим полем залив уходил в коричневую дымку канала Нарроуз. Статуя Свободы стояла, зыбкая, как лунатик, в клубящемся дыме, среди буксиров, стройных шхун и неповоротливых, неуклюжих барок, груженных кирпичом и песком. Тут и там яркие солнечные блики играли на белых парусах и пароходных трубах. Красные паромы сновали взад и вперед.
– Папочка, почему мы не богаты?
– Очень многие еще беднее нас, Элли. Разве ты любила бы своего папочку больше, если бы мы были богаты?
– О да, папочка!
Тэтчер рассмеялся:
– Может быть, когда-нибудь это случится… Как тебе нравится фирма «Эдуард Тэтчер и компания, Присяжные Счетоводы»?
Эллен вскочила:
– Посмотри-ка на этот огромный пароход! Вот на нем я хотела бы поехать.
– Это «Арабик», – произнес чей-то скрипучий голос около них.
– Да? – сказал Тэтчер.
– Да, сэр, лучший пароход в мире, – охотно пояснил обтрепанный человек, сидевший на скамейке рядом с ними. Кепка со сломанным лакированным козырьком была надвинута на его маленькое острое лицо; от него пахло виски. – Да, сэр, это «Арабик».
– Хорошо выглядит.
– Один из самых больших пароходов, сэр. Я плавал на многих: и на «Мэджестик», и на «Тьютоник», сэр. Я тридцать лет служил официантом, и теперь, на старости лет, меня выкинули.
– У всех бывают тяжелые дни.
– Я был бы счастливым человеком, если бы мог вернуться на родину. Тут не место для старого человека. Тут могут жить только молодые и сильные. – Он протянул скрюченную подагрой руку по направлению к заливу и указал на статую. – Поглядите на нее – она смотрит в сторону Англии.
– Папочка, уйдем отсюда, мне не нравится этот человек, – прошептала Эллен дрожащим голосом.
– Ладно, пройдемся, посмотрим на морских львов. Будьте здоровы.
– Не дадите ли вы мне на чашку кофе? Я изголодался.
Тэтчер сунул монету в грязную, узловатую руку.
– Но папочка!.. Мама говорила, что никогда не нужно позволять кому-нибудь заговаривать с тобой на улице. Надо позвать полисмена, если к тебе будут приставать, и потом убежать как можно быстрее от этих ужасных похитителей детей.
– Я не боюсь похитителей детей, Элли. Они страшны только маленьким девочкам.
– Когда я вырасту большая, мне можно будет разговаривать с людьми на улицах?
– Нет, дорогая, конечно нет.
– А если бы я была мальчиком, то можно было бы?
– Я думаю, да.
Они остановились на минутку, чтобы еще раз посмотреть на залив. Океанский пароход, влекомый буксиром, который окутывал его нос белым дымом, возвышался прямо перед ними над паромами и баржами. Чайки кружились и кричали. Солнце лило кремовые лучи на верхние палубы и на большую желтую, с черной крышкой трубу. Гирлянда флажков весело плясала на аспидном небе.
– Много народу приезжает из-за границы на этих пароходах? А, папочка?
– Посмотри сама… Видишь, палубы так и кишат людьми.
Бродя по Пятьдесят третьей улице, Бэд Корпнинг очутился перед кучей угля, лежавшей на тротуаре. По другую сторону этой кучи стояла седовласая женщина с кружевными воланами на блузе, с большой розовой камеей на высокой груди. Она смотрела на его небритый подбородок и на кисти рук, выглядывавшие из рваных рукавов. Потом он услышал свой голос:
– Не снести ли вам уголь, сударыня? – Бэд переступил с ноги на ногу.
– Об этом я как раз и думаю, – сказала женщина надтреснутым голосом. – Этот несчастный угольщик принес утром уголь и сказал, что вернется перенести его. Вероятно, напился. Я не знаю только, можно ли пустить вас в дом.
– Я с севера, – пролепетал Бэд.
– Откуда?
– Из Куперстоуна.
– Хм… А я из Буффало. Возможно, что вы громила, но ничего не поделаешь – надо внести уголь. Идемте, я вам дам лопатку и корзину, и, если вы не растеряете уголь по дороге и на кухне, я дам вам доллар. На кухне только что мыли пол. Это всегда так: уголь приносят, когда моют пол.
Когда он внес первую корзину, она возилась на кухне; у него кружилась голова от голода, но он был счастлив, что работает, а не бродит бесцельно по тротуарам, с улицы на улицу, увертываясь от фургонов, колясок и трамваев.
– Почему у вас нет постоянной работы, голубчик? – спросила она, когда он вернулся с пустой корзиной, едва переводя дыхание.
– Я думаю, я еще не приспособился к городским нравам. Я родился и вырос на ферме.
– А чего ради вы приехали в этот ужасный город?
– Не мог больше жить на ферме.
– Это ужасно! Что станет со страной, если все сильные молодые люди покинут землю и уйдут в город?
– Я думал, что найду работу в доках, но там никого не берут. Пожалуй, я бы и матросом мог быть, да никто не хочет брать неопытного. Я не ел уже два дня.
– Ужасно! Ах вы несчастный… Почему же вы не пошли в какую-нибудь миссию или куда-нибудь в этом роде?
Когда Бэд принес последнюю корзину, он нашел на кухонном столе тарелку с холодным мясом, полкаравая черствого хлеба и стакан скисшего молока. Он ел быстро, едва прожевывая пищу, и остаток хлеба спрятал в карман.
– Как вам понравился завтрак?
– Благодарю вас, сударыня. – Он кивнул.
– Отлично, теперь вы можете идти. Благодарю вас.
Она сунула ему в руку четвертак. Бэд удивленно взглянул на монету, лежавшую на его ладони:
– Но, сударыня, вы сказали, что дадите мне доллар.
– Я никогда не говорила ничего подобного. Что за чушь! Если вы сейчас же не уйдете, то я позову моего мужа, а то еще обращусь в полицию.
Бэд молча положил монету в карман и вышел, едва волоча ноги.
– Какая неблагодарность! – брюзжала женщина, пока он закрывал за собой дверь.
Судорога сводила его желудок. Он снова повернул на восток и шел вдоль реки, крепко прижимая кулаки к ребрам. Ему все время казалось, что он упадет. Беда, если я потеряю сознание. Он дошел до конца улицы и лег на серый щебень около верфи. Из близлежащей пивоварни вязко и сладко тянуло хмелем. Заходящее солнце пылало в окнах фабрик Лонг-Айленда, вспыхивало в иллюминаторах буксиров, сверкало желтыми и оранжевыми курчавыми пятнами на коричнево-зеленой воде, горело на изогнутых парусах медленно плывущей вверх по течению шхуны. Боль внутри утихла. Что-то пламенное и знойное, как солнечный закат, просачивалось в его тело. Он сел. Слава богу, я не потерял сознания.
На рассвете на палубе сыро и холодно. Троньте рукой перила – на них влага. Коричневая вода гавани пахнет умывальником и мягко бьется в борта парохода. Матросы отдраивают люки. Грохот цепей, стук паровой лебедки. Высокий человек в синем халате стоит у рычага, среди облаков пара, который хлещет по его лицу, как мокрым полотенцем.
– Мамочка, сегодня в самом деле Четвертое июля?
Рука матери крепко сжимает его руку и ведет по трапу вниз, в салон-ресторан. Стюарды собирают багаж у лестницы.
– Мамочка, сегодня в самом деле Четвертое июля?
– Да, кажется, дорогой мой. Это ужасно – приезжать в праздник, но я думаю, что нас все-таки будут встречать.
На ней синее саржевое платье, длинная коричневая вуаль, и вокруг шеи – маленький темный зверек с красными глазами и настоящими зубами. От платья пахнет нафталином, распакованными чемоданами, шкафами, устланными папиросной бумагой. В салоне жарко. За перегородкой уютно сопят машины. Он клюет носом над горячим молоком, чуть подкрашенным кофе. Три звонка. Он вскидывает голову. Тарелки звенят, и кофе расплескивается от содроганий парохода. Потом толчок, лязг якорных цепей и постепенно тишина. Мать поднимается и выглядывает в иллюминатор:
– Будет прекрасный день, солнце прогонит туман. Подумай, дорогой, наконец-то мы дома! Здесь ты родился, мой мальчик.
– Сегодня Четвертое июля.
– Это как раз очень плохо… Джимми, посиди на палубе и будь умницей. Маме нужно укладываться. Обещай мне не шалить.
– Обещаю.
Он спотыкается о медную обшивку порога и выскакивает на палубу, потирая голые колени. Он успел увидеть, как солнце прорвалось сквозь шоколадные облака и пролило огненный поток в мутную воду. Билли, с веснушчатыми ушами (его родители сторонники Рузвельта, а не Паркера, как мамочка), машет желто-белому буксиру шелковым флагом величиной с носовой платок.
– Ты видел восход солнца? – спрашивает он таким тоном, словно солнце принадлежит ему.
– Я еще из иллюминатора видел, – говорит Джимми и отходит, задерживаясь взглядом на флаге.
С другого борта земля совсем близко; ближе всего зеленая скамейка с деревьями, а подальше – белые дома с серыми крышами.
– Ну-с, молодой человек, как вы чувствуете себя дома? – спрашивает господин с длинными усами.
– Там Нью-Йорк? – Джимми протягивает руку над спокойной, яркой водой.
– Да, мой мальчик, вон там, за туманом, Манхэттен.
– А это что такое, сэр?
– Это Нью-Йорк. Нью-Йорк расположен на острове Манхэттен.
– Неужели на острове?
– Вот так мальчик! Он не знает, что его родной город расположен на острове.
Золотые зубы длинноусого господина сверкают, когда он смеется, широко открывая рот. Джимми расхаживает по палубе, щелкая каблуками; внутри его все бурлит. Нью-Йорк расположен на острове.
– Вы, кажется, очень рады, что приехали домой, милый мальчик? – спрашивает дама.
– О да, мне хочется упасть и целовать землю.
– Какое прекрасное патриотическое чувство! Я так рада слышать это.
Джимми весь горит. Целовать землю, целовать землю, звенит у него в голове. Кругами по палубе…
– Вот то, с желтым флагом, – карантинное судно. – Толстый еврей с перстнями на пальцах разговаривает с длинноусым господином. – Мы опять двигаемся… Быстро, правда?
– Будем как раз к завтраку, к американскому завтраку, к славному домашнему завтраку.
Мама идет по палубе. Ее коричневая вуаль развевается.
– Вот твое пальто, Джимми, понеси его.
– Мамочка, можно мне взять флаг?
– Какой флаг?
– Шелковый американский флаг.
– Нет, дорогой. Все убрано.
– Ну пожалуйста, мне так хочется взять флат. Ведь сегодня Четвертое июля. И вообще, все…
– Не приставай, Джимми. Мама говорит: нет – значит, нет.
Колючие слезы. Он глотает их и смотрит матери прямо в глаза.
– Джимми, флаг запакован, и мама очень устала – она достаточно возилась с чемоданами.
– А у Билли Джонса есть флаг.
– Смотри, дорогой, ты все прозеваешь. Вот статуя Свободы.
Высокая зеленая женщина в длинной рубашке стоит на острове, подняв руку.
– Что у нее в руке?
– Факел, дорогой мой. Свобода светит миру… А с другой стороны – Говернор-Айленд, там, где деревья. А вон там – Бруклинский мост… Чудный вид! А это – доки. А это – Бэттери… И мачты кораблей, и шпиль Троицы, и Пулицер-билдинг…
Вопли пароходных гудков, свистки, красные пестрые паромы, ныряя, как утки, пенят воду. Буксир, содрогаясь, тащит баржу с целым составом вагонов и выпускает похожие на вату клубы дыма, все одинаковой величины. Руки у Джимми холодные, и он все время внутренне содрогается.
– Дорогой, не надо так волноваться. Сойдем вниз и посмотрим, не забыла ли мамочка чего-нибудь.
Вода усеяна щепками, ящиками, апельсинными корками, капустными листьями, все у́же и у́же полоса между пароходом и пристанью. Оркестр сверкает на солнце, белые шапки, потные красные лица, играют «Янки Дудль».
– Это встречают посла, знаешь – того высокого господина, который никогда не выходил из своей каюты.
Вниз по пологим сходням, стараясь не бежать. Yankee Doodle went to town…[19]19
Слова из песенки «Янки Дудль»: «Янки Дудль поехал в город… Вставил перо в шляпу и назвал это макаронами… пирожные и леденцы…» (англ.)
[Закрыть] Блестящие черные лица, белые эмалевые глаза, белые эмалевые зубы.
– Да, мадам, да, мадам…
– Stuck a feather in his hat, an called it macaroni…
– У нас есть пропуск.
Синий таможенный чиновник обнажает лысую голову, низко кланяясь… Трам-там, бум-бум, бум-бум-бум… cakes and sugar candy…
– А вот и тетя Эмили, и все… Дорогие, как хорошо, что вы пришли!
– Дорогая, я тут уже с шести часов!
– Боже мой, как он вырос!
Светлые платья, искрящиеся брошки, лица и поцелуи, запах роз и дядиной сигары.
– Он настоящий маленький мужчина! Подите-ка сюда, сэр. Дайте взглянуть на вас.
– Ну, прощайте, миссис Херф. Если вы когда-нибудь будете в наших краях… Джимми, я не вижу, чтоб вы целовали землю.
– Ах, он ужасен! Такой старомодный ребенок…
Кеб пахнет плесенью, он грохочет, трясется по широкой авеню, вздымая облака пыли, по улицам, мощенным кубиками, пропитанными кислым запахом, полным злых, гогочущих детей. А чемоданы все время скрипят и подпрыгивают на крыше кеба.
– Мамочка, дорогая, а вдруг крыша провалится?
– Нет, голубчик, – смеется она, склоняя голову набок; она разрумянилась, и глаза ее сияют из-под коричневой вуали.
– Ах, мамочка! – Он привстал и целует ее в подбородок. – Сколько народу, мамочка!
– Это по случаю Четвертого июля.
– А что делает тот человек?
– Кажется, пьет.
На маленьком возвышении, задрапированном флагами, человек с белыми бакенбардами и красной повязкой на рукаве говорит речь.
– А это оратор. Он читает Декларацию независимости.
– Почему?
– Потому что сегодня Четвертое июля.
Бух… Хлопушка.
– Противный мальчишка! Мог испугать лошадь… Четвертое июля – это День независимости, провозглашенной в тысяча семьсот семьдесят шестом году во время войны и революции. Мой прадедушка Харлэнд был убит на этой войне.
Маленький смешной поезд с зеленым паровозом громыхает у них над головой.
– Это воздушная железная дорога, а это Двадцать третья улица. А вот и Дом-утюг.
Экипаж круто сворачивает на сверкающую солнцем, пахнущую асфальтом и толпой площадь и останавливается перед большой дверью. Чернолицые люди с бронзовыми пуговицами выбегают навстречу.
– Ну вот мы и приехали в отель на Пятой авеню.
Мороженое у дяди Джеффа, холодный сладкий налет оседает на нёбе. Смешно: когда сходишь с парохода, еще долго кажется, будто тебя везут. Синие глыбы сумерек падают на прямоугольные улицы. Ракеты взвиваются, вспарывая синий мрак, цветные огненные шары, бенгальские огни, дядя Джефф прикрепляет римские колеса к дереву около входа и зажигает их своей сигарой. Римские свечи надо крепко держать.
– Будь осторожен, мальчик, не обожги лица.
В руках жар, гром и дребезг, овальные шары крутятся, красные, желтые, зеленые, пахнет порохом и паленой бумагой. На шумной, раскаленной улице звенит колокол, звенит все ближе, звенит все громче. Подхлестываемые лошади выбивают искры подковами, пожарная машина гремит за углом – красная, дымящаяся, медная.
– Должно быть, на Бродвей.
Дальше выдвижная лестница и рысаки брандмайора. Дальше позвякивает карета «скорой помощи».
– Кто-нибудь обгорел.
Ящик пуст, пыль и опилки забиваются под ногти, когда шаришь в нем рукой, он пуст… нет, в нем есть еще несколько маленьких деревянных пожарных машин на колесах. Настоящие пожарные машины.
– Заведем их, дядя Джефф. Какие они чудные, дядя Джефф!
В них заложены пистоны, они, жужжа, катятся по гладкому асфальту, а за ними вьются хвосты огня и клубится дым, как у настоящих пожарных машин.
Он лежит в кровати, в большой, незнакомой, неуютной комнате. Глаза горят, ноги ноют.
– Больно, дорогой, – сказала мама, укладывая его, склоняясь над ним в блестящем шелковом платье с широкими рукавами.
– Мама, что это у тебя за черная штучка на лице?
– Это? – Она рассмеялась, и ее колье тихонько зазвенело. – Это чтобы мама была красивее.
Он лежал среди высоких настороженных комодов и шкафов. С улицы доносились крики и шум колес, изредка звуки далекой музыки. Ноги его болели, точно отваливались, и, когда он закрывал глаза, он мчался сквозь пылающую темноту на красной пожарной машине, изрыгающей огонь, искры и разноцветные шары.
Июльское солнце проникало сквозь щели старых ставен в контору. Гэс Макнил сидел в соломенном кресле с костылями между колен. У него было белое, опухшее после больницы лицо. Нелли, в соломенной шляпке с красными маками, раскачивалась на вертящемся стуле у стола.
– Сядь лучше около меня, Нелли. Адвокату может не понравиться, что ты сидишь за его столом.
Она сморщила нос и встала:
– Гэс, ты напуган до смерти.
– Ты тоже была бы напугана, если бы попала, как я, в лапы к железнодорожному доктору. Он выстукивал и выслушивал меня как арестанта, а потом еще этот адвокат сказал, что я на сто процентов нетрудоспособен. По-моему, он врет.
– Гэс, делай то, что я тебе говорю. Держи язык за зубами, пусть другие болтают.
– Ладно, я не пикну.
Нелли встала рядом с ним и погладила его курчавые спутанные волосы, падавшие на лоб.
– Как хорошо снова быть дома, Нелли! Опять ты будешь стряпать… и вообще…
Он обнял ее за талию и притянул к себе.
– А может, я больше не хочу стряпать?
– Ну, не знаю… Что мы будем делать, если не получим этих денег?
– Папа поможет нам, как помогал до сих пор.
– Бог даст, я не останусь калекой на всю жизнь.
Джордж Болдуин вошел, хлопнув стеклянной дверью. Засунув руки в карманы, он остановился и поглядел на мужа и жену. Затем, спокойно улыбнувшись, сказал:
– Ну, господа, все улажено. Как только будет подписан отказ от дальнейших претензий, юрисконсульт железной дороги вручит мне чек на двенадцать с половиной тысяч долларов. Это сумма, на которой мы сошлись.
– Двенадцать тысяч, черт возьми! – задохнулся Гэс. – Двенадцать с половиной тысяч… Подождите минутку! Вот вам мои костыли, я пойду – пусть меня переедут еще раз. Расскажу эту штуку Мак-Джилликэди. Увидите, старый негодяй сейчас же бросится под товарный поезд. Мистер Болдуин… сэр… – Гэс приподнялся. – Вы великий человек. Правда, Нелли?
– Правда.
Болдуин старался не смотреть ей в глаза. Он нервничал, его знобило, ноги его ослабели и дрожали.
– Теперь вот что… – сказал Гэс, – возьмем кеб, поедем к Мак-Джилликэди и промочим горло в отдельном кабинете. Я плачу. Мне нужно подкрепиться. Едем, Нелли!
– Мне бы очень хотелось, – сказал Болдуин, – но боюсь, что я не смогу. Я все эти дни очень занят… Только подпишите, пожалуйста, перед уходом вот эту бумажку, и я завтра получу для вас чек. Распишитесь здесь… и здесь.
Макнил подковылял к столу и нагнулся над бумагами. Болдуин чувствовал, что Нелли пытается подать ему знак. Он сделал вид, что ничего не видит. После их ухода он заметил на краю стола ее кошелек – маленький кожаный кошелек с выжженными на нем цветочками. В стеклянную дверь постучали. Он открыл.
– Почему ты не хотел смотреть на меня? – сказала она, задыхаясь.
– Я не мог при нем.
Он протянул ей кошелек. Она обвила руками его шею и крепко поцеловала его в губы.
– Что мы будем делать? Прийти мне сегодня? Теперь Гэс опять будет напиваться до бесчувствия.
– Нет, не могу, Нелли… Дела, дела… Я ужасно занят.
– Ах, ты занят?.. Ну как хочешь.
Она хлопнула дверью.
Болдуин сидел за столом и кусал костяшки пальцев, уставившись невидящим взглядом в бумаги.
– С этим надо покончить, – сказал он вслух и встал.
Он ходил взад и вперед по узкой комнате, глядя на полки, заставленные юридическими книгами, на календарь, на телефон, на пыльные квадраты солнечного света у окна. Он посмотрел на часы. Пора завтракать. Он провел ладонью по лбу и подошел к телефону.
– Сорок пять девяносто два… Мистер Сэндборн? Что вы скажете, Фил, если я зайду за вами и мы вместе позавтракаем? Вы свободны?.. Конечно… Знаете, Фил, я выиграл дело молочника. Доволен как черт. По сему поводу угощаю вас завтраком. Пока…
Он, улыбаясь, отошел от телефона, взял шляпу, аккуратно надел ее перед зеркалом и поспешно спустился вниз. На нижней площадке он встретил мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери», помещавшейся в первом этаже.
– Ну, как дела, мистер Болдуин?
У мистера Эмери из фирмы «Эмери и Эмери» были седые волосы, седые брови, лошадиные челюсти и плоское лицо.
– Прекрасно, прекрасно, сэр.
– Говорят, вы делаете хорошие дела… Я что-то слышал про Нью-Йоркскую центральную железную дорогу…
– О, я столковался с Симзбери помимо суда.
– Хм… – сказал мистер Эмери из фирмы «Эмери и Эмери».
Они уже прощались, когда мистер Эмери вдруг сказал:
– Заходите к нам как-нибудь пообедать.
– С удовольствием.
– Я люблю поболтать с младшими коллегами… Я черкну вам накануне несколько слов… Как-нибудь вечерком на той неделе. Посидим, поболтаем.
Болдуин пожал испещренную синими жилками руку и пошел по Мэйден-лейн, бойко расталкивая толпу. На Перл-стрит он взобрался наверх по крутым ступенькам черной лестницы, на которой пахло пережаренным кофе, и постучал в матовую стеклянную дверь.
– Войдите, – раздался низкий бас; смуглый человек без пиджака вышел ему навстречу. – Алло, Джордж! Я думал, что вы никогда не придете. Я адски голоден.
– Фил, я угощу вас лучшим завтраком, который вы когда-либо ели.
– Ну, я только этого и жду.
Фил Сэндборн надел пиджак, выбил пепел из трубки на край чертежного стола и прокричал в темноту задней комнаты:
– Ухожу есть, мистер Спеккер!
– Хорошо, идите, – ответил визгливый, дрожащий голос из задней комнаты.
– Как поживает старик? – спросил Болдуин, когда они вышли.
– Старый Спеккер? У него парализованы ноги. Это давнишняя история. Несчастный старик… Поверите ли, Джордж, я был бы в отчаянии, если бы с бедным старым Спеккером что-нибудь случилось. Он единственный честный человек в Нью-Йорке, и, кроме того, у него есть голова на плечах.
– Голова, которая никогда ничего не придумала, – заметил Болдуин.
– Еще придумает… Он еще может… Вы бы посмотрели на его чертежи зданий, построенных из одной стали. Он утверждает, что в будущем небоскребы будут строиться только из стали и стекла. Мы давно делали опыты со стеклянной черепицей… Честное слово, от некоторых его планов захватывает дух… Он раскопал где-то поговорку про римского императора, который нашел Рим кирпичным, а оставил его мраморным. Так вот он говорит, что он родился в кирпичном Нью-Йорке, а умрет в стальном. Сталь и стекло… Я покажу вам его проекты перестройки города. Умопомрачительно!
Они устроились на мягкой скамье в углу ресторана, где пахло мясом, жаренным на решетке. Сэндборн вытянул ноги под столом.
– Какая роскошь! – сказал он.
– Фил, возьмем коктейль, – сказал Болдуин, заглядывая в карточку. – Знаете, Фил, только первые пять лет тяжелы.
– Не беспокойтесь, Джордж, вы из тех, кто пробивается. А вот я – старая калоша.
– Почему? Вы всегда можете достать чертежную работу.
– Нечего сказать, приятная перспектива – провести всю жизнь, лежа брюхом на чертежном столе!.. Эх, дружище…
– «Спеккер и Сэндборн» еще могут стать известной фирмой.
– Люди будут летать в поднебесье к тому времени, а мы с вами будем лежать в земле с вытянутыми ногами.
– Бывает же все-таки удача.
Они выпили мартини и принялись за устрицы.
– Правда, что устрицы делаются кожаными в желудке, если запивать их спиртным?
– Не знаю. Кстати, Фил, как ваши дела с той маленькой стенографисткой?
– Вы себе представить не можете, сколько я на нее трачу денег! Угощение, театр… В конце концов она разорит меня. В сущности, уже разорила. Вы молодец, Джордж, что сторонитесь женщин.
– Пожалуй, – медленно сказал Болдуин и сплюнул в кулак косточку маслины.
Первое, что они услышали, был вибрирующий свисток; свистела вагонетка напротив пристани, где стоял паром. Маленький мальчик отделился от кучки эмигрантов, сбившейся на пристани, и подбежал к вагонетке.
– Она вроде паровика и полна земляных орехов! – орал он, бегом возвращаясь обратно.
– Падраик, стой здесь.
– А это станция воздушной дороги, Южный паром, – продолжил Тим Халлоран, явившийся встретить их. – А вон там – парк Бэттери, Баулинг-Грин, Уолл-стрит и коммерческий квартал… Идем, Падраик, дядя Тимоти повезет тебя по воздушной дороге.
На пристани остались трое – старуха с синим платком на голове и молодая женщина в красной шали, стоявшие около большого, перевязанного веревками сундука с медными ручками, и старик с зеленоватым огрызком бороды и лицом, изборожденным морщинами и сморщенным, как корень мертвого дуба. Глаза старухи слезились, она причитала:
– Dove andiamo[20]20
Куда мы идем (ит.).
[Закрыть], Madonna mia, Madonna mia.
Молодая женщина развернула письмо и смотрела на замысловатые буквы. Вдруг она подошла к старику:
– Non posso leggere[21]21
Не могу прочитать (ит.).
[Закрыть], – и протянула ему письмо.
Он стиснул пальцы и замотал головой взад и вперед; он говорил без конца – слова, которые она не могла понять. Она пожала плечами, улыбнулась и вернулась к сундуку. Со старухой разговаривал загорелый сицилиец. Он ухватился за веревки и перетащил сундук на ту сторону улицы к фургону, запряженному белой лошадью. Обе женщины пошли за ним. Сицилиец протянул молодой женщине руку. Старуха, все еще бормоча и причитая, с трудом вскарабкалась на повозку. Сицилиец наклонился, чтобы прочесть письмо и толкнул молодую женщину плечом. Она выпрямилась.
– Ладно, – сказал он. Он снял вожжи с крупа лошади, повернулся к старухе и крикнул: – Cinque le due… Ладно!









































