Текст книги "Да здравствует фикус! Дочь священника (сборник)"
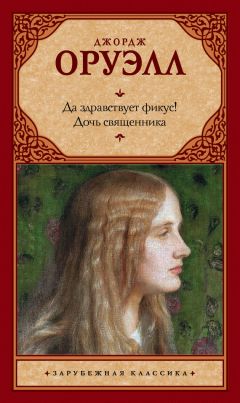
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Но не до бесконечности! Скажи, что скоро, что как только возникнет возможность?
– Не могу и не буду обещать.
– Розмари, умоляю, скажи «да»! Да?
– Нет.
Держа в ладонях ее невидимое лицо, он прочел из старинного французского стихотворения:
Veuillez le dire done selon
Que vous estes benigne et doulche,
Car ce doulx mot n’est pas si long
Qu’il vous face mal en la bouche.
– О чем это? Переведи.
Он перевел:
Вам столь присуща доброта,
Что ваше нежное участье
Должно бы разомкнуть уста
Словечком краткого согласья.
– Гордон, я не могу, честное слово.
– Дорогая моя, «да» ведь произнести гораздо легче, чем «нет».
– Для тебя легче, ты мужчина, а для женщины всё по-другому.
– Скажи «да», Розмари, ну, повтори за мной – «да»! Да!
– Ох, бедный Гордон! Твой попугай совсем тупица.
– Черт! Не шути на эту тему.
Аргументы иссякли. Вернувшись на людную улицу, они медленно пошли вдоль витрин. Проворное изящество и весь ее независимый вид в сочетании с постоянной шутливостью создавали благоприятнейшее впечатление о воспитании, образовании Розмари. А была она дочерью провинциального стряпчего, младшей из четырнадцати детей редкого теперь в средних классах огромного бодро-голодного семейства. Сестры ее или повыходили замуж, или муштровали школьниц, или стучали на машинках в офисах. Братья пополнили ряды канадских фермеров, цейлонских чайных агентов, воинов каких-то окраинных частей Индо-Британской армии. Как девушка, чья юность была избавлена от скуки, с девичеством она расстаться не спешила, оттягивая сексуальное взросление, храня верность дружной бесполой атмосфере родного многодетного гнезда. С молоком матери также впитались два правила: честно вести игру и не соваться в чужую жизнь. По-настоящему великодушная, без всяких склонностей к девичьему коварству, Розмари принимала что угодно от обожаемого Гордона. Великодушна она была настолько, что ни разу и намеком не упрекнула его за отказ нормально зарабатывать.
Гордон все это знал, но сейчас его занимало другое. В кругах света под фонарями рядом с подтянутой фигуркой Розмари он виделся себе неряшливым и безобразным. Очень сокрушало, что с утра не побрился. Украдкой сунув руку в карман и ощутив привычный страх, не потерялась ли монета, Гордон с облегчением нащупал ребро двухбобового флорина, основу его нынешнего капитала. Всего же имелось четыре шиллинга четыре пенса. Ужинать, разумеется, не пригласишь. Опять таскаться взад-вперед вдоль улиц; в лучшем случае по чашке кофе. Гадство!
– Вот так, – задумчиво резюмировал он. – Как ни крути, все сводится к деньгам.
Замечание оживило диалог. Розмари быстро повернулась:
– Что значит «все сводится к деньгам»?
– То и значит, что у меня все вкривь и вкось. А на дне всего монета, всегда монета. Особенно в отношениях с тобой. Ты же действительно любить меня не можешь. Деньги преградой между нами, я это чувствую, даже когда тебя целую.
– Гордон, ну деньги здесь при чем?
– Деньги при всем. Будь их побольше в моем кармане, ты больше бы меня любила.
– Да с какой стати! Почему?
– Так уж сложилось. Разве непонятно, что чем богаче парень, тем достойнее любви? Посмотри-ка на меня – на мое лицо, мои отрепья, на все остальное. Ты полагаешь, я не изменюсь, имея пару тысяч в год? С приличными деньгами я стал бы совершенно иным.
– И я бы тебя разлюбила.
– Это вряд ли. Сама подумай: после свадьбы ты бы спала со мной?
– Ну что ты спрашиваешь! Ну, естественно, раз мы стали бы мужем и женой.
– Так-так! А предположим я вдруг оказался бы неплохо обеспечен, ты тогда вышла б за меня?
– Зачем об этом? Ты же знаешь, мы не можем позволить себе завести семью.
– Но если бы могли, а? Вышла бы?
– Не знаю, наверное. Тогда, пожалуй, да.
– Вот! Сама говоришь «тогда» – когда денежки засияют.
– Нет! Прекрати, Гордон, тут не базар, ты все переворачиваешь!
– Ничуть, чистейшая правда. Как всякой женщине, в глубине души тебе хочется денег. Хочешь ведь, чтобы я был на хорошей, солидной работе?
– Не в том смысле. Хотела бы я, чтоб тебе больше платили? Конечно!
– То есть я должен был остаться в «Новом Альбионе»? Или сейчас вернуться туда сочинять слоганы для хрустяшек и соусов? Правильно?
– Нет, неправильно. Никогда я такого не говорила.
– Однако думала. Любая женщина думает так.
Он был ужасно несправедлив и сознавал это. Чего уж Розмари не говорила и, вероятно, не способна была ему сказать, так это насчет возвращения в «Альбион». Но его завело. Неутоленное желание все еще мучило. С печалью некоего горчайшего триумфа он пришел к выводу, что прав – именно деньги мешают ему овладеть желанным телом. Деньги, деньги! Последовала саркастичная тирада:
– Женщины! В какой прах они обращают все порывы наших гордых умов! Не можем обойтись без них, а им от нас всегда нужно одно: «Забудь о чести и совести, лучше зарабатывай побольше! Ползай перед боссом и купи мне шубку получше, подороже, чем у соседки!» На всякого мужчину находится хитрая сирена, которая, обвив шею растяпы, затягивает его глубже и глубже – на лужайку перед собственным домиком, домиком с полированной мебелью в рассрочку, патефоном и фикусом на подоконнике. Женщины, вот кто тормозит прогресс! То есть, вообще-то, я насчет прогресса сомневаюсь, – буркнул он, не совсем довольный последней фразой.
– Гордон, ну что ты мелешь? Во всем виноваты женщины?
– По сути, виноваты. Это же они свято уверовали во власть денег. Мужчинам просто деваться некуда. Вынуждены покорно обеспечивать подругам их домики, лужайки, шубки, люльки и фикусы.
– Да ну, Гордон! Женщины, что ли, изобрели деньги?
– Кто изобрел – не важно. Важно, что женщины создали этот культ. У них какое-то мистическое поклонение деньгам, добро и зло для них всего лишь «есть деньги» или «нет денег». Вот погляди на нас. Отказываешься со мной спать потому только, что в кармане моем пусто. Да-да! Сама минуту назад так сказала. – Он взял ее за руку, Розмари молчала. – Но будь у меня завтра приличный доход, ты тут же со мной ляжешь. Не потому, что торгуешь своими ночами, не так грубо, разумеется. Но внутри глубинное убеждение, что мужчина без денег тебя не достоин. Ты чувствуешь – слабак какой-то недоделанный. Ведь Геркулес, ты почитай у Ламприера[13]13
Имеется в виду «Классический словарь» Джона Ламприера, где перечислены все упомянутые в античных текстах герои – персонажи мифов и реальные лица.
[Закрыть], божество и силы и достатка. И этот миф – закон благодаря женщинам!
– Гордон, надоело уже твое тупое мужское долдонство! «Женщины то», «женщины се», как будто все они абсолютно одинаковы.
– Конечно, одинаковы! О чем всякая женщина мечтает, кроме надежного семейного бюджета, пары младенцев и уютной квартирки с фикусом?
– Господи, твои фикусы!
– Нет, дорогая, фикусы твои! Твое племя их холит и лелеет!
Стиснув его ладонь, Розмари звонко расхохоталась. У нее действительно был изумительный характер, да и тирады его ей казались столь очевидной ерундой, что даже не раздражали. Собственно, обличая женщин, Гордон тоже говорил не вполне серьезно. Основа сексуальных поединков всегда игра; в частности, такие забавы, как ношение маски врагов либо защитниц феминизма. Дальнейшую прогулку сопровождал вечный дурацкий спор о вечной борьбе мужчин и женщин. Полетели все те же (вдохновенно метавшиеся второй год при каждой встрече) дискуссионные стрелы насчет мужской грубости, женской бездуховности, врожденной подчиненности слабого пола и безусловного блаженства такой покорности. И разумеется: а Кроткая Гризельда? а леди Астор? а боевой клич мамаши Панкхорст?[14]14
Гризельда – воспетая Чосером и Боккаччо средневековая героиня, образец абсолютной преданности супругу; леди Астор – первая женщина в составе английского парламента; миссис Панкхорст – лидер движения суфражисток.
[Закрыть] а восточное многоженство? а судьба индийских вдов? а благонравная эпоха, когда дамы цепляли к подвязкам мышеловки и, глядя на мужчин, жаждали их кастрировать?.. Взахлеб, без устали, с веселым смехом над нелепостью очередного встречного довода. Радостно воевать, идя так, рядом, держась за руки и тесно прижавшись. Они были очень счастливы, эти двое, представлявшие друг для друга постоянный объект насмешек и бесценное сокровище. Впереди замелькал свет алых и синих неоновых огней. Они подошли к началу Тоттенем-корт-роуд. Обняв Розмари за талию, Гордон увлек ее в глубь ближайшего переулка. Счастье потребовало немедленного поцелуя, и два продолжавших веселиться дуэлянта плотным сдвоенным силуэтом застыли под фонарем.
– Гордон, ты мил, но жутко глуп! Я не могу любить такого старого зануду.
– Правда?
– Правда и только правда.
Не выпуская его из объятий, она слегка откинулась, невинно, однако весьма чувствительно для джентльмена прижавшись низом живота.
– Жизнь все-таки хороша, а, Гордон?
– Изредка бывает.
– Если бы только почаще встречаться! Неделями тебя не вижу.
– Да уж, хреновые дела. Знала бы ты, каково вечерами в моей одиночке.
– Времени просто ни на что, кручусь допоздна на этой свинской службе. А что ты делаешь по воскресеньям?
– Господи! Пялюсь в потолок, терзаюсь мрачными думами, что ж еще?
– А почему мы никогда не ездим за город? Там можно вместе побыть целый день. Давай в следующий выходной?
Гордон насупился. Вернулась отлетевшая на радостные полчаса мысль о деньгах. Поездка за город была не по карману, и он уклончиво перевел сюжет в план общих рассуждений:
– Неплохо бы, конечно. В Ричмонд-парке довольно славно, Хэмстед-хиз похуже, но тоже, пожалуй, ничего. Особенно с утра, пока толпы не набежали.
– Ой нет, давай куда-нибудь на настоящую природу! В Суррей, например, или в Бернхам-Бичез. Представляешь, как там сейчас хорошо – рощи, опавшие листья, тишина. Будем идти, идти милю за милей, потом перекусим в пабе. Будет так здорово! Давай!
Паскудство! Вновь наваливались деньги. Поездка в такую даль, как Бернхам-Бичез, стоит кучу монет. Он быстро стал считать в уме: пять шиллингов сам наскребет, пятью «поможет» Джулия; стало быть, пять и пять. И тут же вспомнилась последняя из бесконечных клятв никогда не «занимать» у сестры. Не меняя спокойно-рассудительного тона, он сказал:
– Идея заманчивая. Надо только подумать, что и как. Свяжемся на неделе, я тебе черкну.
Они вышли из переулка. В угловом доме помещался паб. Опираясь на руку Гордона и встав на цыпочки, Розмари заглянула поверх матовой нижней части окна:
– Смотри, Гордон, на часах уже полдесятого. Ты, наверно, жутко голодный?
– Ничуть, – быстро и лживо ответил он.
– А я так просто умираю от голода. Зайдем куда-нибудь, что-нибудь поедим.
Опять деньги! Через секунду придется сознаться, что у него только четыре шиллинга четыре пенса и ни гроша больше до пятницы.
– Есть как-то не того, – сказал он, – а вот чашечку кофейку бы не мешало. Пошли, кажется, кафетерий еще открыт.
– Гордон, не надо в кафетерий! Здесь, чуть дальше, такой миленький итальянский ресторанчик, где нам дадут спагетти и бутылку красного вина. Я обожаю спагетти! Пошли туда.
Сердце упало. Никуда не денешься, не скроешь. Ужин на двоих в итальянском ресторане – это минимум пять бобов.
– Вообще-то мне пора домой, – сквозь зубы бросил он.
– Уже? Так рано? О, Гордон…
– Ладно! Если уж очень хочешь знать, у меня всего-навсего четыре шиллинга четыре пенса. И мне с ними тянуть до пятницы.
Она резко остановилась. Ладонь ее возмущенно сдавила его пальцы.
– Гордон, ты олух! Совершенный идиот! Самый кошмарный идиот, которого я видела!
– А что?
– А то, забудь про деньги! Это я прошу, чтобы ты со мной поужинал.
Он высвободил руку и отстранился, не глядя на нее.
– Ты полагаешь, я пошел бы в ресторан и разрешил бы тебе заплатить?
– Но почему нет?
– Не годятся такие штучки. Не по правилам.
– Видали! Ты что, судья на футбольном матче? Что «не по правилам»?
– Позволить тебе за меня платить. Мужчина должен платить за женщину, женщина за мужчину платить не может.
– О! Мы еще живем во времена королевы Виктории?
– Да. В подобных вопросах – да. Понятия не меняются так быстро.
– А мои изменились.
– Нет, тебе только кажется, что изменились. Как бы ты ни рвалась к иному, выросла ты женщиной и всегда будешь вести себя по-женски.
– Что ты имеешь в виду?
– Однозначно оценишь данную ситуацию, потеряв уважение к мужчине, зависящему от тебя, висящему у тебя на шее. Ты можешь говорить иначе, даже думать иначе, а на деле будет так. Тут ты не властна, и позволь тебе заплатить за мой ужин, ты тут же станешь меня презирать.
Он отвернулся. Прозвучало довольно неприятно, зато уж сказано как есть. Чувство, что все вокруг, включая Розмари, презирают его, голодранца, захлестывало слишком сильно. Только постоянной, твердой и чуткой самообороной можно было сохранить достоинство. Розмари не на шутку встревожилась. Обвив себя его отчужденно повисшей рукой, она прижалась к нему и сердито, и умоляюще:
– Гордон! Ну что ты, как у тебя язык повернулся говорить о каком-то моем презрении?
– И повторю – так неизбежно будет, если я позволю ходить при тебе паразитом и нахлебником.
– Паразитом! Ну и выражения! Один раз заплачу за ужин – это значит, ты нахлебник?
Он чувствовал упругость прижатых к его ребрам круглых грудок, видел на запрокинутом лице глаза, которые, хмурясь и чуть не плача, упрекали в жестокости, несправедливости, но близость ее тела оставляла в сознании одно – второй год она ему отказывает. Морит голодом в самой насущной потребности. И какой толк от ее уверений в любви, если, по сути, она его отвергает. С восторгом беспощадности Гордон добавил:
– Собственно, твое презрение уже очевидно. О да, ты любишь, любишь, только вот всерьез меня не принимаешь. Я остаюсь твоей милой забавой, и любишь ты меня не как равного, а несколько снисходительно.
– Нет, Гордон, не так! Ты знаешь, это не так!
– Так. Поэтому и не хочешь спать со мной. Разве я не прав?
Она секунду пристально смотрела на него и вдруг, словно от грубого толчка, упала лицом ему на грудь. Спрятала брызнувшие из глаз слезы. Заплакала как ребенок – сердито, с обидой и в то же время доверчиво прильнув. И этот детский плач, ищущий на мужской груди просто защиты, более всего сразил его. Тяжко язвя совесть, вспомнились лица других рыдавших на его груди женщин. Видно, единственное, что ему удавалось с ними, это заставить их рыдать. Он погладил ее плечо, неуклюже пытаясь утешить.
– До слез меня довел! – жалобно хлюпала она.
– Прости, радость моя! Не плачь, пожалуйста, не плачь!
– Гордон, миленький! Зачем ты со мной так по-свински?
– Прости, прости! Иногда меня здорово заносит.
– Но почему? Зачем?
Справившись с рыданием, она тряхнула головой и поискала, чем бы вытереть глаза. Носового платка ни у нее, ни у него не нашлось; слезы нетерпеливо утирались костяшками пальцев.
– Как у нас глупо все! Ну, Гордон, теперь будь послушным мальчиком. Идем, поедим в ресторане, я угощаю.
– Нет.
– Ну один разок! Забудь хоть раз про эти чертовы деньги. Сделай для меня исключение.
– Говорю тебе, не могу. Я должен стоять насмерть.
– В чем?
– У меня война с деньгами, нельзя мне отступать от правил. А первое из них – не брать подачек.
– «Подачек»! Гордон, какой ты болван!
И она обняла его, что означало мир. Не понимала, может быть, и не могла понять, но принимала таким как есть, даже не слишком протестуя против его нелепостей. На подставленных губах он ощутил вкус соли – след бежавших здесь слезинок. Гордон крепко прижал ее к себе. Броня сопротивления растаяла. Закрыв глаза, она прильнула, прихлынула податливо и нежно, рот раскрылся, язычок ее нашел его язык. Такое с ней случалось крайне редко. Вдруг он понял, что их борьба закончилась, она готова отдать себя в любой момент, хотя скорее не своим чувственным порывом, а безотчетной щедростью, стремлением успокоить, уверить в несомненной его мужской притягательности. Без слов об этом говорило тело Розмари. Но даже если бы условия благоприятствовали, он бы не взял ее. Сейчас он просто любил. Желание обладать затихло в ожидании иного часа, не омраченного ни ссорой, ни унизительным сознанием нищих грошей в кармане.
Разомкнув губы, они продолжали стоять обнявшись.
– Как глупо ссориться, да, Гордон? Мы так редко видимся.
– Я знаю. Вечно все испорчу. Ничего не могу поделать. Шерсть дыбом – чего ни коснись, деньги и деньги.
– Деньги! Они чересчур тебя волнуют.
– Еще бы, самая волнующая штука.
– Но мы все-таки в воскресенье едем за город? Погулять по лесу, подышать, о!
– Да, замечательно. С утра и на весь день. Денег я раздобуду.
– А можно мне купить себе билет?
– Нельзя, я сам куплю. Поедем, обещаю.
– И за обед не дашь мне заплатить? Только ра-зок, чтоб доказать мне свое доверие?
– Нет, не пройдет. Я ведь все объяснил.
– Ох, милый! Нам, наверно, пора прощаться, уже поздно.
Они, однако, еще говорили, говорили, так что в итоге Розмари осталась вовсе без ужина. К себе, чтобы не разъярить сторожившую ведьму, она должна была вернуться до одиннадцати. Протопав в самый конец Тоттенем-корт-роуд, Гордон сел на трамвай (на пенни дешевле автобуса). Втиснулся посреди верхней деревянной лавки напротив лохматого худышки шотландца, который, прихлебывая пиво, читал футбольный репортаж. Счастье било ключом. Розмари согласилась. Налетчиком лютым, неумолимым… Под стук и звон трамвая он тихонько пробормотал семь готовых строф. А всего надо девять. Неплохо идет! Поэт. Да, Гордон Комсток, автор «Мышей». И даже в «Прелести Лондона» вновь поверилось.
Мысли кружились вокруг воскресной поездки. Встретиться в девять у Пэддингтонского вокзала. Понадобится шиллингов десять; раздобыть, хоть последнюю рубашку под заклад! Розмари согласилась, и, может, уже в воскресенье получится. Они не договаривались, это как-то само собой обоим было ясно.
Господи, пошли хорошую погоду! Бывают же и в декабре роскошные тихие дни, когда солнышко греет и не мерзнешь, часами можешь проваляться на пышном сухом папоротнике. Зимой, конечно, редко такая благодать, дождь куда вероятней. И выпадет ли им вообще шанс под открытым небом? Но пойти некуда. Множеству лондонских влюбленных вот так же «некуда пойти», лишь улицы и парки, где всегда нервно, всегда зябко. В холодном климате секс бедняку дается трудно. Не все учтено классикой насчет «единства времени и места».
7
Султаны дыма вертикально вздымались к слегка розовеющему небу.
В восемь десять Гордон вскочил в автобус. Воскресные улицы еще спали. Бутылки молока, как лилипуты-караульщики, белели у запертых подъездов. При Гордоне было четырнадцать шиллингов, то есть уже чуть меньше – минус три пенса за автобус. Девять шиллингов от жалованья (чем это обернется на неделе, лучше не думать), пять он взял в долг у Джулии.
Сестру Гордон навестил в четверг. Ее жилище возле «Графского двора», хоть и на третьем этаже, с черного хода, выглядело гораздо благородней конуры Гордона. Единственная комната сестры смотрелась почти гостиной. Джулия предпочла бы голодать, чем жить в явном убожестве. И обстановка, собранная годами, по вещичке, действительно стоила ей немало полуголодных дней. Диван-кровать, совсем как настоящий диван, круглый столик мореного дуба, пара «старинных» стульев, резная скамеечка для ног и возле газовой печурки обитое вощеным ситцем кресло (в рассрочку на тринадцать месяцев). И расставленные всюду рамочки с фотографиями родителей, брата и тети Энджелы, а также замысловатый календарь из березовых дощечек (чей-то рождественский подарок) – перл выжигания по дереву и абсолютно непригодный. Гордона здесь душило смертной тоской. Он обещал заходить, собирался, гнал себя, но фактически появлялся, только чтобы «занять».
Внизу он постучал три раза: три удара для третьего этажа. Джулия открыла и, проведя его к себе, опустилась на колени перед печкой.
– Сейчас снова зажгу, – сказала она. – Выпьешь чашечку чая?
Он про себя отметил это «снова». В комнате стоял зверский холод, печка сегодня явно не зажигалась, сестра всегда экономила газ. Гордон смотрел на сгорбленную перед топкой узкую длинную спину. Как много седины! Целыми прядками, скоро станет настоящей «седой дамой».
– Тебе ведь крепкий? – вздохнула Джулия, нерешительно вытянув над чайницей гусиную шею.
Гордон стоя пил свою чашку, уставясь на календарь из дощечек. Да ладно, не раскисай! Но сердце падало все ниже. Клянчить, опять подло клянчить! Сколько же он всего «назанимал» за эти годы у сестры?
– Слушай, Джулия, мне страшно неудобно просить тебя, но, понимаешь…
– Да, Гордон? – спокойно ответила она, зная продолжение.
– Понимаешь, жутко неловко, но не могла бы ты одолжить мне шиллингов пять?
– Да, Гордон, сейчас посмотрю.
Она выдвинула ящик комода, где под стопкой постельного белья хранился потертый черный кошелечек. Ясно, ясно – урезал долю ее радостей с подарками. Сейчас, в столь важное для нее время перед Рождеством, когда надо после работы допоздна рыскать, носиться из лавки в лавку, закупать всякий обожаемый женщинами хлам: пакетики носовых платков, подставки для писем, заварные чайнички, маникюрные наборы, деревянные календари с изящно выжженными изречениями. Весь год по грошику от каждой грошовой зарплаты ради вот этих «что-нибудь на Рождество» или «что-нибудь на день рождения». Брату, который «любит поэзию», к прошлому Рождеству «Избранные стихотворения» Джона Дринкуотера, томик в зеленом сафьяне, проданный Гордоном за полкроны. Бедная Джулия! Высидев для приличия полчасика, Гордон сбежал с пятью шиллингами. Почему у богатого приятеля занять стыдно, а у нищей сестры берешь? Ну да, родня – это родня.
На верхнем ярусе автобуса он занялся подсчетами. В наличии тринадцать и девять. Поезд туда-обратно – пять шиллингов, еще пару на автобус – это семь, затем еще два в пабе – пиво с бутербродами – девять, чай по восемь пенсов, каждому двойной – это двенадцать, сигареты – тринадцать. И девять пенсов в экстренном резерве. Все вроде получается. А как потом до пятницы? Вообще без курева? Плевать!
Розмари пришла вовремя. Она, к ее чести, никогда не опаздывала и даже в этот ранний час сияла бодростью и свежестью. И выглядела, по обыкновению, очень мило: в той же забавной плоской шляпке, что так понравилась Гордону. Пассажиров почти не было. Пустынный и неприбранный вокзал хмурился в полудреме, как с похмелья. Небритый зевающий носильщик подсказал им маршрут до Бернхам-Бичез, и, сев в вагон третьего класса для курящих, они покатили на запад. Тоскливая чащоба предместий сменилась наконец бурыми лентами полей с вешками плакатов, регулярно напоминавших про «Чудо-бальзам для печени». Денек стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана: такой погоде иное лето позавидует.
Сквозь утренний туман уже уверенно проглядывало солнце. Сердца полнились детским глуповатым счастьем: какое приключение – сбежать из Лондона и весь день «на природе»! Розмари несколько месяцев, а Гордон целый год не ступали по траве. Они сидели, тесно прижавшись, не глядя в развернутую на коленях «Санди таймс», упиваясь видом за окном: поля, коровы, домики, порожние грузовики, громады спящих фабричных корпусов. Хотелось длить и длить это блаженство.
В Слау они сошли. Городок еще не проснулся. Дальше, до Фэрнхем-Коммен их довез низенький, смешного шоколадного цвета автобус. Розмари теперь вспомнила, как идти от остановки к буковой роще. По изрезанной колеями сельской дороге, а затем вдоль болота, через дивный пушистый луг с редкими голыми березками. Их встретил сказочный покой: ни листок, ни травинка не шелохнется, деревца призрачно мерцают в неподвижном, еще туманном воздухе. Гордон с Розмари ахали от восторга – тишина, роса, матовый блеск шелковистой березовой коры, мягко пружинящий торф под ногами! Поначалу, впрочем, горожанам было как-то непривычно. Гордон щурился, ощущая себя просидевшим долгий срок в подземелье, землисто бледным и грязноватым; стесняясь своей мятой физиономии, шел сзади. К тому же, с привычкой ходить только по тротуарам, оба вскоре стали задыхаться и первые полчаса почти не разговаривали. Наконец вошли в лес; побрели буквально «куда глаза глядят», лишь бы подальше от города.
Вокруг высились прямые, как свечки, буковые стволы с их странно гладкой, туго натянутой и сморщенной у основания, почти живой шкуркой. Внизу никакой поросли, лишь волны отливающего серебристо-медной парчой сплошного лиственного слоя. Ни души. Гордон нагнал Розмари, и, держась за руки, они пошли, шурша сухой листвой, время от времени пересекая аллеи, ведущие к роскошным летним резиденциям, вмещающим толпы веселых гостей, а сейчас безлюдным, наглухо запертым. Бурый узор облетевших живых изгородей во влажной дымке светился пурпуром. Встретилось несколько птиц: перепорхнувших с ветки на ветку соек и непугливых (видимо, полагавших воскресный день совершенно безопасным) фазанов, вперевалку волочивших через тропки свои длинные хвосты. Сонная сельская глухомань, просто не верилось, что до Лондона всего двадцать миль.
Туристы теперь обрели форму, открылось второе дыхание, кровь забурлила. Казалось, можно вот так, без устали, шагать хоть сутки. Возле очередной дороги роса на кустах живой изгороди вдруг алмазно вспыхнула. Солнце пробило облака, тусклое поле заиграло радугой нежных оттенков, будто ребенку великана дали вволю насладиться новым акварельным набором.
– Ой, Гордон, какая красота!
– Красота.
– Ой, смотри, смотри! Сколько там кроликов!
И в самом деле, на другом конце поля паслось целое кроличье стадо. Внезапно под соседним кустом что-то дернулось: лежавший в траве, облитый росой кролик выпрыгнул и умчался, мелькая торчащим белым хвостиком. Розмари, вскрикнув, упала Гордону на грудь. Они радостно, весело, как дети, обнялись. Солнышко грело совсем по-летнему. Под ярким светом возраст Розмари читался вполне отчетливо. Ей скоро тридцать, ему столько же, а на вид и побольше, ну так что? Он снял ее смешную шляпку, в черных волосах блеснули три белые волосинки, тоже красивые и тоже вызывавшие нежность.
– Как это славно, однако, очутиться здесь с тобой. Хорошо, что поехали.
– И ты подумай, милый, – целый день вдвоем! И дождь не пошел! Нам ужасно повезло!
– Да, надо бы принести жертву бессмертным богам.
Счастье переполняло. Восхищало все, что попадалось на глаза: поднятое с земли лазурное перо сойки, отражение ветвей в черном зеркале озерца, древесные наросты, торчащие ушами каких-то лесных чудищ. Довольно долго обсуждался самый точный эпитет для буковых деревьев, столь необыкновенно похожих на живое существо. Бугорки на коре Гордон сравнил с сосками девичьих грудей, а плавные изгибы толстых гладких ветвей с хоботами трубящих слонов. Разгорелся спор. Поддразнивая Розмари, Гордон нашел, что листва буков – точь-в-точь пышные гривы томных дев с картин Берн-Джонса, а хищный плющ вьется вокруг стволов цепкими тонкими ручонками малюток скромниц Диккенса. И когда он вознамерился растоптать стайку хрупких сиреневых поганок, возле которых непременно пляшут эльфы в иллюстрациях Рекхэма, Розмари обозвала его бесчувственным крокодилом. Перебираясь через груду листьев и по колено утонув в сухой легкой волне, она воскликнула:
– Ты посмотри, Гордон, на солнце эти листья как золото! Настоящее золото!
– Ага, волшебный клад. Ты мне сейчас все сказки Барри перескажешь. По цвету в точности томатный суп.
– Не хулигань! Послушай, как шелестят. «И словно шелест листопада, ручьев журчание в Валломброзе»[15]15
Из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай»; Валломброза – город в Этрурии, недалеко от Флоренции.
[Закрыть].
– Лучше, пожалуй, – «хлопья пшеничные в тарелке». Хрустящий аппетитный американский завтрак! Детишки утром требуют хрустяшек!
– У, зверюга!
И они пошли, хором декламируя:
И словно шелест листопада,
Хлопья пшеничные в тарелке
Из пачек, что на всех прилавках.
От смеха оба чуть не падали. Тем временем лес кончился, и везде появились люди, хотя машин, если не выходить на главное шоссе, почти не было. Если слышался колокольный звон, они делали крюк, чтобы не встречаться с богомольцами. Потянулись деревни, в надменном отдалении от которых стояли виллы «под старину», демонстрируя ансамбли гаражей, лавровых кустов и зачахших газончиков. Гордон, естественно, потешил себя саркастичным обличением всей этой цивилизации маклеров-брокеров, с их надутыми женами, их гольфом, виски, яхтами, абердинскими терьерами по кличке Джекки[16]16
Джекки – прозвище шотландских солдат.
[Закрыть].
Так, в болтовне и перепалках, они отшагали еще мили четыре. На ясном небе горсткой перышек белело несколько почти неподвижных облачков. Ноги начали гудеть, а разговор все чаще сворачивал к еде. Хотя часов у них не было, открытая дверь деревенского паба сообщила, что время за поддень. Сама эта пивнушка под вывеской «Синица в руке» выглядела убого; впрочем, Гордон не возражал бы перекусить именно здесь (наверняка дешево). Розмари, однако, поморщилась и покачала головой. Они ушли, на-деясь на другом конце деревни найти нечто получше, представляя уютный зальчик, дубовые лавки, чучело какой-нибудь гигантской щуки на полке под стеклянным колпаком… Другого паба не оказалось. И вновь вокруг только поля, поля, ни домика, ни даже дорожных указателей. Стало тревожно – в два пабы опять закроют, тогда уж им ничего не светит, кроме пачки печенья из сельской лавочки. Голод погнал вперед. Они вскарабкались на холм, мечтая увидеть соседнюю деревню. Никаких деревень, зато внизу по берегам темно-зеленой реки раскинулся довольно обширный городок (реку, родную Темзу, они не узнали).
– Ух, слава богу! – облегченно вздохнул Гордон. – Там-то полно пабов.
– Давай в первый, что попадется?
– Согласен, умираю с голода.
Но городок встретил их странной тишиной. Неужели все в церкви или уже дома, за столом? Нет, пусто везде, совершенно пусто. Попали они в Крикхем-на-Темзе, один из городков, оживающих лишь в сезон купания. Длинная прибрежная полоса заколоченных купален, лодочных сараев, дощатых летних домиков. И ни единого человека. Наконец наткнулись на удившего рыбу толстяка (сизый нос, лохматые усы, возле складного табурета бутыль пива). На воде пара лебедей, круживших, норовивших всякий раз хапнуть новую наживку.
– Вы не подскажете, где бы нам тут поесть? – спросил Гордон.
Толстяк, казалось, ждал вопроса и, не оглянувшись, но с явным удовольствием ответил:
– А нигде. Нету, значит, ничего тут.
– Проклятье! Совсем ничего? Полдня идем голодные.
Толстяк засопел, размышляя, не отрывая глаз от удочки.
– Как бы вот в ресторан-отель, с полмили-то отсюдова. Как бы вон там, ежели, значит, работают.
– Так этот ресторан работает?
– А кто ж их знает? Может, что и да, а может, нет, – флегматично отозвался толстяк.
– Не скажете, который час? – вступила Розмари.
– Час-то? Да уж, видать, четверть второго.
Лебеди выбрались на край берега, явно ожидая подачки. В работающий ресторан верилось слабо; вокруг царило запустение: мусор, хлам, облупившаяся краска, пустые комнаты сквозь мутные пыльные окна, даже на пляжных автоматах потеки ржавчины.
– Зря, дураки драные, не зашли в тот деревенский паб!
– Ох, милый, так есть хочется. Может быть, нам вернуться?
– Теперь нет смысла. Пошли, это, наверно, за мостом. Будем надеяться на чудо, вдруг открыто.
Поплелись к видневшемуся вдалеке мосту, ноги уже просто подкашивались. Но чудо свершилось! На другой стороне сразу от моста по отлогой лужайке вилась дорожка, в конце которой стояло внушительное – и, несомненно, открытое! – заведение. Кинувшись к нему, они, однако, смущенно затормозили.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































