Текст книги "Глотнуть воздуха. Дни в Бирме"
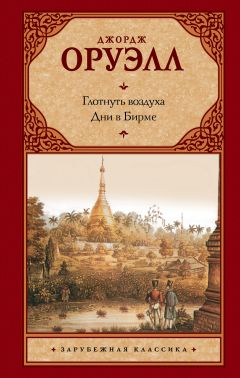
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ранило меня только в самом конце 1916-го.
Выйдя из траншей, мы отошли по дороге примерно на милю назад, на безопасный, как считалось, участок, который немцы, однако, успели раньше пристрелять. Внезапно они выпустили несколько снарядов – всего несколько снарядов из тяжелых орудий. Засвистело привычное ушам «цвии-и-и-иу» и тут же где-то справа «бу-ух!». Меня достал вроде бы третий. Я уже по летящему звуку понял – этот мне. Говорят, всегда слышишь, когда твой. Снаряд тогда не просто свистит, а прямо-таки выговаривает: «Иду по твою душу гребаную, по твою, твою, ТВОЮ!» И затем взрывает ТЕБЯ.
Меня будто сгребло каким-то мощным вихрем, подняло и с размаху шмякнуло на землю, бессильным мешком костей швырнуло на кучи мятых жестянок, щепок, солдатского дерьма, пустых коробок от патронов, ржавой колючей проволоки и всей прочей дряни в придорожной канаве. Когда меня оттащили, слегка отчистили, выяснилось, что ранение не особо страшное – осколками изодрало задницу и ляжки. Но, к счастью, при падении я сломал ребро, чего было достаточно для отправки обратно в Англию. Так что зиму мне довелось прокантоваться в госпитальном лагере «на холмах»[36]36
Имеется в виду холмистая местность прибрежной Юго-Восточной Англии.
[Закрыть] близ Истборна.
Помните те военные госпитальные лагеря? Длинные ряды дощатых бараков, этих курятников на зверски холодных вершинах холмов (холмов нашего «южного побережья», где невольно думалось: а что ж тогда на «северном»?), где тебя разом продували ветры со всех концов света. И стада обряженных в голубую байку, обмотанных бинтами покалеченных парней, уныло бродящих по склонам в безнадежных попытках где-то спрятаться от ветра. Иногда наверх чинной парной цепочкой приводили мальчиков из дорогих школ Истборна, дабы детки вручили доблестным «раненым Томми» сигареты и мятные помадки. Румяный чистенький мальчик подходил к кучке сидящих на траве парней в бинтах и, раскрыв пачку «Жимолости», торжественно раздавал всем по сигарете, словно по ореху мартышкам в зоопарке. Раненые с достаточным запасом сил совершали дальние походы в поиске девушек. Девчонок, живших поблизости, всегда не хватало. В долине под нашим холмом имелась жиденькая рощица, и в сумерках у каждого ствола виднелась слившаяся парочка, а возле широких стволов, бывало, и по паре с разных сторон. Больше всего мне помнится о той зиме, как я сижу на ледяном ветру у куста дрока, пальцы не гнутся от холода, а во рту вкус мятной помадки. Типичное солдатское воспоминание. Но для меня жизнь рядового уже фактически закончилась. Как раз перед ранением я был внесен командиром в список назначенных на дальнейшую армейскую учебу. К тому времени обнаружился отчаянный недобор командного состава, и всякий мало-мальски грамотный при желании мог получить подобное назначение. Прямо из госпиталя меня переправили в учебный офицерский лагерь под Колчестером.
Странные штуки выделывала с людьми война. Всего три года назад я, шустрый помощник продавца, угождавший за прилавком: «Да, мэм! Сей момент, мэм! Желаете ще че-нибудь, мэм?» – и видевший себя в мечтах солидным лавочником, об офицерстве помышлял не больше, чем о посвящении в рыцари. И вот уже я – на голове фасонистое кепи, вокруг шеи желтый воротник – важно расхаживаю среди новоявленных, частично даже от рождения благородных, господ офицеров. И главное, как будто так и надо. Ничего не казалось тогда странным.
Тебя вертело и крутило в недрах громадной машины, а ты безвольно подчинялся, даже не помышляя хоть как-то воспротивиться. Явись вдруг в людях чувство элементарного протеста, никакой войне не продлиться бы дольше трех месяцев. Военным осталось бы только сложить манатки да разойтись по домам. Ну почему я оказался в армии? Почему миллионы других идиотов прямо-таки рвались исполнить свой воинский долг? Отчасти ради лихой молодецкой забавы, отчасти «Англия, моя Англия!», «нигде и никому британцев не сломить!» и прочий хоровой песенный рев. Долго ли он гремел в сердцах? Большинство парней вокруг меня позабыли про все это гораздо раньше, чем мы добрались до Франции. Бойцы в окопах не горели патриотизмом, не пылали ненавистью к кайзеру, не болели душой за маленькую храбрую Бельгию и брюссельских монашек, которых проклятая немчура насилует на столах (почему-то всегда именно «на столах», словно хуже и быть не может). При этом тайных замыслов сбежать у ребят тоже ведь не возникало. Машина полностью и безраздельно владела тобой. Тебя срывало с места и несло куда-то, в самые невообразимые места, и если б даже закинуло на луну, ты бы не слишком удивился. Вот можно ли представить, что после ухода в армию я лишь однажды побывал в Нижнем Бинфилде (приезжал на похороны матери)? Звучит невероятно, но тогда это вышло как-то само собой. В определенной степени из-за Элси, которой я, конечно, месяца через два-три писать перестал. Она наверняка нашла себе еще кого-то, однако очень не хотелось с ней столкнуться. Иначе я, наверно, все-таки добыл бы коротенький отпуск и съездил навестить мать, провожавшую меня в солдаты с сердечным приступом, но, несомненно, испытавшую бы гордость при виде сына в армейском мундире.
Отец умер в 1915-м. Я тогда был во Франции. Признаюсь, мне сегодня от отцовской смерти больнее, чем в те дни. В ту пору я и это принял вестью из череды обычных скверных новостей, почти спокойно, с тупым окопным безразличием. Помню, как выполз на порог блиндажа, чтобы при свете разобрать письмо, помню потеки материнских слез на строчках, ноющую боль в коленях и вонь вокруг. Мать мне писала, что страховой полис отца был заложен за приличную сумму, но на счету денег осталось совсем мало, а «Сарацин» готов выкупить лавку с запасом товара, немного даже приплатив за клиентуру и репутацию. В общем, у нее набирается чуть больше двухсот фунтов, не считая мебели, и сама она пока что поживет в деревне, у кузины, жены счастливо избежавшего призыва мелкого арендатора из Доксли, в нескольких милях от Уолтона. Планы «пока что». Мир стал ощущаться неустойчивым, непостоянным. В старые времена (с конца их едва минул год) подобная ситуация считалась бы кошмарным бедствием. История со смертью отца, продажей магазина и вдовой, оставшейся при паре сотен за душой, увиделась бы длинной душераздирающей трагедией с финальной сценой – похороны нищего. Но война приглушила все людские чувства вплоть до драматичных переживаний потери собственности. Это коснулось даже матери, имевшей о войне понятие весьма смутное. Кроме того, мать (неведомо для нее и тем более для меня) умирала.
Она, однако, добралась до Истборна, чтобы проведать меня в госпитале. Два года я не видел мать, а увидав, испытал некий шок. Совсем она поблекла и как-то усохла. Возможно, мне, повзрослевшему и пошатавшемуся по земле, всякий объект стал видеться в меньшем масштабе, но мать и впрямь ужасно исхудала, сморщилась, вдобавок еще пожелтела. И как всегда, все вперемешку, она начала мне рассказывать про тетю Марту (кузину, у которой проживала), про перемены в Нижнем Бинфилде, откуда всех ребят «позабирали» (то есть призвали воевать), про свои «нелады» с желудком, про плиту на отцовской могиле, про то, каким красивым отец лежал в гробу. Звучал знакомый с детства голос, знакомым образом журчал слегка бессвязный материнский разговор, но будто я слушал призрака. Будто ко мне все это больше не имело прямого отношения. Я знал мать сильной и прекрасной защитницей, одновременно напоминавшей статуи на носах кораблей и зорко стерегущую гнездо наседку, а возле меня примостилась ветхая старушонка в трауре. Все изменилось, все ушло. Мать я тогда видел живой последний раз. Телеграмму о тяжелой ее болезни я получил, учась на офицера в Колчестере, мне тут же предоставили недельный отпуск. Но я опоздал. Приехал в Доксли, когда мать уже скончалась. То, что она и мы, родные, считали несварением желудка, оказалось опухолью, и внезапная простуда довершила дело. Врач, стараясь меня подбодрить, назвал опухоль матери «доброкачественной», что как-то мало подходило для наименования этой мерзости, убившей ее.
Ну вот, похоронили мы ее рядом с отцом, а я бросил последний взгляд на Нижний Бинфилд. За три года произошли большие перемены. Некоторые магазины закрылись, над некоторыми висели новые вывески. Почти все, кого я знавал мальчишками, были на фронте, кое-кто уже погиб. В боях на Сомме убили Сида Лавгроу, а Имбирь Ватсон, тот бродивший с шайкой «Черная рука» фермерский паренек, который без силков умел ловить на лугу кроликов, был убит где-то в Египте. Один из парней, работавших вместе со мной в бакалее Гриммета, лишился обеих ног. Старик Лавгроу, закрыв свою шорную лавку, жил в домике близ Уолтона на крошечную ренту. Зато старый Гриммет, процветая в военное время, сделался ярым патриотом и, как член местного совета, всяко старался усовестить несознательных. Особенно пустынный и сиротливый вид городу придавало практически полное исчезновение лошадей. Всех сколько-нибудь годных коняг давно реквизировали для нужд армии. Одноконный экипаж при станции еще существовал, но тащившая его животина не падала только благодаря упряжи и оглобле. Час-полтора перед похоронами я побродил по улицам, приветствуя знакомых, красуясь своей формой. По счастью, не пришлось столкнуться с Элси. Перемены в городе я видел и как бы не видел. Меня поглощало другое – в основном удовольствие показаться во втором своем армейском, уже офицерском, обмундировании, с траурной повязкой (очень эффектно выглядит на форменном серо-зеленом рукаве), в новеньких габардиновых штанах. Точно помню, что об этих штанах из габардина в рубчик я продолжал помнить и на кладбище. И когда опустили гроб, начали засыпать яму, когда до меня вдруг дошло, что это моей матери теперь навеки лежать глубоко под землей, когда в глазах у меня защипало, в носу хлюпнуло, даже тогда шикарный брючный габардин до конца из сознания не улетучился.
Не думайте, что я не горевал о матери. Я горевал. Я уже не сидел в окопах, был способен опечалиться человеческой смертью. Но о чем я ни капли не грустил, даже не замечал потери, так это о финише всей прежней, окружавшей меня от рождения жизни. После погребения тетя Марта (в гордости за племянника, «настоящего офицера», желавшая выкинуть кучу денег на погребальный ритуал и едва усмиренная мною) уехала на автобусе в Доксли, а я до станции, откуда мне предстояло ехать в Лондон, затем в Колчестер, нанял тот самый, почти единственный в городе, экипаж. Прокатил на нем мимо нашего магазина. Никто его не занял, он стоял заколоченный, витринное окно черно от пыли, «С. Боулинг» на вывеске счищено паяльной лампой и густо замазано грунтовкой. Так, а ведь это дом, где я рос малышом, подростком, юношей, где ползал по полу на кухне, вдыхал запахи травяных семян, читал «Донована Бесстрашного», готовил школьные уроки, делал приманку из хлебного теста, латал велосипедные шины, прилаживал к сорочке свой первый высокий воротничок. Это же было вечным, как египетские пирамиды, а теперь вряд ли я когда-нибудь снова ступлю сюда ногой. Отец, мать, Джо, помогавшие в лавке мальчики, старый наш терьер Удалец и взятый после него Пятнаш, снегирь Джекки, коты наши, мыши на чердаке – все кануло, ничего не осталось, кроме пыли. И ни черта это меня не трогало. Жаль было умершей матери, заодно жаль и беднягу отца, но в мыслях беспрестанно крутилась всякая дурь. Я не без важности, на глазах у всех, катил в кебе (штука мне весьма непривычная), думал о хорошо на мне сидящих новых габардиновых штанах, о своих глянцевых офицерских крагах, столь отличных от грубого солдатского шмотья, о новых своих дружках в Колчестере, об оставленных мне матерью шестидесяти фунтах и о том, как же мы с парнями на них гульнем. И еще я благодарил судьбу, что не попалась навстречу Элси.
Война бог знает что с людьми творила. Еще невероятнее путей, которыми она косила жизни, были пути, которыми она порой оставляла в живых. Словно несется на тебя гигантский морской вал и вот-вот крышка, но вдруг ты откинут в какое-то стоячее болотце, где исполняешь что-то несусветно бессмысленное да еще денежку за это получаешь. Существовали трудовые батальоны, строившие через пустыню дороги невесть куда, существовали отряды дозорных на океанских островках, чтобы высматривать давно потопленные немецкие крейсера, существовали укомплектованные целыми армиями клерков и машинисток департаменты, утратившие былые функции, но продолжавшие функционировать исключительно по инерции. Людей пихали на донельзя нелепые служебные места, после чего начисто о них забывали. Так вот случилось и со мной; в ином раскладе мне, пожалуй бы, не выжить. История вообще довольно любопытная.
Вскоре после моего производства в чин поступил запрос на офицеров для службы снабжения. Старлей офицерской школы, зная, что я соображаю насчет бакалейных дел (свой опыт за прилавком я никогда не скрывал), сразу посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Меня признали подходящим, но только я собрался ехать на курсы снабженцев, как новый запрос – молодой офицер с опытом бакалейной торговли требовался в секретари сэру Джозефу Чиму, большой шишке Военснаба. Почему выбрали меня, загадка, но выбрали именно меня (я до сих пор думаю – просто с кем-то перепутали). Три дня спустя я появился пред очи сэра Джозефа. Это был сухопарый старикан с эффектной сединой и аристократично внушительным носом. Он произвел на меня впечатление: смотрелся истинным старым воякой, кавалером орденов СМ, СГ и ЗБС[37]37
Имеются в виду воинские ордена Святого Михаила, Святого Георгия и «За боевые заслуги».
[Закрыть], прямо-таки оперный герой с гастрольных афиш Решке[38]38
Ян Мечислав (Жан де) Решке (1850–1925) – всемирно знаменитый польский оперный певец, исполнитель партий героико-романтического репертуара.
[Закрыть], хотя вообще-то был директором одной из крупных бакалейных компаний и пользовался популярностью в мире коммерции как знаменитый Чим – Зажим Зарплаты. Когда я вытянулся на пороге его офиса, он перестал писать и глянул на меня:
– Вы джентльмен?
– Никак нет, сэр.
– Что ж, прекрасно. Есть надежда, что получим работника.
За пару минут он выпытал, что делопроизводства я не знаю, стенографии не знаю и на машинке печатать не умею, что служил младшим продавцом со ставкой двадцать восемь шиллингов в неделю. И тем не менее он меня взял, пояснив, что чересчур много господ в чертовой армии, а ему нужен человек, способный не только считать до десяти. Такой начальник мне понравился, и я нацелился на него поработать, однако тут же вновь вмешались разлучившие нас силы таинственной верховной власти. Формировалось (или явилось намерение сформировать) нечто под названием Оборонительный корпус западного побережья, в связи с чем возник грандиозный замысел оснастить ряд береговых пунктов складами продовольствия и прочих хозяйственных запасов. Ответственность за реализацию этой затеи в далекой от каких-либо фронтов корнуоллской глухомани была возложена на сэра Джозефа. Итак, через сутки службы под его началом меня отправили для инспекции резервных запасов на север Корнуолла, в пункт, обозначенный на военных картах как «Полевой склад двенадцатой мили». Точнее, мне предстояло выяснить, имеются ли там вообще какие-либо склады и запасы, насчет наличия которых многие сомневались. И только я прибываю на место, обнаруживаю, что все резервы состоят из одиннадцати банок говяжьей тушенки, как получаю телеграмму военного управления с приказом принять склад и оставаться при нем до дальнейших распоряжений. Я в ответ телеграфом: «Запасов на данном складе не имеется», – но поздно. На следующий день уже штабной приказ о назначении меня старшим офицером Полевого склада двенадцатой мили. Собственно, здесь истории конец, поскольку до конца войны я просидел на этой самой двенадцатой миле командиром этого самого склада.
Что сие означало, я так и не понял. Не знаю даже, в самом деле организовывали Оборонительный корпус западного побережья или лишь собирались. Да и стремления тогда не было узнать. В любом случае чистейшая фикция. Думаю, нарисовавшийся в чьих-то мозгах из-за туманных толков о возможном вторжении немцев через Ирландию смутный проект некой береговой цепи армейских складов. Лопнувшая как мыльный пузырь чья-то фантазия, которую пообсуждали денька три и позабыли, и меня вместе с ней. Одиннадцать банок тушенки мне достались от уже обживавшей данный пункт неведомой офицерской миссии. Еще в наследство мне остался (для чего, непонятно) глухой как тетерев старик – рядовой Лиджберд. Поверите ли вы, что я там сторожил одиннадцать банок тушенки с середины 1917-го до начала 1919-го? Поверить невозможно, но так было. И даже не казалось особо удивительным. К 1918-му люди отвыкли ждать от жизни чего-либо разумного.
Раз в месяц мне присылали огромную ведомость, где требовалось указать количество и состояние хранимых мною заступов, саперных лопаток, мотков колючей проволоки, аптечек, одеял, водонепроницаемых подстилок, листов рифленого железа, банок сливового и яблочного джема. Аккуратно проставив в каждой графе нули, я отсылал ведомость обратно. И ничего. В Лондоне кто-то деловито регистрировал мою бумагу, рассылал новую учетную документацию, вновь регистрировал, вновь рассылал… Порядок безупречный. Таинственные власти, руководившие войной, забыли обо мне, а я сановную их память не тревожил. Сидел себе в дремучем уголке и после двух окопных лет во Франции избытком патриотического рвения не страдал.
Это была пустынная часть побережья, где ни души не встретишь, кроме горстки темного местного люда, лишь краем уха слышавшего, что идет война. В четверти мили, за холмом, бурлило море, катя на песчаные просторы высокие тяжелые валы. Девять месяцев в году лил дождь, оставшиеся три – дул шквалистый ветер с Атлантики. Личный и материальный ресурс полевого склада состоял из рядового Лиджберда, меня самого, пары армейских времянок (в одной из них, благопристойно «двухкомнатной», проживал я) и одиннадцати банок тушенки. Из Лиджберда, угрюмого сыча, я насчет его самого смог вытянуть лишь то, что в мирной жизни он был садовником и торговал растениями. И поразительно, как быстро он вернулся к возне с тяпкой. Еще до моего приезда вскопал за домиком кусок земли и посадил картошку, осенью пахоту свою расширил и в итоге разделал грядок на пол-акра; с начала 1918-го завел кур, и летом у него уже кудахтала целая стая, а к концу года у него невесть откуда взялся откормленный кабанчик. Не думаю, что его сильно занимало, какого дьявола мы там торчим и существует ли на деле Оборонительный корпус западного побережья. Не удивлюсь также, если услышу, что Лиджберд все еще на территории того берегового пункта, растит картофель и откармливает поросят. Хотелось бы надеяться. Желаю удачи старику.
Тем временем я тоже нашел себе дело, которым и мечтать не мог заниматься на службе с утра до вечера, – чтение.
Офицеры-предшественники оставили кой-какие книжки, в основном дешевые издания модного в те годы чтива из-под пера таких авторов, как Йен Хэй, Сэппер, Крейг Кеннеди. Однако был среди тех офицеров некто, кто знал, какие сочинения читать стоит, какие – нет. Сам-то я ни черта еще в этом не смыслил. Если по своей охоте, так читал только детективы и разок одну непристойную книжонку. Я и сейчас не строю из себя большого умника, а спроси вы меня тогда относительно «настоящей» литературы, я бы назвал новеллу Кейна «Женой Ты наградил меня» или же (в память о викарии из Общества книголюбов) эссе Рёскина «Сезам и Лилии». Во всяком случае, к литературе «настоящей» меня нисколько не тянуло. Но на пустынный берег рушились бурные волны, за окном хлестал ливень, делать мне было абсолютно, ну абсолютно нечего, а напротив меня, на кем-то приколоченной к стене полке, стояли в ряд книги. Естественно, я начал их читать с края до края, все подряд, интересуясь выбором не больше хрюшки, трескающей месиво из кухонных объедков.
И вот на этой полке оказалось несколько книг, от прочих отличавшихся. Да нет, вы не подумайте! Нет, не открылась мне внезапно проза Марселя Пруста или Генри Джеймса. Этакие заумные шедевры я б и читать не стал. Произведения, о которых идет речь, были попроще. Но нас ведь всегда поражает книга, что вровень с нашим на тот момент развитием, настолько вровень, что кажется: написали лично для тебя. Первым из этих книжных потрясений стала «История мистера Полли» Герберта Уэллса, рассыпавшееся на страницы карманное издание в мягкой обложке. Вы можете представить, что такое вырасти сыном мелкого торговца в провинциальном городке и натолкнуться на подобную «Историю»? Затем «Мрачная улица» Комптона Макензи. Вокруг этой вещи перед войной поднялся шум, отголоски скандала долетали аж до Нижнего Бинфилда. Затем «Победа» Конрада. Тут я на некоторых главах поскучал, но такие романы заставляют мозги работать. Имелся также старый номер какого-то журнала в синей обложке, где был напечатан рассказ Д.Г. Лоуренса. Забыл название. Про немецкого новобранца, который спихнул старшего сержанта через бруствер и дал деру, а потом сцапали парня в спальне у подружки. Объяснить себе, чем это брало, я не умел, но захотелось почитать еще что-нибудь вот такое.
Ладно, начал я пожирать книги, словно действительно изголодался. Впервые так упивался чтением после блаженных дней с бесстрашным Диком Донованом. Причем вначале не знал даже, как подступиться к утолению книжной страсти. Думал, что книгу можно получить, только купив. Забавно, а? Вот где видна разница в воспитании. Думаю, в семействах среднего класса (от пяти сотен годовых и выше) ребенку с колыбели все известно насчет «Мьюди» и «Таймс бук клаба»[39]39
Речь идет о частных общедоступных передвижных библиотеках с небольшой годовой платой абонентов («Мьюди» и ряд др.) и системе «книжных клубов», когда издательские фирмы высылают подписчикам книги по сниженным ценам.
[Закрыть]. Ну, чуть позже я разобрался, освоил библиотечную систему, стал постоянным абонентом и «Мьюди», и городской библиотеки в Бристоле. И как же я весь следующий год читал! Уэллс, Конрад, Киплинг, Голсуорси, Барри Пейн, Вильям Джекобс, Пэт Ридж, Оливер Онионс, Комптон Макензи, Генри Сетон-Меримен, Морис Баринг, Стивен Маккенна, Мэй Синклер, Арнольд Беннет, Энтони Хоуп, Элинор Глин, О. Генри, Стивен Ликок, даже Сайлас Хокинг и Джин Страттон Портер. Интересно, сколько имен вам тут известно? Половину из этих авторов, воспринимавшихся большими, серьезными писателями, теперь забыли. Но я глотал все их творения, как кашалот в гуще креветок, и мне ужасно нравилось. Позже, конечно, понабрался кой-чего, стал отличать художество от хлама. С интересом, хотя и не взахлеб, прочел «Сыновей и любовников» Лоуренса и просто обалдел от «Дориана Грея» Уайльда, от «Новых сказок Шехерезады» Стивенсона. Больше всего на меня действовал Уэллс. Понравилась «Эстер Уотерс» Джорджа Мура. А вот романы Харди начинал и всегда застревал на середине. Пытался даже читать Ибсена, от которого осталось лишь смутное впечатление, что в Норвегии вечно дождь.
Странно, ей-богу. И тогда это меня поразило. Малый, всего четыре года назад в белом фартуке резавший сыр клиентам, мечтавший о собственной бакалее и все еще прилагавший немало усилий, дабы говорить правильно, я уже видел разницу между Арнольдом Беннетом и Элинор Грин. Так что, подбивая итог, надо признать, что война принесла мне сколько вреда, столько и пользы. Во всяком случае, по части познаний тот год запойного чтения стал моим единственным университетом. Мозги определенным образом зашевелились. Полезли в голову сомнения, какие-то вопросы, которые вряд ли возникли бы вдруг у меня в нормальном, здравом житейском распорядке. Хотя – поймете ли вы это? – самое сильное влияние оказали все-таки не книги, а идиотская нелепость моего тогдашнего существования.
Абсурдным до предела был тот мой, 1918-й, год. Где-то далеко-далеко, во Франции, грохотали орудия и несчастных ребят с мокрой от страха мошонкой, спокойно, будто уголек в печку подкидывая, гнали под пулеметный огонь, а я посиживал у камелька в армейской тыловой хижине да почитывал романы. Мне повезло. Я выпал из поля зрения начальства, забился в уютной щели и получал довольствие за то, что ничего не делал. Время от времени я впадал в панику, ждал, что сейчас обо мне вспомнят и вытащат из норы, но ничего подобного не случилось. Приходила ведомость на шершавой серой бумаге, я ее заполнял и отсылал обратно, через месяц мне опять ведомость, а я опять ее обратно, через месяц снова… так оно и шло. Смысла как в бреднях сумасшедшего, не больше. Результат всего этого (плюс прочитанные книжки) – во мне появилось недоверие.
Не у меня одного. Полно было в войну всяких щелей и стоячих болот. Целые армии гнили на каких-то фронтах, забытых Богом и людьми. Тучи клерков и машинисток военных департаментов отрабатывали свои два фунта в неделю, громоздя горы ненужных бумажек (отлично, между прочим, зная, что ничего, кроме бумажных куч, они не производят). Никто уже не верил басням о германских злодеяниях в маленькой храброй Бельгии; солдаты симпатизировали немецким парням и терпеть не могли французов. Каждый младший офицер полагал Генеральный штаб сборищем дебилов. Волна недоверия побежала по Англии, докатившись даже до Полевого склада двенадцатой мили. Не то чтобы война всех превратила в интеллектуалов, но она повернула народ к нигилизму. Люди, что в мирной, нормальной жизни имели склонность размышлять о своих судьбах не больше чем о пудингах к чаю, сделались прямо-таки коммуняками. Кем бы я стал, не разразись война? Не знаю, но уж не таким, как получилось. Если человек чудом выживал на этой бойне, в мыслях у него обязательно начиналось брожение. Наглядевшись на жуткий, идиотский кавардак, ты переставал воспринимать систему чем-то вечным и безусловным, как египетские пирамиды. Ты уже видел – сплошная хренотень.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































